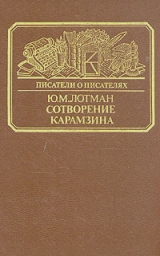
Текст книги "Сотворение Карамзина"
Автор книги: Юрий Лотман
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)
ПРОГРАММА: ПРОГРЕСС И НЕЗАВИСИМОСТЬ
Как ни менялись воззрения Карамзина на протяжении его жизни, идея прогресса оставалась их прочной и постоянной основой. Выражалась она в представлении о непрерывности совершенствования человека и человечества. Не случайно, при всей существенности влияния «красноречивого» (выражение Карамзина) Руссо на «чувствительного» Карамзина, идеи Вольтера сыграли более значительную роль для «русского путешественника» и будущего автора «Истории государства Российского». Само содержание понятия «прогресс» менялось во времени, да и в один и тот же момент, в силу своей неопределённости, могло получать разный смысл. Оно могло означать непрерывность развития просвещения, наук и знаний в истории человечества, закономерность изменения понятий, оправданность эволюции языка, веру в рост начал гуманности и терпимости. Акцент мог ставиться на успехах цивилизации, включая рост комфорта или вежливости, или на совершенствовании душевных качеств отдельной человеческой личности. Однако все это были различные грани одной и той же идеи, основные же ее постулаты: представления об улучшении человека и человечества, о закономерности поступательного развития, о единстве исторического пути различных народов – оставались неизменными. Это был тот просветительский оптимизм, который наиболее полно выразил Кондорсе в «Опыте исторической картины прогресса человеческого разума», труде, написанном в 1793 году, когда сам автор был объявлен вне закона и скрывался в тайном убежище, чтобы спастись от смерти, избежать которой ему все равно не удалось. И как картины кровавой политической борьбы, свидетелем которой он в этот период был, и тень гильотины, нависшая над его собственной судьбой, не могли поколебать историческогооптимизма Кондорсе, так кровавые события революций и войн, свидетелем которых Карамзин стал, приглашенный «как собеседник на пир» истории, не могли в его глазах опорочить самое идею прогресса. Он мог переживать минуты отчаянья и сомнений, периоды пессимизма, но идея прогресса, в конечном счете, все равно торжествовала, как ultima ratio, в форме утверждения, что пути, по которым Провидение ведет человечество к высокому совершенству, остаются для людей тайной.
Идея прогресса органически связывалась с проблемой личности. Связь двух этих начал могла выражаться в философских размышлениях об отношении общего и частного, в дискуссиях о соотношении государственного начала и личной свободы. Она лежала в основе политической эволюции Карамзина и его разногласий с юным Пушкиным и Вяземским, критики, которой подвергали концепцию Карамзина декабристы.
Политические воззрения Карамзина изучены достаточно хорошо и, как самостоятельная тема, лежат вне плана данной книги. И все же один аспект ее необходимо отметить, тем более что он органически связан с биографической проблемой формирования личностиписателя и слишком часто смешивается с общей характеристикой его идейной позиции. Проблема политической свободы никогда не сливалась для Карамзина с проблемой личной независимости. Если политическая свобода определялась для него как отношение человека к государству, и здесь, в определенные моменты, он склонен был признавать приоритет государства как выразителя общих интересов, то независимость – право человека думать и говорить то, что думает, одеваться и вести тот образ жизни, который ему свойствен, иметь своюсистему ценностей, не отчитываться в своих эстетических или моральных предпочтениях ни перед кем, кроме своего Разума и Бога, быть самим собой – была для него неотъемлемой от самого понятия человек.Если отказ от политической свободы, в определенных условиях, – героическая жертва, которую гражданин приносит общей пользе, то отказ от личной независимости, отказ от себяпревращает человека в раба.
Карамзин высоко ценил свою личную независимость и ни ради чего ею не поступался. Он мог огорчить либерального Александра I своими консервативными суждениями, а Аракчеева – нежеланием нанести ему визит, но не мог сказать не то, что считал истиной.
Защита своей независимости порой заставляла мягкого по характеру Карамзина совершать поступки, которые воспринимались как вызов и плодили ему врагов. Так, например, не следует забывать, что ранний выход в отставку не был в ту пору нейтральным или незаметным поступком. Если он прощался юному магнату, владельцу тысяч душ, то со стороны «нищего» (по представлениям той поры) молодого офицера такая «беспечность» и презрение к общепринятым путям воспринимались как вызов. Общество не любит тех, кто уклоняется от торных дорог. Для Карамзина 1790-х годов это стало жизненным принципом. Напомним, что, когда Новиков на листе допроса написал, что вышел в отставку гвардии поручиком, то Екатерина II сбоку приписала: «Можно сказать, что нигде не служил, и в отставку пошел молодой человек… следовательно, не исполнил долгу служением ни государю, ни государству» [292]292
Цит. по: Новиков Н. И. Избр. соч. М.; Л., 1951. С. 606.
[Закрыть]. Карамзин же дерзко бравировал ранней отставкой, поместив в «Послании к женщинам» стихи:
Поскольку Минерва – общепринятая в поэзии тех лет персонификация Екатерины II, дерзость этого стиха превосходила все допустимое [294]294
В следующих изданиях, выходивших уже после смерти Екатерины, Карамзин изменил стих на: «Россия, торжествуй…», что также звучало очень смело.
[Закрыть]. Столь же вызывающей демонстрацией была публикация в «Московском журнале» оды «К милости» в защиту Новикова и его друзей. При этом следует подчеркнуть, что Карамзин уже идейно и лично разошелся с этим кругом и слышал от бывших наставников только едкие насмешки. Да и сам он был под подозрением по делу московских масонов. Казалось бы, ни честь, ни соображения простого благоразумия не требовали демонстрировать близость, которой уже не было. Но чувство независимости порой презирает «благоразумие».
Погодин, с характерной для него нечуткостью, недоумевал, «каким образом и. Екатерина, следившая зорко за всеми явлениями литературы, принимавшая даже сама деятельное участие в ее успехах, не обратила своего внимания на Карамзина». И заключал: «Невнимание должно было огорчать и смущать Карамзина» [295]295
Погодин М. П. Указ. соч. Т. 1. С. 214.
[Закрыть]. Трудно быть дальше от истины!
Подобные демонстрации Карамзин устраивал не только при Екатерине II, но и в гораздо более опасное время – при Павле. Когда московский военный губернатор Иван Архаров (в отличие от своего брата, знаменитого сыщика Николая Архарова, он пользовался в Москве популярностью) неожиданно подвергся опале и дом его на углу Пречистенки и Старой Конюшенной наполнился солдатами, которым было приказано в 24 часа отвезти несчастного в тамбовское имение (всего несколько месяцев назад он получил чин генерала-от-инфантерии и на коленях благодарил императора за пожалование Ордена Александра Невского), собравшаяся толпа с изумлением увидела, что к дому подкатила коляска, из которой вышел молодой человек с большим мешком. Это был Карамзин, который привез опальному генералу запас книг, «дабы в ссылке иметь ему развлечение чтением» [296]296
Архив кн. Воронцова. М., 1879. Т. 14. С. 507–508; ср. Архив кн. Воронцова. Т. 32. С. 273.
[Закрыть]. Поступок был настолько неожиданным, что превратился в своего рода легенду.
Вот еще один пример «неосторожного» поведения Карамзина: во многих работах о Карамзине повторяется описание эпизода, который случился после возвращения писателя из-за границы в доме Державина. Вот его изложение: «Когда Карамзин, возвращаясь из своего заграничного путешествия, три недели оставался в Петербурге (в сентябре 1790 года), то Дмитриев ввел его в дом Державина. Поэт пригласил приезжего к обеду. За столом Карамзин сидел возле любезной и прекрасной хозяйки. Между прочим речь зашла о французской революции; Карамзин, недавно бывший свидетелем некоторых явлений ее, отзывался о ней довольно снисходительно. Во время этого разговора Катерина Яковлевна несколько раз толкала ногою своего соседа, который однако ж никак не мог догадаться, что бы это значило. После обеда, отведя его в сторону, она ему объяснила, что хотела предостеречь его, так как тут же сидел П. И. Новосильцов, петербургский вице-губернатор (некогда сослуживец Державина). Жена его, рожденная Торсунова, была племянницей М. С. Перекусихиной, и неосторожные речи молодого путешественника могли в тот же день дойти до сведения императрицы» [297]297
Державин Г. Р. Соч. / С объясн., примеч. Я. Грота. Спб., 1880. Т. 8. С. 606–607.
[Закрыть].
Эпизод этот вполне достоверен: он дошел до нас в двух пересказах – Блудова и Сербиновича. Оба, видимо, восходят к самому Карамзину. Однако некоторые, до сих пор еще не сделанные, несмотря на частое цитирование, комментарии к нему представляются необходимыми. Прежде всего следует отметить ошибочную датировку эпизода. Она основана на том, что публикаторы (а дата принадлежит им) исходили из времени возвращения, указанного в «Письмах русского путешественника». Но, как мы теперь знаем, даты там сдвинуты: реально Карамзин вернулся в столицу 15 июля 1790 года. Поскольку сведение о том, что в Петербурге он пробыл около трех недель, подтверждается, то время, когда могла произойти встреча с Державиным, следует отнести к 16 июля – 8 августа. Вероятнее всего, она состоялась в конце июля или в начале следующего месяца.
О чем говорил в это время Петербург?
В то время, когда Карамзин плыл из Лондона в Кронштадт, в Петербурге, в Петропавловской крепости, Степан Шешковский (которого Пушкин называл «кровавым» и «домашним палачом кроткой Екатерины» [298]298
Пушкин А. С. Указ. соч. Справ. т. С. 58; Там же. Т. 11. С. 16.
[Закрыть]) допрашивал Радищева. 15 июля, в день возвращения Карамзина на родину, Палата уголовного суда начала рассмотрение дела автора «Путешествия из Петербурга в Москву». 24 июля Палата вынесла смертный приговор, который на следующий день был представлен в сенат для утверждения. 7 августа сенат утвердил решение Палаты.
Таков был фон, на котором происходил обед в доме Державина. В Петербурге были потрясены, поскольку никто не ждал, что дело примет такой крутой оборот. Из письма А. А. Безбородко В. С. Попову от 16 июля видно, что тот самый Безбородко, который подписал жестокое решение Государственного Совета по делу Радищева, вначале не считал его столь важным. Казнь за книгу, к тому же прошедшую цензуру, была в России вещью совершенно неслыханной. Но скоро стало ясно, что императрица смотрит на дело иначе и что Радищева ждет жестокое наказание. В высших правительственных сферах появление «Путешествия из Петербурга в Москву» связывали с событиями во Франции. В том же письме Безбородко писал, что Радищев, «заразившись как видно Франциею, выдал книгу». Для того, чтобы судить о мере осведомленности Карамзина в радищевском деле, надо помнить, что, вероятно, Карамзин привез письмо от С. Р. Воронцова к его брату Александру Романовичу, бывшему другом и покровителем Радищева и не покинувшему его в беде. Но если даже письма не было, то после лондонских контактов визит к А. Р. Воронцову был минимальным жестом вежливости. Кроме того, в Петербурге находился в это время Зиновьев, бывший в самом центре дружеских связей Воронцова, Радищева, Кутузова и Карамзина.
Волнения не обошли дом Державина: Радищев прислал Державину в знак уважения экземпляр «Путешествия из Петербурга в Москву», и «певец Фелицы» был сильно встревожен этим. Он не только поспешил передать крамольную книгу властям предержащим, но и написал на Радищева злую эпиграмму, в которой именовал его «русский Мирабо». В этих условиях разговоры о Французской революции приобретали особый смысл. Обычная интерпретация этого эпизода такова: молодой путешественник, привыкший за границей не сдерживать язык, не сориентировался в обстановке и попал в смешное положение. Как мы видели, трудно предположить, чтобы Карамзин не знал о событиях, волновавших его близких знакомых и весь литературный и политический Петербург. Если же Карамзин был в курсе обстановки, то версию о простаке-путешественнике следует решительно отбросить: мы видели, как умело и безошибочно он ориентировался в самых различных общественно-культурных кругах во время путешествия. Ум и такт, глубоко свойственные Карамзину, на всем жизненном пути помогали ему неизменно находить нужный тон и безошибочно выбирать тип поведения. Предполагать, что эти качества вдруг изменили ему в державинском доме, у нас нет оснований. А в таком случае приходится предположить, что Карамзин сознательно шокировал своих собеседников, следуя избранной им методе независимого поведения.
Не менее существенным в вызывающе независимой позиции Карамзина была шокирующая откровенность в трактовке им любовной тематики. К концу XVIII века лирика накопила уже обширный арсенал выразительных средств. Сложились устойчивые каноны элегии, песни и других лирических жанров. И, что особенно важно, определилась структура отношений поэтико-эротического текста к реальным чувствам и вообще к миру действительных любовных отношений.
Все теоретики XVIII века вслед за Буало повторяли, что любовная лирика должна отражать непосредственные чувства поэта:
Однако в реальности отношения поэзии и жизни строились не так прямолинейно. В основе этого отношения лежала оппозиция условного – безусловного. Мир любовной поэзии имел свои четкие границы, отделяющие его от жизни, свой поэтический язык, систему образов, узаконенных чувств. Только перевод внутренних переживаний поэта на этот условный язык открывал им дорогу в мир стихотворения. По мере того, как средства, строившие жанр лирики, застывали, превращаясь в повторяющиеся из элегии в элегию формулы, отношение поэзии к жизни делалось все более условным. Соблюдение этой условности воспринималось как обязательное приличие, в то время как нарушение ее казалось выражением нескромности, неприличной разнузданности чувств. Реальным чувствам отводилась область интимного, поэзии – публичного. Для того, чтобы реальные эротические переживания сделать предметом поэзии, из них надо было изгнать «неприличную» интимность, перевести глубоко личные чувства на язык жанровых формул.
Карамзин демонстративно приравнял интимное открытому и гласному. Его любовные признания в стихах и прозе, произносимые печатно со страниц периодических изданий и сборников, воспринимались как скандальные именно потому, что грань между интимным и литературным публично отменялась. С одной стороны, внесение в реальной любовный быт литературных имен и моделей – так в реальной жизни Карамзина появляются «Аглаи» и «Нанины», а с другой – превращение реальных признаний в литературный жанр.
Читатели были убеждены, что все нежные признания, которые в изобилии попадались им на страницах карамзинского текста, как бы вырываются из литературы в область действительности. Это создавало Карамзину успех среди читательниц и молодежи и одновременно раздражало литераторов и критиков как нескромное нарушение приличий.
Когда Карамзин завершил «Послание к женщинам» стихами:
Нанина! десять лет тот день благословляю,
Когда тебя, мой друг, увидел в первый раз;
Гармония сердец соединила нас
В единый миг навек…
Но знай, о верный друг! что дружбою твоей
Я более всего горжуся в жизни сей
И хижину с тобою,
Безвестность, нищету
Чертогам золотым и славе предпочту.
Что истина своей рукою
Напишет над моей могилой? он любил,
Он нежной женщины нежнейшим другом был! [300]300
Карамзин H. M. Полн. собр. стихотворений. С. 178–181.
[Закрыть]—
то даже Державин, который, казалось бы, сам склонен был сообщать в стихах сокровенные подробности своего быта, нашел, что Карамзин перешел границу допустимого, поверяя читателям слишком интимные переживания своего сердца. Он ответил на стихотворение эпиграммой:
ДРУГУ ЖЕНЩИН
Говоря об этой стороне литературно-биографической позиции Карамзина 1790-х годов, необходимо иметь в виду еще одно: литература, посвященная темам любви, – как поэзия, так и проза, – обладала в XVIII веке устойчивым, но весьма ограниченным набором сюжетных ситуаций: это были счастливая, несчастливая любовь, измена, соперничество и еще некоторые, многократно повторявшиеся положения. Такие темы, как «падение» женщины, самоубийство от любви, любовный треугольник или инцест, оказывались вне литературной любви, которая напоминала сборник шахматных этюдов. Карамзин (следуя за Руссо и предромантической литературой) широко вводил в свои произведения тематику «заблуждения сердца». В просветительском духе любовь, как естественное чувство (даже если это любовь брата к сестре, как в «Острове Борнгольм»), оказывалась выше бесчеловечной аскетической морали. Читатели 1790-х годов воспринимали это как головокружительную смелость автора.
В 1833 году в статье «Клятва при гробе Господнем. Соч. Н. Полевого» Александр Бестужев-Марлинский мог вдоволь смеяться над «Бедной Лизой»: «Карамзин привез из-за границы полный запас сердечности, и его «Бедная Лиза», его чувствительное путешествие, в котором он так неудачно подражал Стерну, вскружили всем головы. Все завздыхали до обморока; все кинулись < …>топиться в луже» [302]302
Бестужев-Марлинский А. А. Соч.: В 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 589.
[Закрыть]. Это говорит лишь о быстром развитии русской литературы и потому – быстрой потере понимания предшествующих эпох. Между тем, даже если не касаться социальной проблематики «Бедной Лизы», нельзя забывать, что самоубийство было категорически осуждено церковью. То, что добровольная гибель героини не вызывает у автора никакого осуждения, уже само по себе было «модным» взглядом, более связанным с «Вертером», чем с традиционными представлениями. И уж совсем неожиданными были заключительные слова: «Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы там,в новой жизни увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!» [303]303
Карамзин H. M. Соч. Т. 3. С. 24.
[Закрыть]. Современные нам читатели не чувствуют степени вызывающей кощунственности этих слов, в которых «новую жизнь», т. е. душевное спасение, Карамзин своей волей дарует самоубийце, окончившей жизнь без покаяния и похороненной в неосвященной земле. Самый вид самоубийства, избранный бедной Лизой, – утопление в пруду – вызывал определенные ассоциации, ведущие скорее к предромантической литературе, чем к русскому быту. Исследовательницы парижских салонов XVIII века, отмечая интерес к «сплину» как черте национальной оригинальности и английского «местного колорита» в литературных кругах Парижа конца XVIII века, пишут: «У барона Гольбаха в салоне весьма гордились тем, что залучили к себе некоего неврастеника отца Хупа и учились у него, в чем заключается «сплин» – странная болезнь англичан. Вернувшись из Англии, барон разъяснял завсегдатаям салона, что скука часто приводит англичан «в Темзу, если они не предпочитают зажать между зубов дуло пистолета», и что «в Сен-джемсском парке имеется специальный пруд, на который дамы имеют исключительную привилегию: тут они топятся» [304]304
Glotz Marguerite, Maire Madeleine. Salon du XVIIIe siecle. Paris, 1949. P. 36.
[Закрыть]. Со сплина, который довел англичанина до самоубийства, Карамзин начал описание Англии (Пушкин пересказал это место в «Евгении Онегине»), о нем же подробно писал автор «Россиянина в Англии».
Можно было бы привести еще много примеров сознательной необычности как суждений, так и поведения Карамзина в начале его литературного пути. Однако следует подчеркнуть, что внутренняя независимость и оригинальность как мерило ее органически связывались для Карамзина со служением прогрессу. Здесь кончалось внешнее сходство со щеголем и сказывался «новиковский заквас». Однако одновременно проявлялось и глубокое различие: Карамзин не верил в спасительность назиданий и проповедей. Возвышению человека служит искусство. Только оно развивает душу и распространяет добро не как внешний императив, а как внутреннюю потребность. Нравы улучшаются романами, а не нравоучениями, словом художника, а не проповедью аскета или рассуждениями педанта. Отсюда двойной парадокс: Карамзин против того, чтобы смотреть на искусство как на прикладную мораль, но именно такое, свободное от морализаторства искусство и способно морально воспитывать читателя. Искусство должно быть беззаботным, светским, приятным дамам и свободным от всякого педантизма, и тогда оно сделается серьезной культурной силой.
Это определило и человеческую позицию писателя:
так определил Карамзина Державин – и одновременно: труженик, профессиональный журналист, потом историк, человек, которого окружала слава «ахалкина» и «сердечкина» и который был одним из наиболее трудолюбивых, непрерывно работающих писателей. И еще одна черта – популяризатор, всегда имеющий в виду воспитание читателя, но воспитание, искусно скрытое от воспитуемого изящной игрой, кажущимися «безделками».








