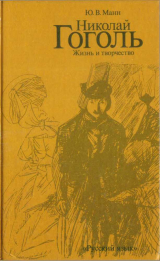
Текст книги "Николай Гоголь. Жизнь и творчество"
Автор книги: Юрий Манн
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
Что же нужно было Г оголю? И наименование полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до сапогов; и описание свадьбы, включая малейшие подробности; и отчёт о всевозможных народных поверьях и обычаях, например об Иване Купале*, о русалках; и сведения из прошлого, вроде описания платья, носимого "до времён гетманских"*.
Трудно сказать, возникло ли тогда у Гоголя намерение создать цикл повестей; но то, что один-два замысла конкретных произведений уже забрезжили в его сознании, показывает характер просьбы. Показывает целенаправленность, с какой осуществляются поиски и отбор материала.
И действительно, забегая вперёд, можно увидеть, что почти все, если не все, испрашиваемые Гоголем сведения нашли применение в его повестях: в "Ве́чере накануне Ивана Купалы", в "Страшной мести" и других.
В течение следующих лет Гоголь вынашивает, а частично и пишет задуманные повести ("Бисаврюк…" – начальная редакция "Ве́чера накануне Ивана Купалы" – была их первой ласточкой), пишет наряду с другими произведениями, учёными или беллетристическими, находившимися пока на первом плане. Такова вообще особенность работы Гоголя, заключающаяся в одновременности его творческих усилий. Новые замыслы наслаивались на старые, то обгоняя их, то уступая им дорогу.
"Вечера́ на хуторе близ Диканьки" обогнали другие замыслы. Вернее сказать, "Вечера́…" их оттеснили, благодаря своей значительности, найденному новому поэтическому тону. Ни лиризма, ни серьёзности Гоголь в своей новой книге не оставил, но он придал им совершенно необычный колорит, представил в каком-то неожиданном сочетании элементов. В том сочетании, которое полнее всех, пожалуй, определил Пушкин.
"Сейчас прочёл Вечера́ близ Диканьки, – писал Пушкин. – Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! какая чувствительность! Всё это так необыкновенно в нашей нынешней литературе…"
Итак, "поэзия" и "чувствительность" возникли на юмористической основе; в море смеха сверкали искры патетики, и всё это было подлинным, неподдельным. Впервые в опубликованном произведении Гоголь дал простор своему комическому таланту – и добился успеха.
Но "Вечера́ на хуторе близ Диканьки" явились книгой не только юмористической, но и народной, что, впрочем, было взаимосвязано. Связь закреплялась уже само́й фигурой, сами́м обликом мнимого издателя. Ведь "собрал" все эти рассказы балагур и весельчак Рудый Панько, простой пасечник, крестьянин, происходящий из милой Гоголю Диканьки, овеянной историческими преданиями и народными поверьями.
Само понятие "малороссийского", то есть "украинского", ощущалось в те годы почти как синоним народного. Ведь исторически Украина, во главе с Киевом, была матерью российской государственности, заветным ковчегом* русской народности, как выразился один из критиков. Считалось, далее, что в силу ряда причин Украина полнее сохранила определённость национальных обычаев и нравов, яркость народной физиономии. Наконец, важно было и положение Украины: по отношению к центральной России, к её старой и новой столицам она являлась вроде бы "глубинкой", далёкой заштатной провинцией.
Для Гоголя последнее обстоятельство имело особенное значение. Ведь он писал свою книгу в холодном, казённом, меркантильном Петербурге. И его воображение улетало в далёкий родной край, с тем чтобы согреться и почерпнуть живительную силу. А воображение его героя пасечника Рудо́го Панька́ проделывало противоположный путь: в своей Диканьке задумывается он над тем, как будет принято в столице его детище, и ожидание не предвещает ему ничего хорошего: "…нашему брату, хуторянину*, высунуть нос из своего захолустья в большой свет – батюшки мои! Это всё равно́, как случается, иногда зайдёшь в покои великого пана*: все обступят тебя и пойдут дурачить… "Куда, куда, зачем? пошёл, мужик, пошёл!…"
Вот с таких позиций смотрел Рудый Пань-ко, а значит и Гоголь, на издаваемую книгу! С позиций "мужика", или, во всяком случае, простолюдина, простого "хуторянина", нежданно-негаданно втёршегося в благородное, избранное общество.
В большом свете, по убеждению Рудного Панька, правят скука, жеманство, чопорность: "На балы если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку". В мире же героев "Вечеров…" всё наоборот: господствуют сильные страсти и искренность. Рассказывается ли о любви Параски и Грицько в "Сорочинской ярмарке", Гали и Левко в "Майской ночи", или других па́рубков* и девушек – неизменно бросаются в глаза естественность, подлинность и полнота чувств.
"Нет, видно, крепко заснула моя ясноокая красавица! – сказал козак… приближаясь к окну: – Галю! Галю! Ты спишь или не хочешь ко мне выйти? Ты боишься, верно, чтобы нас кто не увидел, или не хочешь, может быть, показать белое личико на холод! Не бойся… Я прикрою тебя свиткою*, обмотаю своим поясом, закрою руками тебя – и никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отогрею поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце моё, рыбка моя, ожерелье!"
Про такие места Пушкин говорил: "какая поэзия, какая чувствительность!"
Но высокое, патетическое Гоголь умеет приправлять шуткой. Комическими интонациями пронизана и фантастика, опирающаяся на фольклорные традиции и максимально приближенная к быту. Когда следишь за гоголевским чёртом или ведьмой, то кажется порою, что это не сверхъестественное существо, а обыкновенный сосед, только со скверным характером. Проказливый, тщеславный, хвастливый, франтоватый и… глупый. Впросак чёрт попадает сплошь и рядом, и вместо того, чтобы одурачить других, он сам терпит поражение и еле уносит ноги, как это случилось с ним в "Ночи перед Рождеством".
Впрочем, сказанное не лишает гоголевскую книгу какой-то особой примеси тревоги и неспокойствия. Однако первые читатели этого не почувствовали. Вспомним снова Пушкина: "Все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего…" То, что поющие и пляшущие живут в довольно неспокойной, тревожной атмосфере, стало ясно лишь позднее, в свете последующих произведений Гоголя…
Вопреки опасениям пасечника Рудого Панька, "Вечера́" с самого начала вызвали интерес и одобрение. Первыми ценителями книги оказались её наборщики. "Только что я просунулся в двери, – рассказывал Гоголь Пушкину, – наборщики, завидя меня, давай каждый фиркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило. Я к фактору*, и он после некоторых ловких уклонений наконец сказал, что "штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву". Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни".
Пушкин пересказал этот эпизод в своём печатном отзыве о книге (который мы уже цитировали) и прибавил: "Мольер* и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков".
Но не только "чернь" – и образованнейшие люди своего времени восхищались книгой. Писатель, критик и философ В. Ф. Одоевский писал своему другу: "На сих днях вышли "Вечера на хуторе…" Они, говорят, написаны молодым человеком, по имени Гоголем, в котором я предвижу большой талант: ты не можешь себе представить, как его повести выше и по вымыслу, и по рассказу, и по слогу всего того, что доныне издавали под названием русских романов".
"Выше" других прозаических произведений поставил "Вечера" не один Одоевский*.
Известный в своё время писатель В. Ушаков посвятил свою книгу "Досуги инвалида" (ц.1, М., 1832) "диканьскому пасечнику Рудо́му Паньку́", а в предисловии объяснял мотивы своего решения: "Повести… посвящены вам, почтеннейший Панько, яко* умнейшему из всех малороссийских, да едва ли и не великороссийских рассказчиков*! Читайте на здоровье. Но не взыщите. Я не могу писать так умно, как вы пишете".
Критика, вслед за Пушкиным, тоже отозвалась о книге похвально.
Это был успех. Больше того – это была слава. Подобно Байрону, Гоголь мог бы сказать, что он в несколько часов или, по крайней мере, дней стал знаменитым.
Следует напомнить, что писатель, которого признавали умнейшим из всех русских рассказчиков, едва только вышел из юношеского возраста. Гоголю не исполнилось ещё и двадцати трёх лет.
В дружеском кругу и за его пределами
Положение Гоголя упрочивается; он уже не так стеснён в средствах. Просьбы к матери о присылке денег становятся всё реже. А в марте 1832 года он и сам посылает домой 500 рублей – к свадьбе сестры Марии.
Помимо литературных гонораров у Гоголя появился и другой источник дохода. К весне 1831 года при содействии Плетнёва он получает место учителя истории в Патриотическом институте благородных девиц. Одновременно он даёт частные уроки в аристократических домах – П. И. Балабина, Н. М. Лонгинова, А. В. Васильчикова.
Всё это меняет его распорядок дня, высвобождает время для занятий, для творчества. "…Вместо мучительного сидения по целым утрам, вместо 42-х часов в неделю, я занимаю теперь 6…"
Живёт теперь Гоголь (с августа 1831 года) на Офицерской улице в доме Бруста, позднее, в октябре следующего года, поселяется в Новом переулке в доме Демута-Малиновско-го и, наконец, летом 1833 года переезжает в свою последнюю петербургскую квартиру на Малую Морскую, в дом Лепеня (теперь улица Гоголя, д. 17).
Здесь Гоголя навещал П. В. Анненков*, впоследствии – известный писатель и критик, автор прекрасных воспоминаний о литературной жизни 40—60-х годов прошлого века.
"…Я живо помню тёмную лестницу квартиры, – рассказывает Анненков, – маленькую переднюю с перегородкой, небольшую спальню, где он разливал чай своим гостям, и другую комнату, попросторнее, с простым диваном у стены, большим столом у окна, заваленным книгами, и письменным бюро возле него".
На Малую Морскую Анненкова привело желание увидеть новую литературную знаменитость: познакомился он с Гоголем после выхода "Вечеров на хуторе близ Диканьки" и пополнил собою то общество молодых людей, которые группировались вокруг писателя и нередко проводили время в его тесной квартирке.
Составляли этот круг питомцы Нежинской гимназии – или, как называл их Гоголь, однокорытники*. В первой половине 30-х годов в Петербурге их собралось довольно много: помимо ближайших друзей писателя Данилевского и Прокоповича, ещё И. Г. Пащенко, П. Г. Редкин (будущий профессор-юрист), А. А. Божко (кстати, родственник профессора Белоусова) и другие.
Гоголь держался с ними свободно и легко; те, в свою очередь, не скрывали "откровенного энтузиазма", возбуждённого его литературными успехами. По выражению Анненкова, Гоголь входил в "безвестный" и, так сказать, уединённый круг своих приятелей с тем, чтобы душевно успокоиться, остыть от напряжения вседневных дел. Ведь за чертою круга была борьба, нужно было прокладывать себе дорогу всеми усилиями ума, таланта, не исключая хитрости и сноровки. Здесь же царила простая, почти патриархальная атмосфера, дружеское расположение людей, которые смотрели на Гоголя с обожанием.
Его высказывания и замечания отличались глубиной, оригинальностью, порою остротой. Гоголь позволял себе смелые шутки насчёт сильных мира сего; вообще был настроен весьма либерально. "В эту эпоху Гоголь был наклонен скорее к оправданию разрыва с прошлым и нововводительству… чем к пояснению старого или к искусственному оживлению его".
Ещё в Гимназии, давая волю своему остроумию, Гоголь снабдил приятелей множеством метких прозвищ. Картина эта повторилась в Петербурге, только прозвища в соответствии с занятиями Гоголя получили так сказать литературное направление. "…Он дал всем своим товарищам по нежинскому лицею и их приятелям прозвища, украсив их именами знаменитых французских писателей, которыми тогда восхищался весь Петербург. Тут были Гюго*, Александр Дюма*, Бальзак* и даже один скромный приятель… именовался София Ге*. Не знаю, почему, – прибавляет Анненков, – я получил титул Жюль Жанена*, под которым и состоял до конца".
Прозвища определялись какими-то комическими ассоциациями, которые для нас уже неуловимы. Но помимо них, действовал и простой комический закон "от противного": русские превращались во французов, скромные и неизвестные – в знаменитых, мужчина – в женщину.
Несмотря на ореол славы, и он, Гоголь, не раз давал повод к насмешке и шутке. Странные противоречия уживались в этом человеке! Имел он, например, склонность к франтовству, заботился о том, чтобы фрак был наимоднейший (вспомним поручение, данное ещё накануне приезда в Петербург Высоцкому). В то же время знакомым бросалась в глаза его неряшливость и небрежность в одежде.
Однажды он сбрил себе волосы, чтобы они лучше росли, и надел парик. Но из-под парика выглядывали клочки ваты, которые он подкладывал под пружины. А из-за галстука торчали белые тесёмки…
Вне же привычного круга Гоголь ещё чаще впадал в какую-либо неловкость, стушёвывался*. И это при огромной уверенности в себе и постоянной внутренней сосредоточении ности и целеустремлённости. Нужно было видеть, как Гоголь своей суетливой, мелкой походкой, петушком*, пробирается вдоль высоких домов, как он кутается в шинель, спасаясь от досаждавших ему петербургской сырости и морозов… Нужно было увидеть всё это, чтобы улыбнуться и почувствовать в душе горький укол жалости. А может быть, и сказать словами Гоголя из "Невского проспекта": "Не правда ли, странное явление? Художник петербургский! Художник в земле снегов, художник в стране финнов, где всё мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно".
Глава III
О настоящем и прошлом
Пути-дороги. «Боже, сколько кризисов!». «Миргород нарочито невеликий…». «О, не верьте этому Невскому проспекту». «Выпытать дух минувшего века…». «Глава литературы, глава поэтов».
Пути-дороги
После выхода «Вечеров», летом 1832 года, Гоголь отправляется на родину. Путь его пролегал через Москву, куда он прибыл в последних числах июня.
Это было первое посещение Гоголем Москвы: тремя годами раньше, спеша поскорее добраться до желанной цели, до Петербурга, Гоголь выбрал кратчайшую дорогу через Белоруссию*.
По-разному проходили его встречи с обеими столицами*: в Петербург Гоголь приехал безвестным провинциалом, в Москву – знаменитым писателем.
Едва оправившись от болезни – в дороге Гоголь простудился – он попал в объятия радушных москвичей. Гоголя принимали нарасхват, возили из одного дома в другой.
С. Т. Аксаков*, известный писатель, глава большого литературного семейства, рассказывает о первом появлении Гоголя в его доме: "В 1832 году… когда мы жили в доме Слепцова на Сивцевом Вражке, Погодин* привёз ко мне в первый раз и совершенно неожиданно Николая Васильевича Гоголя. "Вечера на хуторе близ Диканьки" были давно уже прочтены, и мы восхищались ими… По субботам постоянно обедали у нас и проводили вечер короткие мои приятели. В один из таких вечеров, в кабинете моём, находившемся в мезонине, играл я в карты… Вдруг Погодин, без всякого предуведомления, вошёл в комнату с неизвестным мне, очень молодым человеком, подошёл прямо ко мне и сказал: "Вот вам Николай Васильевич Гоголь!" Эффект был сильный. Я очень сконфузился, бросился надевать сюртук, бормоча пустые слова пошлых рекомендаций".
М. П. Погодин, известный историк и писатель, познакомился с Гоголем несколькими днями раньше. Сын же С. Т. Аксакова Константин встретил его впервые на упомянутом вечере. Константин, в ту пору студент словесного факультета Московского университета, принадлежал к самым жарким поклонникам Гоголя. Увидев столь желанного гостя, он "бросился" к нему и заговорил с ним "с большим чувством и пылкостью", как заметил хозяин дома.
К сожалению, разговоров, которые велись в тот день, С. Т. Аксаков не запомнил. Но он запомнил своё первое впечатление о Гоголе, запомнил его внешний вид, манеру держаться. Свидетельства мемуариста подтверждают то ощущение двойственности, которое пробуждал Гоголь, особенно при первом знакомстве. Пожалуй, негативные моменты даже преобладали: не нравилась его претензия на щегольство, не нравилась сдержанность, затаённая хитрость ("что-то… плутоватое"). С московским радушием и откровенностью, не знавшими ни в чём меры, это как-то не вязалось.
Восторженные похвалы "Вечера́м на хуторе…" Гоголь принял холодно и сухо. Было не ясно, привык ли он к ним или его книга перестала ему уже нравиться.
Вообще в обращении с новыми знакомыми Гоголь соблюдал некую дистанцию, не допуская их до своих переживани́й, до своего внутреннего мира.
Но нельзя было не подчиниться той силе ума и таланта, которая исходила от этого молодого человека. По отдельным словам и фразам чувствовалось, какая напряжённая работа протекает в его сознании.
Как-то С. Т. Аксаков повёл Гоголя к М. Н. Загоскину*, с которым тот пожелал познакомиться. Загоскин был известным драматургом-комедиографом; Аксаков тоже увлекался театром, выступал с рецензиями и статьями о новых спектаклях. Это невольно придало разговору театральное направление.
Гоголь похвалил Загоскина за весёлость, но заметил, что писать для театра надо по-другому. Аксаков попробовал усомниться: дескать писать у нас не́ о чем, в свете всё так однообразно, гладко, прилично и пусто… В подтверждение своих слов он вспомнил пушкинский стих из "Евгения Онегина": "…даже глупости смешной В тебе не встретишь, свет пустой".
Гоголь посмотрел на Аксакова как-то значительно и сказал, что "это неправда, что комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим; но что если художник перенесёт его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его".
Аксакова эта мысль удивила: "Я был ею озадачен, особенно потому, что никак не ожидал её услышать от Гоголя". Не ожидал, ибо сказанное уже не согласовывалось с обликом простодушного пасечника Рудого Панька. Гоголь вошёл в литературу, завоевал славу как писатель романтический, фольклорный, фантастический. А тут внезапно приоткрылся совсем другой замысел – комического произведения из повседневной окружающей, светской жизни.
Разговор с Аксаковым явился одним из первых предвестий нового направления в гоголевском творчестве.
Помимо семейства Аксаковых и Загоскина, Гоголь познакомился с прославленным актёром М. С. Щепкиным, со старейшим поэтом, сподвижником Карамзина, И. И. Дмитриевым*.
В июле Гоголь отправился на Украину, в Васильевку. Мысль, что он увидит мать, сестёр, снова будет дышать тёплым благодатным воздухом родной Украины, наполняла его нетерпением.
В дороге не отрываясь смотрел на небо, "которое, по мере приближения к югу, становилось сине́е и сине́е". "Мне надоело серое, почти зелёное северное небо, так же как и те однообразно печальные сосны и ели, которые гнались за мною по пятам от Петербурга до Москвы".
В Васильевке Гоголь провёл остаток лета и начало осени. В конце сентября отправляется в обратный путь. Нужно было везти сестёр Елизавету и Анну в Петербург для поступления в Патриотический институт (где Гоголь преподавал историю). Нужно было возвращаться к делам.
Очень интересно читать письма Гоголя, наполненные дорожными наблюдениями и заметками: писатель исподволь накапливает впечатления для будущих произведений.
В Курске* у Гоголя сломался экипаж, и пришлось просидеть в городе неделю. Тут Гоголь на собственном опыте узнал, что такое власть и чин: сколько сил и нервов надо было потратить, чтобы ему, незнатному путешественнику, наконец, починили экипаж.
"Вы счастливы, Пётр Александрович! – писал Гоголь из Курска Плетнёву, – вы не испытали, что значит дальняя дорога. Оборони вас и испытать её. А ещё хуже браниться с этими бестиями станционными смотрителями*, которые, если путешественник не генерал, а наш брат мастеровой, то всеми силами стараются делать более прижимок и берут с нас, бедняков, немилосердно штраф за оплеухи*, которые навешает им генеральская рука".
Через несколько лет Гоголь, возможно, вспомнил этот эпизод, когда писал "Ревизора".
"Ведь почему хочется быть генералом? – откровенничает герой этой комедии, Городничий*.– Потому что случится, поедешь куда-нибудь – фельдъегеря* и адъютанты* поскачут везде вперёд: лошадей! и там на станциях никому не дадут, всё дожидается: все эти титулярные*, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь*…"
В двадцатых числах октября Гоголь опять в Москве. Вновь встречается с Аксаковыми; знакомится с замечательным критиком и философом Иваном Киреевским* и его братом, фольклористом Петром*, с молодым учёным-славистом О. М. Бодянским*, с разносторонним учёным и писателем М. А. Максимовичем*, возможно и с поэтом Е. А. Баратынским*.
Впечатление, произведённое на этот раз Гоголем на москвичей, оказалось благоприятнее. Правда, сближения с Аксаковыми не произошло (это случилось несколько позже), но с другими Гоголь укрепил дружеские связи, сохранившиеся на всю его жизнь. Больше всего сблизился он с Погодиным и Максимовичем – прежде всего на почве общего интереса к истории и славянской древности. К Максимовичу Гоголя влекло ещё и то, что он был его земляком, влюблённым в украинский фольклор, в украинскую культуру.
По возвращении Гоголя в Петербург Плетнёв отметил, что "тамошние (т. е. московские) литераторы порадовали его особенным вниманием к его таланту. Он не может нахвалиться Погодиным, Киреевским и прочими".
Пушкин позднее писал, что в Москве "Гоголя более любят, нежели в Петербурге". Конечно, степень любви измерить трудно и приведённое замечание представится достаточно условным, если вспомнить об отношении к Гоголю Плетнёва, Жуковского, не говоря уже о самом Пушкине. Но всё же "особенная", как говорит Плетнёв, популярность Гоголя в Москве бросалась в глаза многим, и для этого были свои причины.
В Москве в это время набирала силу передовая русская мысль; здесь издавались лучшие журналы, такие как "Телескоп" Н. И. Надеждина* и "Московский телеграф" Н. А. Полевого. Петербургские "Сын отечества" или "Отечественные записки" не шли с ними ни в какое сравнение, и Гоголь подметил и выразил это различие со свойственным ему остроумием: "В Москве журналы идут наряду с веком, но опаздывают книжками; в Петербурге журналы нейдут наравне с веком, но выходят аккуратно, в положенное время".
В Москве, далее, сильнее была прослойка передовой молодёжи, студенчества, которое жадно усваивало новые веяния в литературе, философии, политических науках. И такое яркое явление, как Гоголь, не могло не обратить на себя внимания. "Московские студенты все пришли от него в восхищение и первые распространили в Москве громкую славу о новом великом таланте", – писал С. Т. Аксаков.
Кстати, мы можем и далее проследить истоки гоголевской славы в Москве и найти, так сказать, первых среди первых.
На рубеже 20—30-х годов среди студентов Московского университета образовался кружок Н. В. Станкевича*. Для членов кружка Гоголь с самого начала сделался любимым писателем; его произведения читали вслух, обсуждали, восхищаясь сочностью и яркостью красок. Сын Сергея Тимофеевича Аксакова, Константин, один из самых жарких поклонников Гоголя, принадлежал к этому кружку.
Из кружка Станкевича вышел и В. Г. Белинский*, которому вскоре предстояло стать ведущим русским критиком, глубоким истолкователем гоголевского творчества.
«Боже, сколько кризисов!»
Несмотря на успех «Вечеров», на громкую славу, Гоголь неспокоен, объят тревожным чувством. Сухо отвечая на похвалы его первой книге, он не кокетничал, ибо старое его уже не удовлетворяло. Он искал нового, думал о будущих трудах.
"Какой ужасный для меня этот 1833-й год! Боже, сколько кризисов… – писал он из Петербурга в Москву М. П. Погодину. – Понимаешь ли ты ужасное чувство: быть недовольну самим собою. О, не знай его!.."
Гоголь ещё не определил для себя главного направления своей деятельности: быть ли ему писателем-художником или учёным-историком.
К 1833 году относится ряд научных замыслов Гоголя. Он решает написать "Всеобщую историю и всеобщую географию" под названием "Земля и люди", "Историю Украины". Все это капитальные труды в нескольких томах, необычные по постановке вопроса и охвату материала. Например, всеобщей истории, по мнению Гоголя, "в настоящем виде её, до сих пор… не только на Руси, но даже и в Европе, нет".
Не довольствуясь задуманными научными трудами, Гоголь вынашивает планы широкой педагогической деятельности. Преподавание в Патриотическом институте благородных девиц его не совсем удовлетворяет, так как ему нужна более подготовленная, серьёзная аудитория. Он мечтает об университетской кафедре.
В 1834 году должен открыться Киевский университет, и Гоголь загорается новой идеей – получить там кафедру всеобщей истории.
"Я восхищаюсь заранее, когда воображу, как закипят труды мои в Киеве, – пишет он Пушкину. – Там я выгружу из-под спуда* многие вещи, из которых я не всё ещё читал вам… А сколько соберу там преданий, поверий, песен и проч!.."
Планы совместной поездки в Киев Гоголь живо обсуждает со своим новым московским другом Максимовичем. Тот хотел бы оставить преподавание в Московском университете и получить кафедру в Киеве.
Гоголь мечтает приобрести маленький домик в Киеве, зажить отшельнической жизнью учёного, собирателя древностей…
Планам этим не суждено было сбыться. Максимович место профессора русской словесности получил, но Гоголю правление университета предпочло другого преподавателя. Писатель остался в Петербурге. Правда, летом 1834 года с помощью своих друзей, в частности Пушкина, ему удалось выхлопотать место адъюнкт-профессора* по кафедре всеобщей истории при Петербургском университете.
Что же влекло Гоголя к историческим занятиям, почему он так настойчиво устремлялся на путь профессионального историка?
Отчасти это объясняется характером литературных интересов Гоголя, да и не только его одного.
Историзм пронизывал всю литературную и художественную атмосферу того времени. "Настоящее есть результат прошедшего и указание на будущее", – скажет позднее Белинский. Художники хотели установить связь эпох, найти истоки современных понятий, нравов, государственного устройства и особенно национального своеобразия народа. Поэтому историзм неотъемлем от фольклоризма – интереса к народному творчеству, быту, образу жизни. Свои труды по истории Гоголь намеревается сопровождать большой собирательской деятельностью – записывать предания, песни, поверья. Печатью фольклоризма, тяготением к истории отмечены "Вечера на хуторе близ Диканьки".
Однако в историзме Гоголя проявлялись не только его писательские интересы. Гоголя привлекала и профессия историка как таковая, вне художественного творчества. Профессия человека, который глубоко и основательно исследует человеческие деяния, столкновения общественных сил и убедительно, на фактах доказывает всем свои выводы. Было в этой позиции что-то необходимое, существенное для Гоголя, проистекающее из самой сердцевины его мироощущения.
Ведь с отроческих лет он пламенел "одной страстью" – сделать свою жизнь нужною для соотечественников, решительно повлиять на их существование, а может быть, и судьбу страны. "Испытую свои силы для поднятия труда важного, благородного: на пользу отечества, для счастья граждан, для блага жизни подобных…" – вот в каких словах описывал Гоголь поставленную перед собою задачу.
Как же соотносилось с нею его писательское дело, его первые художественные опыты?
Позднее, в конце сороковых годов, Гоголь скажет, что в начале своей писательской деятельности он не преследовал никакой серьёзной цели. Дескать, его ранние вещи рождены лишь желанием развлечь себя и своих читателей. "Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза".
Конечно, Гоголь был не совсем прав – он несколько смещал перспективу своего художественного развития. Столь строгая оценка ранних произведений высказана была им под влиянием новых взглядов, под влиянием усилившегося убеждения в том, что искусство призвано выполнять учительную, наставническую функцию.
В начале 30-х годов подобное убеждение у Гоголя ещё не сложилось, или, вернее, не приобрело ещё законченного, цельного вида. Однако это не значит, что первые произведения во всём его удовлетворяли, скорее наоборот. Ведь сама мысль о высоком призвании, о гражданском служении возникла у него давно и не покидала его ни на день. Она, эта мысль, ещё не была им прямо перенесена на литературу, предполагала иного рода деятельность. Но не сопоставлять своё литературное творчество с этой мыслью Гоголь не мог. Пусть невольно, бессознательно – он их сопоставлял, и это сопоставление оставляло в нём чувство неудовлетворённости. Так что зёрна позднейшего сурового (и, конечно, несправедливого) приговора своим первым произведениям таились уже в настроениях Гоголя начала 30-х годов.
Но всё это объясняет и то, почему Гоголь придавал столь большое значение своим занятиям учёного-историка. Такие занятия прямее связаны с идеей гражданского служения. Пусть ему не удалось совершить нечто существенно-важное на служебном поприще; пусть "государственная служба" обернулась бесплодным и докучным сидением в канцеляриях… Он сумеет принести пользу соотечественникам другим путём. Светом глубокой мысли осветит ход истории страны, ход человеческой истории, и добытое знание послужит уроком для современников.
Историческая наука, считает Гоголь, поучительна и педагогична. Она воздействует и на простого читателя и на государственного деятеля, правителя. Поэтому она в какой-то мере замещает изящную словесность, поэзию или, точнее, усваивает их сильные стороны.
В одной из своих ранних статей Гоголь формулирует требования к историку: "…Если бы глубокость результатов Гердера*, нисходящих до самого начала человечества, соединить с быстрым огненным взглядом Шлецера* и изыскательною, расторопною мудростию Миллера*, тогда бы вышел такой историк, который бы мог написать всеобщую историю". Но и этого, оказывается, мало! Историку необходимы ещё драматическое искусство Шиллера*, занимательность рассказа Вальтера Скотта, умение выставлять крупные характеры, каким владеет Шекспир. Гоголь выдвигает универсальную программу соединения научной глубины с художественной убедительностью и яркостью. Вот с какой высокой точки зрения смотрел он на свою миссию историка!
Бросается в глаза, однако, любопытный факт. В приведённом перечне великих образцов, необходимых для историка, нет собственно комических писателей, например Мольера или Аристофана*. Это неслучайно: такие имена (хотя Гоголь уже начинал ими интересоваться) не вписываются в составленную им программу для искомого автора всемирной истории. Не вписывается сама стихия смешного, забавного, не вписывается юмор, который как бы располагается в стороне от главной дороги.








