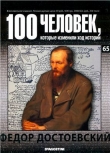Текст книги "Достоевский"
Автор книги: Юрий Селезнев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Лекции начинались рано утром; Василий Михайлович ставит перед собой свечку, вынимает из карманов очки и табакерку, звучно нюхает табак и начинает читать по книге: «Клещевинное масло, китайцы придают ему горький вкус», – затем кладет книгу на стол, снова с всхрапыванием нюхает табак и, сам тому удивляясь, объясняет студентам: «...вот, видишь ли, китайцы придают клещевинному-то маслу горький вкус...» Студенты, следя за «лекцией» по той же самой книге, между тем читают: «Кожицы придают ему горький вкус...»
Впрочем, в роду Нечаевых – Котельницких, с которыми породнился одинокий и «безродный» Михаил Андреевич Достоевский, женясь на Марии Федоровне, немало и других по-своему славных представителей: прадед Федора Михайловича по матери, Михаил Федорович Котельницкий, был, например, корректором московской духовной семинарии в чине коллежского регистратора; в семейной традиции он почитался как очень умный человек. Считалось, что именно из семьи Котельницких, то есть родных по материнской линии, вынесла и сама Мария Федоровна, а через нее и сын ее Федор, любовь к книгам, музыке, способность выражать на бумаге свои чувства, мысли, настроения... Правда, и отцу своему сын обязан не одним только, привитым ему с детства, уважением к повседневному упорному труду, но и отроческими восторгами, рыхлившими почву сердца и ума, засевавшими их семенами будущих всходов: это папенька повел десятилетнего Федю на шиллеровских «Братьев-разбойников» с Мочаловым – Карлом Моором. Мог ли помыслить папенька, как откликнется юная душа его сына на страстный порыв Карла Моора против несправедливости и зла, царящих в мире, какими отзвуками отзовется еще в ней Шиллер?
По отцовской линии Мария Федоровна вела свою родословную от Нечаевых, посадских людей города Боровска Калужской губернии. Отец ее, Федор Тимофеевич Нечаев, перебрался в 1790 году в Москву и числился купцом третьей гильдии. Через старшую сестру, Александру Федоровну, Нечаевы – Котельницкие, а стало быть, затем и Достоевские, породнились с богатым родом московских купцов, «аристократов коммерции», Куманиных. У Михаила Андреевича с родственниками жены отношения были сложные; в общем, он их уважал, но недолюбливал; да и то: каково было гордому лекарю Божедомки видеть, как к его скромному жилищу лихо подкатывает карета Александры Федоровны Куманиной – цугом в упряжке из четырех лошадей, с выездным лакеем на запятках и форейтором на козлах... Правда, Василию Михайловичу Котельницкому он явно симпатизировал: профессор фармакологии никогда не решался сам выписать себе или своей жене нужный рецепт и в таких случаях всегда обращался за содействием к Михаилу Андреевичу.
Как только Михаил Андреевич заслужил честь «навечно» быть занесенным вместе с сыновьями в книгу московского потомственного дворянства, в квартиру штаб-лекаря зачастили какие-то странные, суетливые субъекты – сводчики, или факторы, по купле-продаже имений, как узнал Федор из разговоров старших. А вскоре родители стали владельцами сельца Дарового и соседней с ним деревушки Черемошны в Тульской губернии. Приобретение родовой вотчины обошлось им в 12 тысяч рублей серебром, но свежеиспеченные землевладельцы надеялись окупить эти затраты с лихвой. И пошли новые заботы: нужен тес для ворот к скотному двору, доски на закрома, потолок к амбару, да и сарай не крыт – придется ждать до новой соломы; кадочек на ярмарке необходимо поглядеть и меду для варенья.
Отец продолжал служить и только по временам ненадолго мог наведываться в свои владения; все заботы по хозяйству взяла на себя маменька, в обязанности которой входили и постоянные отчеты перед мужем о состоянии хозяйства: «Мне Бог дал крестьянина и крестьянку: у Никиты родился сын Егор, а у Федота – дочь Лукерья. Свинушка опоросила к твоему приезду пятерых поросяточек, утка выводится понемножку, а гусям вовсе воды нет, в эту переменную погоду беспрестанно гусенят убывает, так жаль, что мочи нет, наседочка одна только и сидит, и то отняли у Дарьи», – жалуется она мужу, а тот в ответ дает разные полезные советы и распоряжения, в числе коих и предписание – ежели что, то и посечь людишек по-отечески, для порядку...
Конечно, воспарения мысли на предмет поправления материального благополучия семьи за счет дармового труда крепостных были особенно поначалу, да только слишком уж бедны оказались вотчины нового землевладельца, а пригляделись – поняли: на грани полного разорения. Впрочем, надежды на обогащение вряд ли и изначально главенствовали в сознании Михаила Андреевича; тут скорее другое подзуживало: амбиция уязвленного самолюбия – вот-де все смотрите! – вы, богатые и знатные, получившие наследственные земли и звания, а я – без наследства и связей, без протекций – тоже землевладелец и какой-никакой, а «аристократ» – и сам, сам, вот этими руками, этой головой всего достиг и никому ничем не обязан... Весной 1832-го уехали всей семьей в Москву. На третий день светлой недели, 4 апреля, сидели за столом в гостиной, как вдруг докладывают: Григорий Васильев, дворовый человек из Дарового, прибыл. Родители хорошо знали его и уважали – он был единственный письменный, то есть грамотный, в деревне. Велели звать. Григорий небритый, в разорванной свитке, словно нарочно нарядился для какого-то невеселого спектакля: дворовые у Достоевских всегда гляделись прилично – за этим родители следили ревниво.
– Что случилось, Григорий?
– Несчастье... вотчина сгорела...
Известие было столь ошеломительно, что родители тут же пали на колени... Дети заголосили.
– Коли надо будет вам денег, – услышали вдруг спокойный голос Фроловны, – так уж возьмите мои, а мне что, мне не надо...
Предложение нянюшки вывело всех из состояния невменяемости. От денег, конечно, отказались (Алена Фроловна жалованья не брала – копила деньги на старость), но порыв ее. души потряс и родителей и детей. Отец быстро взял себя в руки, усадил Григория, потребовал подробностей. Оказалось, один из крестьян палил кабана у себя на дворе, а ветер был страшный – дом и загорелся. Погорела и вся усадьба. Сгорел и сам Архип вместе с домом, пытаясь хоть что-нибудь спасти из нехитрых своих пожитков.
– Ладно, – сказал отец решительно, как умел говорить только он, – поезжай, Григорий, да передай мужикам: последнюю рубашку свою поделю с ними – несчастье общее, вместе и расхлебывать будем.
Через несколько дней Мария Федоровна со старшими детьми отправилась в деревню. Грустная картина открылась взору десятилетнего Федора: обугленные столбы на месте изб кое-где торчат из серой, в пепле, земли; погорелые старые липы, сиротливо повизгивает верная Жучка... Понурые мужики виновато поглядывают из-под хмурых бровей; устало всхлипывают младенцы, безнадежно уставясь в почерневшие от горя лица матерей.
– Отчего матери черные, отчего детки плачут? – робко спрашивает Федя, прижавшись к маменькиной руке.
– Голодны, – слышит он маменькин голос.
– Зачем детки страдают?
– Погорели, – не понимает его маменька...
Уже через неделю далеко слышен был стук топоров. Строились заново. Каждому погорельцу маменька выдала по пятидесяти рублей – немалые деньги; мужики качали головами, не брали – без денег не построиться, а и отдавать потом не легче. Мария Федоровна уговаривала: будут – отдадите, а нет – так и нет... О долге, конечно, больше никогда не поминали. Аришу, дочку сгоревшего Архипа, маменька взяла к себе.
Маленький, о трех комнатах, мазанковый, похожий на украинскую хатку домик, в котором поселились Достоевские, «стоял среди тенистой рощи. Роща эта, – вспоминал Андрей Михайлович, – через небольшое поле примыкала к березовому лесу, очень густому и с довольно мрачною и дикою местностью, изрытою оврагами... Местность эта очень полюбилась брату Федору, так что лесок этот в семействе начали называть Фединою рощею. Впрочем, матушка неохотно нам дозволяла там гулять, так как ходили слухи, что в оврагах попадаются змеи и забегают даже волки».
Август стоял сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный. Лето на исходе, и скоро надо ехать в Москву, скучать всю зиму за французскими уроками, и ему так жалко покидать деревню... – расскажет потом Достоевский. «И вот я забился гуще в кусты и слышу, как недалеко, шагах в тридцати, на поляне, одиноко пашет мужик... И теперь даже, когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего деревенского березняка: впечатления эти остаются на всю жизнь. Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчетливо услышал крик: «Волк бежит!» Я вскрикнул и, вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика...
– Ить ведь испужался, ай-ай! – качал он головой. – Полно, родный... – Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке. – Ну полно же, ну Христос с тобой, окстись... – Я понял наконец, что волка нет и что мне крик... померещился...
– Ну я пойду, – сказал я, вопросительно и робко смотря на него.
– Ну и ступай, а я те вслед посмотрю. Уж я тебя волку не дам! – прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь...
...Об Марее я тогда очень скоро забыл...»
Да и о чем помнить-то? Мальчик любил бродить по полям, часами смотрел, как справляют крестьяне свой нелегкий труд, а в минуты передышки подходил к ним поговорить, посмотреть на малышей, которых крестьянки брали с собой. Однажды, заметив, что одна крестьянка пролила нечаянно воду и ей нечем напоить младенчика, Федя схватил кувшин и побежал домой – за две версты от поля. Запыхался, едва отдышался – зато какими глазами глядела на него молодая мать, и младенчик, напившись, перестал орать, уснул, так трогательно раскинув ручонки.
Здесь же нередко встречал он безумную и бездомную Аграфену, которая бродила по полям, разыскивая умершего сыночка. Нашелся кто-то: не побоялся Бога – надругался над дурочкой.
К 37-му году домашнее образование Федора уже закончилось. Сначала отец определил старших сыновей в полупансион Николая Ивановича Драшусова, не просто обрусевшего, но ревностно желавшего быть русским француза Сушара. А затем, через год, перевел их в «пансион для благородных детей мужского пола» чеха Леонтия Ивановича Чермака, возле Басманной полицейской части, прямо напротив Московского сиротского дома. Занимались по полной гимназической программе. Пансион славился, здесь преподавали лучшие педагоги Москвы: известный математик, впоследствии академик, ректор Московского университета Д. М. Перевощиков; доктор словесности И. И. Давыдов; автор «Теории русского стихосложения» и магистр латинской словесности А. М. Кубарев; изучались здесь и древние языки, и античная литература...
К тринадцати годам Федор вырос в серьезного, задумчивого отрока; белокурый, сероглазый, он казался бледным и некрепким, может быть, потому, что природная страстность, «огонь» его натуры целиком переключались на книги. Давыдов знакомил учеников с Шеллингом – на его учении взросло немало русских умов и талантов, среди них и Белинский, о котором он здесь впервые услышал; уже в те годы Достоевский вовлекается преподавателями пансиона Чермака в сферу отечественно-литературных проблем и интересов: закрыты «Московский телеграф» и «Телескоп»; Чаадаев объявлен сумасшедшим; явились «Капитанская дочка» Пушкина и «Тарас Бульба» Гоголя (он недавно уехал за границу), «Литературные мечтания» Белинского – все это входит в круг духовных его интересов, бередит первые «литературные мечтания» самого Достоевского-подростка.
Родителей радовала ранняя серьезность сына, но сына родители не радовали. Уже «с осени 1836 года в семействе нашем было очень печально, – рассказывал младший брат Федора Михайловича – Андрей Михайлович. – Маменька с начала осени начали сильно хворать...»
Подрастая, Федя стал замечать странности в отношениях папеньки и маменьки. Конечно, от него много старательно скрывали, во многом он не в силах был еще разобраться сам, но и многое чувствовал и, чувствуя, все больше проникался нежной жалостью к маменьке, которая словно светилась и таяла на его глазах, как свечка на его столе в долгие вечера осеннего ненастья.
Отец, всегда будто застегнутый на все пуговицы, все чаще стал раздражаться и иногда даже кричал на маменьку. Добрый по природе, но вынужденный годами держать себя словно зажатым в кулак, высушенный гордостью уязвленного самолюбия, пылкий и склонный к болезненной подозрительности, Михаил Андреевич не мог придумать ничего более оригинального, как заподозрить однажды жену, мать уже восьмерых своих детей, в неверности. Когда Мария Федоровна как-то вечером сообщила мужу о том, «что ее постигла вновь беременность», Михаил Андреевич помрачнел и высказал вдруг свое «неудовольствие» таким тоном, что бедная маменька «разразилась сильным истерическим плачем», – вспоминает Андрей Михайлович. Сцены между родителями Феде приходилось видеть и раньше: как-то его дядя, Михаил Федорович Нечаев, младший брат маменьки, пришел, как обычно, в гости посидеть, поиграть на гитаре, попеть с Марией Федоровной песни и романсы, до которых брат и сестра были большие охотники. Федя любил такие вечера. Но вдруг явился папенька, и между ним и дядей произошел скандал. Папенька ругал дядю и называл его обидными словами за то, что тот без ведома папеньки, как оказалось, ухаживал за горничной Достоевских – Верой, молодой, очень красивой девушкой. Маменька плакала, а совсем еще юный Федя никак не мог понять: дядя Михаил Федорович и Вера – такие хорошие и такие молодые, за что так осердился на них папенька, да еще и ударил дядю по лицу, так что дядя в их доме больше никогда не появлялся.
Феде было жаль дядю и Веру – она тоже ушла от них, и отца жалко – зачем он так раздражается, становится злым и некрасивым и – главное – несправедливым. Но всех жальче маменьку, она совсем худенькая, маленькая и такая несчастная. И как сделать, чтобы всем этим родным людям было бы хорошо и покойно вместе, чтобы маменька смеялась, как прежде, играла на гитаре, а папенька бы пусть и строг, но улыбался довольный? Маленькое, рано раненное сердце подростка, совсем еще ребенка, сжималось от боли за близких, за горько плачущих деток погорельцев, за свою маленькую подружку – как может он жить и забыть о ней, уже и лица ее не вспомнить, только белое в темных пятнах грязи и крови платьице неотступно преследует его. Слезы невольно капают, и стыдно – не девчонка ведь, и растет в груди теплый комок, и расширяется, и вот уже почти готов объять всех страдающих, и весь мир упрятать от бед, успокоить, убаюкать... И он засыпает, вздрагивая и просыпаясь во сне.
«С начала нового, 1837 года состояние маменьки очень ухудшилось, она почти не вставала с постели, а с февраля месяца и совершенно слегла в постель... Это было самое горькое время в детский период нашей жизни. И немудрено! Мы готовились ежеминутно потерять мать... Помню ночь, предшествовавшую кончине маменьки... Маменька, вероятно перед смертной агонией, пришла в совершенную память, потребовала икону Спасителя и сперва благословила всех нас, давая еле слышные благословения и наставления, а затем захотела благословить и отца. Картина была умилительная, и все мы рыдали...» Утром 27 февраля, в субботу, маменьки не стало. Ей было 36 лет... Через день, в понедельник, 1 марта 1837 года, в первый день Великого поста, Мария Федоровна уже покоилась на ближайшем Лазаревском кладбище.
А еще через несколько дней не оправившихся от первого удара братьев Достоевских настигла новая роковая весть: «Солнце нашей поэзии закатилось: Пушкин скончался...»
Братья чуть с ума не сошли, услышав об этой смерти и всех подробностях ее. «Брат Федор, – свидетельствует младший, – в разговорах с старшим братом несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура, то он просил бы позволения отца носить траур по Пушкине».
Через многие потери проведет еще Достоевского его судьба, но эти первые – такие безнадежно горькие, оттого что первые, – прикосновения к великому таинству жизни и смерти взрыхлят его отроческую душу, посеют в ее почву семена, чтобы взойти в свой час ростками бессмертных образов, претворенных в слово горечи и любви.
Кроткие женщины его романов... В их тихих взглядах засветят еще миру незабвенные глаза Марии Федоровны, его матери. Маменьки... И Пушкина пронесет он через всю жизнь – станет он его Вечным Спутником, быть может, куда более живым, нежели многие из реальных современников его зрелости.
Было Достоевскому уже 16 лет, и пришла пора подумать о будущем. Отец решил определить старших сыновей, Михаила и Федора, в Петербург, в Инженерное училище. «По-моему, это была ошибка», – писал позднее Достоевский. Ехали вместе с отцом и Михаилом на долгих почти целую неделю. «Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали о чем-то ужасно, обо всем «прекрасном и высоком»... Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали все, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и поэтах. Брат писал стихи... и даже дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни...»
Удивительно устроен человек: его маменька, единственная его, – в земле; Пушкин – убит, и разве можно жить после этого? А он вот живет, и смеется, и радуется... Как же так? Какая тайна дает человеку силы жить, когда жить нельзя; смеяться и радоваться, когда надо бы вечно грустить и плакать? Как разгадать загадку? А иначе как и зачем тогда жить и называться человеком?
2. Петербургские сновидения...Жить было нужно.
По окончании чтения «всемилостивейшего» приговора с осужденных сняли колпаки и саваны. Переломили шпаги над их головами. Потом всем выдали арестантские шапки и овчинные тулупы. Шерсть их, свалявшаяся, грязная, напоминала несчастным о тех, кому уже успели послужить прежде их одеяния. Тулупы были тут же спешно надеты: двадцатиградусный мороз все же давал о себе знать, теперь особенно, когда впереди была еще целая жизнь... Он должен был собрать кружащиеся, разбегающиеся мысли воедино, ведь перед ним теперь вновь открывалась целая жизнь, и необходимо было понять, осмыслить – какая? Кто мог поведать? Знал одно – иная. Та, что была, оставалась там, за эшафотом. Там, позади, в, казалось, навсегда отрезанном, отделенном, как ножом гильотины, от неведомого будущего прошлом, оставались надежды и замыслы, родные могилы, друзья, живые близкие, с которыми суждено ли еще свидеться. И когда?..
К эшафоту уже подкатывали фельдъегерские тройки...
На всю жизнь врезалась в его память та давняя, отвратительная, от которой и сейчас позорно на душе, картина. На одной из многочисленных почтовых станций по дороге из Москвы в Петербург – не вспоминался ли ему тогда пушкинский «Станционный смотритель»? – Достоевский увидел, как «молодой парень лет двадцати, держа на руке армяк, сам в красной рубахе, вскочил на облучок. Тотчас же сбежал со ступенек фельдъегерь и сел в тележку. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и сверху больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, беспрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и наконец нахлестал их до того, что они неслись как угорелые». Под впечатлением этой картины, «эмблемы и указания», как скажет потом он сам, и покатил Достоевский дальше, в Петербург, навстречу неведомому будущему.
По приезде остановились в дешевой гостинице у Обуховского моста, прямо на Московском тракте. Тут же начались первые огорчения: оказалось, что экзамены в Инженерное училище только в сентябре, а значит, еще почти четыре месяца впереди. Слава богу, нашлись сведущие люди, подсказали: нужно определить мальчиков в пансион капитана Костомарова, он успешно готовит ребят к поступлению в Инженерное училище. Накладно, конечно, но делать нечего – не везти же обратно детей в Москву, да и будущность их для отца – дело теперь наиглавнейшее. Определив Михаила и Федора к Костомарову, Михаил Андреевич отбыл на службу.
К экзаменам по математике и языкам братья подготовлены неплохо, а вот фрунт, маршировка, ружейные приемы... И уже вскоре после отъезда Михаила Андреевича сыновья пишут ему о том, что в Инженерном училище, оказывается, «на фронт чрезвычайно смотрят, и хоть знай все превосходно, то за фронтом можно попасть в нижние классы. Из этого вы теперь, любезный папенька, можете видеть, могли ли мы вступить без приготовления в Училище». Так что нет худа без добра – все-таки какое-никакое, а утешение и отцу и братьям.
Субботы и воскресенья отдавались в пансионе Костомарова в полное распоряжение воспитанников, и погода к тому же способствовала прогулкам по граду Петра. «Погода теперь прекрасная. Завтра, надеемся, она также не изменится, и, ежели будет хорошая, то к нам придет Шидловский, и мы пойдем странствовать с ним по Петербургу», – делятся братья с отцом. Как вспоминал впоследствии Федор Михайлович Достоевский, они еще по дороге «сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина». В квартиру пробраться, конечно, не удалось, но Иван Николаевич Шидловский показал им и дом Пушкина на Мойке, и другие места, связанные со священным для них именем. Увидели и Михайловский замок императора Павла, в котором теперь располагалось Инженерное училище.
Шидловский и сам недавно только приехал в Петербург, но рассказать о столице, не говоря уже о писателях, о литературе, мог много такого, о чем братья Достоевские слышали впервые. Он-то и прочитал им у дома Пушкина лермонтовские стихи «На смерть поэта», которые уже ходили в списках по Петербургу.
С Шидловским Достоевские познакомились в гостинице случайно, но не случайно подружились с ним; хотя он и был на четыре года старше Михаила и на пять – Федора, успел уже закончить Харьковский университет и теперь служил в министерстве финансов, его поразили и широкая начитанность подростков, и круг их интересов, и самостоятельность суждений, особенно у младшего из братьев – Федора. Но более всего сблизила их любовь к Пушкину и всепоглощающая преданность литературе. Романтик и поэт по природе своей, Шидловский писал неплохие стихи, мечтал найти свой путь в этом великом деле – в деле высокого, потрясающего, переворачивающего души людей поэтического слова. Слово – великое дело, словом созидаются поколения, проповедовал он. Юноши впитывали в себя каждое его изречение – он не навязывал им своих убеждений, он умел говорить так, словно они сами уже знали, чувствовали, но только не успели выразить в слове эти свои чувства и знания. И теперь его мысли становились их собственными. Вот почему с таким нетерпением и ждали братья новых встреч с этим человеком.
Однажды в пансионе Костомарова появился еще один незнакомец, молодой, стройный, в военном мундире. Как оказалось, это был недавний воспитанник Костомарова, а ныне кондуктор Инженерного училища, Дмитрий Григорович. Хотелось порасспросить его о житье-бытье в училище, но разговор не получился.
В начале сентября братьев Достоевских вызвали в училище для представления генералу Шаренгорсту, начальнику училища, и Ломковскому – его инспектору. После представления необходимо было пройти врачебный осмотр. И вот тут-то начались неприятности и впрямь нешуточные. Главный врач училища, осмотрев Михаила, признал у него чахотку и не допустил его к экзаменам. Федор был признан вполне здоровым.
Беспокойство о здоровье и судьбе брата, тяжелые мысли о предстоящей разлуке и одиночестве в чужом огромном городе затерзали Федора, а тут еще новость – по неизвестным ему соображениям начальство категорически отказалось принять его в училище на казенный счет, а потому необходимо внести за учебу огромную сумму – девятьсот пятьдесят рублей ассигнациями. Положение казалось безвыходным. Однако вскоре все пусть и не так, как предполагалось заранее, но все-таки устроилось: по рекомендации знакомых отца Михаил отправился в Ревель, где преспокойно поступил в инженерные юнкера, с деньгами помогла богатая тетенька – Александра Федоровна Куманина; необходимую сумму внес ее муж; сам же Федор успешно сдал экзамены и вскоре, перебравшись от Костомарова в Михайловский замок, облачился в черный мундир с красными погонами, получил кивер с красным помпоном, наименование «кондуктора» – и началась новая жизнь. Всех поставили по ранжиру, пришел человек заспанного, сумрачного вида, который обвел всех мутными глазами и вдруг скомандовал: «Направо, марш!» – и пошли занятия: в классах и в поле, маршировка тихим и скорым шагом, уставы и лагеря, смотры и парады...
Инженерное училище – одно из лучших учебных заведений того времени – давало не только прекрасную военно-инженерную подготовку, но и основательную подготовку по широкому, в том числе и гуманитарному, кругу познаний. Так, за время учебы Достоевский должен был пройти, помимо курсов топографии, аналитической и начертательной геометрии, физики, артиллерии, фортификации, дифференциального и интегрального исчислений, статики, тактики, строительного искусства, теоретической и прикладной механики, химии, военно-строительного искусства, еще и курсы российской словесности, французского языка, рисования, гражданской архитектуры, закона божьего и государственного, отечественной и мировой истории... «Вообразите, – пишет он отцу, – что с раннего утра до вечера мы в классах едва успеваем следить за лекциями. Вечером же мы не только не имеем свободного времени, но даже ни минуты, чтобы следить хорошенько на досуге днем слышанное в классах. Нас посылают на фрунтовое учение, нам дают уроки фехтования, танцев, пения, в которых никто не смеет не участвовать. Наконец, ставят в караул, и в этом проходит все время».
Да, нелегко давалась служба мечтательному, углубленному в себя, в мировые (а как же иначе?) проблемы «рябцу», как насмешливо именовали в училище новичков. «Огромному пышному блестящему майскому параду, где присутствовала вся фамилия царская», предшествовала внушительная подготовка: «Пять смотров великого князя и царя измучили нас. Мы были на разводах, в манежах вместе с гвардией, и перед всяким смотром нас мучили в роте на учениях, на которых мы приготовлялись заранее... В будущем месяце мы выступаем в лагери», – жалуется он брату в письме. Нелегко, конечно, было всем, но, как свидетельствует его товарищ по училищу, в будущем известный художник Трутовский, «во всем училище не было воспитанника, который бы так мало подходил к военной выправке, как Ф. М. Достоевский. Движения его были какие-то угловатые и вместе с тем норовистые. Мундир сидел неловко, а ранец, кивер, ружье – все это казалось какими-то веригами, которые временно он обязан был носить и которые его тяготили.
Нравственно он также отличался от всех своих более или менее легкомысленных товарищей. Всегда сосредоточенный в себе, он в свободное время постоянно задумчиво ходил взад и вперед где-нибудь в стороне, не видя и не слыша, что происходило вокруг него».
Вокруг был один мир: «...что я видел перед собою, какие примеры! – писал позднее об этом времени сам Достоевский. – Я видел мальчиков тринадцати лет, уже рассчитавших себе всю жизнь: где какой чин получить, что выгоднее, как деньги загребать... и каким образом можно скорее дотянуть до обеспеченного, независимого командирства! Это я видел и слышал собственными глазами, и не одного, не двух!» Конечно, Достоевский не был вовсе одинок в училище: рядом с ним было немало по-своему интересных и даже замечательных в будущем людей: известный писатель Дмитрий Григорович, художник Константин Трутовский, физиолог Илья Сеченов, организатор Севастопольской обороны Тотлебен, покоритель Хивы и Самарканда Константин Кауфман, герой Шипки Федор Радецкий... С большинством из них в годы учения у Достоевского сложились товарищеские отношения. И все-таки даже для них он был человек уединенный, замкнутый – «особняк», как назовет его в своих воспоминаниях будущий автор многих теоретических работ но военно-инженерному искусству, а в те времена служивший в училище дежурным офицером, – Александр Савельев.
Новая жизнь давалась ему с великим напряжением сил, нервов, мучениями затаенного самолюбия и честолюбивых надежд. Но была и иная жизнь – внутренняя, сокровенная, непонятная окружавшим его. «Федор Михайлович, – вспоминает Григорович, – уже тогда выказывал черты необщительности... сидел, углубившись в книгу, и искал уединенного места; вскоре нашлось такое место и надолго стало его любимым: глубокий угол четвертой камеры с окном, смотревшим на Фонтанку; в рекреационное время его всегда можно было там найти и всегда с книгой.
Достоевский во всех отношениях был выше меня по развитости; его начитанность изумляла меня. То, что сообщал он о сочинениях писателей, имя которых я никогда не слыхал, было для меня откровением».
Этой внутренней жизнью своей Достоевский мог поделиться разве что со старшим братом, кажется, единственно по-настоящему близким ему в то время человеком.
Но раннему духовному возмужанию он обязан был не только собственной природе, но и тому, кто в те годы благодатно возделывал ее, – старшему другу Ивану Шидловскому.
С благоговейным восторгом вспоминал Достоевский те редкие, свободные от занятий и караульной службы часы, когда он сквозь петербургское ненастье пробирался в скромную квартиру Шидловского, бормоча стихи о грустной зиме Онегина, и они просиживали целые вечера, толкуя бог знает о чем! Гомер, Шекспир, Гёте, Гофман, Шиллер...
«Прошлую зиму я был в каком-то восторженном состоянии, – пишет он брату 1 января 1840 года. – Знакомство с Шидловским подарило меня столькими часами лучшей жизни... Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера. Ошибаешься, брат! Я вызубрил Шиллера, говорил сам, бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда...»
Шиллер переживается не внешне, хотя и вполне литературно: Достоевский и сам как бы становится на время «немного Шиллером». И Гофманом: в его голове возникает даже «прожект: сделаться сумасшедшим. – Пусть люди бесятся, пусть лечат, пусть делают умным». И судьба Гамлета переживается им личностно: «Как малодушен человек! Гамлет! Гамлет! Когда я вспомню эти бурные дикие речи, в которых звучит стенание оцепенелого мира, тогда ни грустный ропот, ни укор не сжимают души моей. Душа так подавлена горем, что боится понять его, чтоб не растерзать себя...»