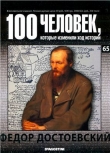Текст книги "Достоевский"
Автор книги: Юрий Селезнев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Нужно было наконец думать и о себе, беспомощность угнетала его. И он решается на отчаянный ход: пишет стихи «На смерть Николая I» и «На день рождения императрицы Александры Федоровны», пытается передать их по инстанции на имя военного губернатора областей степных киргизов Густава Христиановича Гасфорта, с которым уже переговорил Врангель, прося его отослать стихи вдовствующей императрице, матери Александра II. Гасфорт в просьбе отказал, но Александр Егорович советовал Достоевскому не унывать: авось удастся еще договориться двум остзейским баронам.
Стихи, конечно, сочинились слабые, поэт Федор Михайлович никудышный, но не в этом дело: зато они официально-верноподданнические – и в том все их назначение. Достоевский даже поежился, представив, как ухмыльнется старый лис Дубельт, – ведь ежели стихам дадут ход, никак его не минуют, – что, мол, не сладко в Сибири? Вон каким слогом заговорил наш вольнодумец. То-то! Но пусть себе ухмыляется, пусть все посчитают его отступником, человеком сломившимся, дошедшим до попрошайничества у власть имущих, пусть. И Ломоносов, и Державин, даже и Пушкин не считали зазорным обращаться к царям со стихотворными посланиями, а для него сейчас это единственная возможность хоть как-то напомнить о себе и пусть таким опасным путем, но попытаться вернуть себе возможность быть писателем. Нужно бороться за себя, за свою судьбу, за свое будущее слово. Бог простит, умные поймут...
На Гасфорта надежд все-таки немного. Человек он, конечно, отменный, однажды, распекая церковнослужителей за то, что не встретили его конный поезд колокольным звоном и оправдывали себя тем, что сие положено лишь в отношении царя, Густав Христианович возмущенно заметил: «Здесь я царь». И это соответствовало действительности: ну чем не майор Кривцов губернского уже ранга? Впрочем, он полагал себя здесь не только царем. Густав Христианович еще при Николае I задумал целую систему преобразований степного края, в том числе и преобразования религии попавших под его, баронское, управление народов. Магометанство губернатор посчитал варварством, а христианство не устраивало верхушку местной знати уже и тем одним, что не дозволяло иметь столько жен, сколько способен обеспечить муж. Тогда Густав Христианович сел за стол и сочинил для них «новую религию», приспособив к местным обычаям иудаизм. Однако Николай I наложил на проекте нового Моисея резолюцию о том, что религии-де не сочиняются за письменным столом... Густав Христианович обиделся.
Но, как ни противно было его убеждениям способствовать бывшему политическому преступнику, стихи Достоевского все-таки пошли в Петербург: очевидно, интересы баронской солидарности взяли в конце концов верх над прочими соображениями.
Летом в Семипалатинск приехал Чокан Чингизович Валиханов. Достоевский познакомился с ним полтора года назад у Ивановых по выходе из острога и тогда уже многое узнал об этом удивительном молодом казахе. Он только что закончил Сибирский кадетский корпус и теперь назначен был адъютантом при западносибирском генерал-губернаторстве. Человек образованнейший, знающий семь восточных языков, свободно говорит по-русски, с широким кругом разносторонних научных интересов, собирает устное творчество азиатских народов, в том числе и киргизский эпос. Валиханов был сыном султана Чингиза Валиева, внуком знаменитого султана Валихана, правнуком хана средней Кайсацкой орды Аблая.
В своих заметках «В юрте последнего киргизского царевича» Георгий Потанин, сын известного ученого-путешественника, писал о Валиханове: «Это был небывалый феномен – киргизский юноша, офицер... пользовавшийся в местном русском обществе репутацией человека с блестящими умственными способностями и с благородным направлением мыслей... Чокан был киргизский патриот, но в то же время это был и патриот русский...»
Валиханов и Достоевский за немногие дни, проведенные вместе, успели по-настоящему сдружиться, понять и полюбить друг друга. Валиханова угнетало настоящее состояние некогда создавших уникальную культуру народов Средней Азии: «Средняя Азия в настоящем своем общественном устройстве представляет явление крайне печальное, какой-то патологический кризис развития, – писал он в «Очерках о Джунгарии». – ...На развалинах многовратных городов стоят жалкие мазанки, и в них живет дикое, невежественное племя, развращенное исламом и забитое до идиотизма религиозным и монархическим деспотизмом туземных властей – с одной стороны, и полицейской властью китайцев – с другой.
В Маврель-Нагре (нынешняя Бухара, Хива и Коканд), в самой просвещенной и богатой стране древнего Востока (в XIV и XV веках), теперь господствует невежество более, чем где-нибудь. Библиотеки Самарканда, Ташкента, Ферганы (в Кокандском ханстве), Хивы, Бухары... обсерватория в Самарканде безвозвратно погибли под беспощадною рукою татарского вандализма и бухарской инквизиции...»
В России, в ее широкой, открытой душам других народов культуре, видел Валиханов единственную защиту от полного политического, национального и культурного упадка, порабощения великоханьским Китаем, надежду на возрождение народов Средней Азии.
Два великих патриота сразу же нашли единый язык.
«Мне так приятны эти немногие дни, проведенные с Вами в Семипалатинске, – писал Валиханов Достоевскому из Омска 5 декабря 1856 года, – что теперь только о том и думаю, как бы еще побывать у Вас. Я не мастер писать о чувствах... но думаю... Вы, конечно, знаете, как я к Вам привязан и как я Вас люблю...» Общение с Достоевским помогло Валиханову окончательно решить для себя вопрос о выборе жизненного пути – пути просветителя своего народа. «Мы связаны с русскими, – писал он, – исторически и даже кровным родством. Судьба миллионов людей, подающих несомненные надежды на гражданственное развитие людей, которые считают себя братьями русских по Отечеству и поступили в русское подданство добровольно, кажется, заслуживает большего внимания и большей попечительности в таких решительных вопросах, которые формируются в шекспировское «быть или не быть».
«...Вы пишете мне, что меня любите, – отвечал Доcтоевский. – А я Вам объявляю без церемоний, что я в Вас влюбился. Я нигде и ни к кому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения, как к Вам.
...Вы спрашиваете совета: как поступить Вам... Напишите статью о Степи... помните, мы говорили об этом... Тогда бы Вы могли заинтересовать даже родных Ваших возможностью новой дороги для Вас.
...не великая ли цель, не святое ли дело – быть чуть ли не первым из своих, который бы растолковал в России, что такое Степь, ее значение и Ваш народ относительно России, и в то же время, служить своей родине, просвещенным ходатайством за нее у русских. Вспомните, что Вы первый Киргиз – образованный по-европейски вполне. Судьба же Вас сделала вдобавок превосходнейшим человеком, дав Вам и душу и сердце... Настаивайте, старайтесь и даже хитрите, если можно...»1919
Мухтар Ауззов писал: «Достоевский советует Чокану выступить с «просвещенным ходатайством» за свой народ... В этих заботливых думах Достоевского о Степи, о долге первого просвещенного сына этой Степи, сказалась светлая, благородная роль передовой русской интеллигенции в судьбе народов России... Нам бесконечно дорого сознавать, что великий русский писатель Ф. М. Достоевский говорил о своих думах и чаяниях с лучшими представителями казахского народа, что он мыслил будущее этого народа связанным с русским народом».
[Закрыть]
Не вспомнилась ли ему при этом собственная хитрость со стихами? Чем-то она обернется еще?..
А тут известие: умер Александр Иванович Исаев. Мария Дмитриевна в крайнем положении, сама больна, есть нечего и вообще нет ничего, кроме долгов. Достоевский заметался, собрался сбежать в Кузнецк – а там хоть под суд! – еле отговорили. И Александр Егорович, как назло, уехал в Барнаул по служебным делам. Достоевский пишет ему письмо, умоляет найти возможность помочь несчастной женщине: «...Александр Иванович скончался. Вы не поверите, как мне жаль его... Может быть, я только один из здешних и умел ценить его. Если были в нем недостатки, наполовину виновата в них его черная судьба. Желал бы я видеть, у кого бы хватило терпения при таких неудачах? Зато сколько доброты, сколько истинного благородства. Боюсь, не виноват ли я перед ним, что подчас, в желчную минуту, передавал Вам и, может быть, с излишним увлечением одни только дурные его стороны. Он умер в нестерпимых страданиях, но прекрасно, как дай бог умереть и нам с вами. И смерть красна на человека. Он умер твердо, благословляя жену и детей и только томясь об их участи. Несчастная Марья Дмитриевна... Она в отчаянии... Кто-то прислал ей три рубля серебром: «Нужда руку толкала принять, – пишет она, – и приняла подаяние!»
Александр Егорович тоже помог вдове деньгами. Достоевского буквально доводила до бешенства невозможность хоть чем-то посодействовать несчастной любимой женщине.
«Я одинок, как камень отброшенный», – жалуется он Михаилу, И все-таки он счастлив тем, что даже в эти дни вера в жизнь не покинула его. «Мне кажется, – писал он Прасковье Егоровне Анненковой, – что такие прекрасные души, как ее (Ольги Ивановны, дочери ее, жены Иванова, приютившей у себя Достоевского после острога), должны быть счастливы; несчастны только злые. Мне кажется, что счастье в светлом взгляде на жизнь и в безупречности сердца, а не во внешнем. Так ли?..»
В ноябре пришло известие о производстве Достоевского в унтер-офицеры. Это уже кое-что... пусть и незаметное почти, но все-таки движение заржавевшего колеса его судьбы. Неужто все-таки стихи сработали?
Он снова вернулся к своим «Запискам из мертвого дома». Но конец 55-то и начало 56-го принесли новые огорчения: Врангель получил назначение в другой город, Достоевский терял теперь единственно близкого ему здесь человека, с которым мог он поделиться чувствами, да и некоторыми мыслями, к которому не стеснялся обратиться за помощью и который принимал участие не только в настоящей, но и в будущей судьбе своего друга: писал в Петербург родным, знакомым, прося их похлопотать о Достоевском.
А однажды, открыв свежий, 12-й за 55-й год, номер некрасовского «Современника», он прочитал нечто поразившее его: «Всякое новое явление в литературе, всякий новый талант производили на меня невыразимо отрадное впечатление... за неимением настоящих героев, я поклонялся кумирчикам, которые созидались людьми, мне близкими... Одного, произведенного таким образом в кумиры, курениями и поклонениями... мы чуть было даже не свели с ума. Этому кумирчику посчастливилось более, нежели другому: его мы носили на руках по городским стогнам и, показывая публике, кричали: «Вот только что народившийся маленький гений, который со временем убьет своими произведениями всю настоящую и прошедшую литературу. Кланяйтесь ему! Кланяйтесь». Одна барышня с пушистыми буклями и блестящим именем... пожелала его видеть... и наш кумирчик был поднесен к ней... «Вот он! смотрите!..»
Только что барышня с пушистыми локонами хотела поднести нашему маленькому гению благовонную светскую безделушку, как вдруг он побледнел и зашатался. Его вынесли в заднюю комнату и облили одеколоном... С тех пор наш маленький гений сделался невыносим. Кумирчик наш потребовал, чтобы его статья была, не в пример другим, обведена золотым бордюром или каймою. Издатель на все согласился. С этой минуты кумирчик наш стал совсем заговариваться и вскоре был низвергнут с пьедестала...» Фельетон назывался «Литературные кумиры...» (Из моих воспоминаний), под фельетоном значилось имя: Иван Панаев...
Ему вдруг стало стыдно, будто он на военном плацу услышал такую утонченно-витиеватую брань одного из умельцев командиров, от которой краснели солдаты. Старые друзья хоронили его вторично, хоронили с беспечным смехом, выбрав для шутовского обряда очень уж удачное время...
А тут еще новость: донеслись слухи, будто Мария Дмитриевна собирается замуж... В отчаянии пишет он Александру Егоровичу: «...Если б вы только знали всю мою тоску, все мое уныние, почти отчаяние теперь, в настоящую минуту, то, право, поняли бы, почему я ожидаю вашего письма как спасенья... Вдруг слышу здесь, что она дала слово другому... Она спрашивает моего совета. Просит обсудить дело хладнокровно, как следует другу. и ответить немедленно...
Неподвижная идея в моей голове! Едва понимаю, как живу и что мне говорят. О не дай, господи, никому этого страшного, грозного чувства. Велика радость любви, но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить... Но рассудите: что же делать было ей, бедной, заброшенной, болезненно-мнительной и наконец потерявшей всю веру в устройство судьбы моей! Ведь не за солдата же выйти ей...»
Он сравнивает свое и ее положение с героями «Бедных людей» – «напророчил же я себе!»; просит передать вложенное в этот же конверт письмо Эдуарду Ивановичу Тотлебену; в письме он умоляет севастопольского героя походатайствовать за него: «Ваше слово может много значить теперь у милосердного монарха нашего, Вам благодарного и Вас любящего. Вспомните о бедном изгнаннике и помогите ему. Я желаю быть полезным. Трудно, имея в душе силы, а на плечах голову, не страдать от бездействия. Но военное звание не мое поприще... Вся мечта моя быть уволенным... Звание писателя я всегда считал благороднейшим, полезнейшим званием. Есть у меня убеждение, что только на этом пути я мог бы истинно быть полезным...»
Он готов был пойти под суд, лишь бы увидеться с Марией Дмитриевной, объясниться, утешить, похоже по всему, обезумевшую, отчаявшуюся женщину. В июне ему удается получить командировку для лечения падучей в Барнаул. Тоже не ближний свет до Кузнецка, но, рискуя многим, заехал все-таки на два дня к любимой. Здесь-то Достоевский и узнал имя человека, за которого решила выйти замуж Мария Дмитриевна: он оказался молодым, двадцатичетырехлетним сослуживцем ее мужа (Достоевский же и помог ему получить место учителя в Кузнецке) Николаем Борисовичем Вергуновым. Достоевский был поражен, отказался поверить в такую нелепость: если Мария Дмитриевна отказывает ему, как она его убеждала, только потому, что он человек без средств, а ей необходимо устроить не только собственную, но и судьбу сына и старого отца, то при чем тут Вергунов, который и сам едва сводит концы с концами? Тогда Мария Дмитриевна призналась, что любит этого молодого человека, но уже перед отъездом Федора Михайловича подала и ему надежду: «Не плачь, не грусти, не все еще решено...» Мария Дмитриевна просила его встретиться со своим женихом и объясниться. Вергунов расплакался, начал умолять Достоевского не мешать их счастью. Федор Михайлович чувствовал свое ложное положение: попробуй начни разубеждать, нарисуй им их будущее, которое он слишком хорошо представлял себе, – оба решат, что он ради себя старается. И Вергунов понял его состояние – а еще говорят, будто любовь даже умного превращает в дурака, – решил и вовсе не объясняться с Достоевским.
Однако Мария Дмитриевна настаивала, уже в письмах, чтобы Достоевский изложил Вергунову свои соображения насчет ее замужества с молодым человеком. «Ты и я и более никто», – написала она Федору Михайловичу и тем снова как будто подарила надежду, но слово брат, любимое его слово, с которым обращалась к нему любимая им женщина, приводило его в отчаяние. А еще через несколько дней она рисовала ему уже, сколь безутешен бедный Николай Борисович, обещающий наложить на себя руки, ежели она не выйдет за него замуж, и еще раз убеждала Федора Михайловича написать ему письмо, утешить, ободрить, объяснить...
И Достоевский написал – ему стало искренне жаль бедного молодого человека, и вскоре получил от него ответ: «...Вы спрашиваете, на какую жизнь я ее обрекаю? Но те самые двадцать четыре года, которые вы используете как главный довод против меня, можно обратить и в мою пользу – ведь если мне двадцать четыре года, то у меня еще все впереди! И неужели же ей лучше будет с вами, тридцатипятилетним пожилым человеком, у которого все уже позади, уже отличившимся, не в хорошем, а в плохом смысле, и тем самым закрывшим себе все пути? Наконец – не сердитесь, что она и об этом мне рассказала, – человеком больным, всегда мрачным и с дурным настроением! Да и не по той ли причине убеждаете вы меня «отказаться» и «не портить» ей жизнь, что хотите получше устроить свою собственную жизнь? Она любит меня, а не вас, и странно было бы, если бы это было иначе!» Тут же поспело письмо и от Марии Дмитриевны, в котором она успокаивала Федора Михайловича – ничего еще не решено окончательно, но... кажется, она больше любит все-таки Вергунова...
«Дурное сердце у него, я так думаю», – написал он о Вергунове Врангелю, о ней же (великий сердцевед!): «...у ней сердце рыцарское: сгубит она себя. Не знает она себя, а я ее знаю!..» Тут же просит Александра Егоровича похлопотать о Паше и – «Еще одна крайняя просьба до вас. Ради бога, ради света небесного, не откажите. Она не должна страдать. Если уж выйдет за него, то пусть хоть бы деньги были. А для того ему надо место, перетащить его куда-нибудь... Это все для нее, для нее одной. Хоть бы в бедности-то она не была, вот что!..» И снова умоляет: «...У него ничего нет, у нее тоже. Брак потребует издержек, от которых они оба года два не поправятся... За что же она, бедная, будет страдать?.. И потому, ради бога, исполните... те просьбы, которые я вам настрочил в прошлом письме. Вы не знаете, до какой степени вы меня осчастливите...
Если б хоть опять увидеть ее, хоть час один! И хотя ничего бы из этого не вышло, но, по крайней мере, я бы видел ее...» К сожалению, он слишком ясно сознавал: «Если б удались дела мои, то я был бы предпочтен всем икаждому!» Будь он теперь офицером – пожалуй, не пришлось бы столько перестрадать, сколько пришлось ему. И от этого сознания становилось совсем уж горько: «...ей-богу, хоть в воду, хоть вино начать пить...»
Александр Егорович Врангель был не из тех людей, для которых на чужой спине беремя легко. Будучи это время в Петербурге, страдал за своего явно попавшего в серьезную душевную беду друга и делал все, чтобы ему было хоть немного покойнее: хлопотал за Пашу, писал добросердечные письма Марии Дмитриевне, посылал деньги так, чтобы она даже не знала, от кого. Но, главное, боролся за самого Федора Михайловича; ему удалось передать письмо Эдуарду Тотлебену, убедить его в необходимости любыми средствами добиться у государя императора облегчения судьбы удивительной души человека, большого русского писателя, бессрочного солдата Достоевского.
Кажется, уж так узнал он душу Федора Михайловича, но теперь просто сотрясался, представляя, до какой крайности она доведена: «Привязанность Достоевского к Исаевой всегда была велика, – писал он, – но теперь, когда она осталась одинока, Федор Михайлович считает прямо целью своей жизни попечение о ней и ее сироте Паше. Надо знать, что ему хорошо было известно в то время, что Марии Дмитриевне нравится в Кузнецке молодой учитель... личность, как говорили, совершенно бесцветная. Не чуждо, конечно, было Достоевскому и чувство ревности, а потому тем более нельзя не преклониться перед благородством его души: забывая о себе, он отдавал себя всецело заботам о счастии и спокойствии Исаевой...
Какая высокая душа, незлобивая, чуждая всякой зависти была у Федора Михайловича, судите сами, читая его заботливые хлопоты о своем сопернике... В одном письме ко мне... Достоевский пишет: «на коленях готов за него... просить. Теперь он мне дороже брата родного... Ради бога, сделайте хоть что-нибудь – подумайте и будьте мне братом родным». Много ли найдется таких самоотверженных натур, забывающих себя для счастья другого».
Суровый воин, генерал-адъютант его императорского величества, Эдуард Иванович Тотлебен был убежден своим другом Врангелем и лично обратился к царю с просьбой о помиловании политического преступника Достоевского. Александр II продиктовал ему резолюцию о производстве Достоевского в прапорщики с предоставлением в случае необходимости права на увольнение в статскую службу, а также об установлении за ним секретного наблюдения впредь до полного удостоверения в его благонадежности, после чего ему будет дозволено печатать свои литературные труды.
Весть о производстве его в офицеры, а затем, спустя некоторое время, и о возвращении ему дворянского звания обрадовала Достоевского прежде всего тем, что он мог теперь с большими основаниями побороться за Марию Дмитриевну.
«...Бог вас послал мне. Благодарю вас и обнимаю крепко, крепко. Вы знаете, что я вас люблю», – писал он Александру Егоровичу. И затем, конечно же, о ней. «Она довела меня до безумия, – жалуется он. – Не качайте головой, не осуждайте меня; я знаю, что я действую не благоразумно во многом в моих отношениях к ней... Я несчастный сумасшедший! Любовь в таком виде есть болезнь. Я это чувствую... Но она явилась мне в самую грустную пору моей судьбы...»
Ему удалось снова отпроситься в Барнаул, и вот он вновь едет к Марии Дмитриевне. И на этот раз она дает наконец согласие выйти за него замуж. Федор Михайлович начинает готовиться к свадьбе: пишет родственникам, просит денег, так как сидит без копейки, – отдаст ведь, пусть не сомневаются – будет адски работать и все отдаст. Врангель деликатно отговаривает его от неверного шага, он слишком знает своего друга: измучает, изведет его своими капризами неуравновешенная женщина; и не поймет она никогда, что такое Достоевский, всегда будет он ей только средством для обеспечения жизни – и насколько сумеет сам соответствовать ее представлениям о муже, настолько и будет хорош; да и не любит она его вовсе... Впрочем, впрочем, он и сам сознавал все это; только разве же разум способен сдержать порыв обезумевшего сердца?
Наконец он все-таки занимает нужную сумму, получает от начальства разрешение на вступление в брак и 27 января 1857 года отъезжает в Кузнецк. 6 февраля оформляется «Обыск брачный Одигитриевской церкви о вступлении в брак... Возраст к супружеству имеют совершенный – и именно: жених тридцати четырех лет, невеста двадцати девяти лет и оба находятся в здравом уме...»
15 февраля здесь же совершилось и венчание. Свадьба была непышная, людей собралось немного, но не это угнетало Достоевского: одним из четырех поручителей невесты стал, по ее желанию, Николай Вергунов. Что творилось с женихом – «что в эту минуту с душой человеческой делается?» – кто скажет. Возражать он не стал – не хотел огорчать невесту, но он знал, что и собравшиеся знают об отношениях Марии Дмитриевны и ее поручителя и, более того, знают, что и он знает об этих отношениях... Достоевский переживал не за себя даже – за Марию Дмитриевну: его беспокоил малодушный, но не в меру бойкий Вергунов: не сотворит ли беды, не выкинет ли с отчаяния что-нибудь эффектное, драматическое – «не позовет ли он ее к смерти?» – как определил суть своих мучений сам Достоевский в письме к Врангелю.
Ему все представлялось, что вот сейчас, через минуту, мгновение Вергунов схватит ее вдруг за руку и потащит от венца или она сама крикнет ему – «увези меня!» – и увезет, из одной только мести ему увезет, а он как идиот останется один на один с ухмыляющимися лицами: увезет и зарежет, пожалуй, чтоб не вернулась вдруг снова сюда, по малодушному себялюбию зарежет... Но все обошлось без эффектов, и ему стало стыдно за примерещившийся вдруг и пережитый в несколько мгновений мрачный роман. Но – кто знает? – может, только какой-нибудь невольный жест или взгляд один мог бы обратить пережитое воображением в переживаемое наяву...
Состояние Марии Дмитриевны и во время венчания, и по возвращении домой, на свадьбе и после, в первые «медовые дни», еще более обострило в нем сомнение: вышла ли она замуж за него или все-таки за «офицера Достоевского», поверив теперь в его будущее? Любит же она Вергунова...
Когда впервые при ней с ним случился припадок – слишком велико было нервное перевозбуждение, – ему показалось: испугалась она не за него, за себя. По дороге в Семипалатинск заехали на несколько дней в Барнаул к Петру Петровичу Семенову, ученому, путешественнику (в августе прошлого года он заезжал к Достоевскому в Семипалатинск по дороге из Барнаула в киргизские степи), теперь он собирался в экспедицию на Тянь-Шань.
В Барнауле случился и новый, второй за несколько последних дней, сильнейший припадок, напугавший Марию Дмитриевну чуть не до смерти. Врач определил неизлечимую падучую – эпилепсию, предсказал, что умрет Достоевский во время одного из таких припадков, задохнувшись от горловой спазмы. Федор Михайлович приуныл. Приуныла и его супруга. Невесело доехали до Семипалатинска.
И началась новая, семейная жизнь. Служба была много легче – теперь сам он командует взводом, да и времени свободного поболее, можно работать над давно уже начатыми повестями «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково», не только по ночам. Начинает переписку с журналами. В августе 57-го в «Отечественных записках» вышла повесть его «Маленький герой» (так Краевский переименовал его «Детскую сказку», написанную еще в 49-м, в Алексеевском равелине). Но появление наконец в печати его произведения не обрадовало Достоевского: во-первых, повесть вышла под псевдонимом «М-ий», и никто не поймет, кто ее подлинный автор, ему же нужно было, чтобы в печати появилось его имя; во-вторых, не так ему мечталось вернуться в литературу; нужно нечто большое, могучее, что сразу же вернуло бы ему имя и уверенность в себе...
Работал много; много и хворал. Хворала и Мария Дмитриевна. Счастья семейная жизнь явно не сулила. Впрочем, «На свете счастья нет, а есть покой и воля...». Воля дразнила и теперь своей возможностью. Покоя же не предвиделось. Мария Дмитриевна хандрила, капризничала, нередко поминала Николая Борисовича, прекрасного молодого человека, которого оставила ради неблагодарного, вечно хмурого и более занятого своими бумажками, нежели ею, мужа. А вместе с тем бешено ревновала его, хотя ревновать было и не к кому, разве что только к разбитной красивой Марине – дочери ссыльного поляка...
Достоевский по просьбе самой Марии Дмитриевны два года назад начал заниматься с семнадцатилетней девушкой, которая и стала приходить в «Казаков сад» учиться грамоте. Прехорошенькая, она «усиленно кокетничала и задорно заигрывала со своим учителем», – вспоминал Врангель. И вдруг ее словно подменили: «мрачная, похудевшая, какая-то опустившаяся... Принялись мы допрашивать ее оба, и вот что поведала она нам.
Сын городского головы, носивший в городе кличку «Ваньки Саврасого», 18-летний юноша, давно заглядывался на красивую Марину; при помощи ключницы, прельщавшей ее богатством, Марина сдалась; негодяй, позабавившись, скоро ее бросил. Свидетелем этих похождений был кучер юного савраса, старый и грязный старик киргиз. И вот этот гнусный человек пригрозил ей, что он об ее похождениях донесет отцу и мачехе. Запуганная и бесхарактерная Марина поддалась. Этот негодяй всячески эксплуатировал ее. Она ненавидела его, боялась...
Дело было вопиющее. Пришлось мне воспользоваться моею властью – я выселил киргиза из города. Через год отец Марины выдал ее насильно замуж за старого, необразованного хорунжего. Марина его ненавидела и кокетничала со всеми по-прежнему...
Впоследствии, когда Достоевский был женат, Марина не раз служила причиной ревности и раздора между Марией Дмитриевной и Федором Михайловичем, преследуя его своим кокетством, что страшно волновало уже больную тогда его жену».
Достоевскому была неприятна эта ревность, он по-прежнему любил одну только жену свою, хотя пыл его она сразу же сумела поубавить постоянными упреками, мелким придирками, а главное – почти полным равнодушием к его литературным трудам и надеждам – вот это-то и есть истинная причина ее ревности, – все более убеждался он. Когда же однажды во время очередной перепалки она хлестнула его словно плетью: «каторжник!» – губы у него задрожали, руки опустились, и он почувствовал вдруг внутри себя страшную пустоту, которую теперь ничем уже нельзя было заполнить.
Если бы он знал тогда, что перед ним психически больной человек, что болезнь эта все прогрессирует, он не отчаялся бы, не охладел к ней, напротив, стерпел бы любые обиды, оскорбления, полюбил бы несчастную еще и жалостью сострадания; но он не знал об этом и сам ужасался, чувствуя, как с каждым ее новым мучительством, с очередным припадком язвительности, могучее, казалось ему, всепобеждающее чувство уходит, истачивается сквозь невидимые миру, но вполне осязаемые им щели и трещины словно прохудившейся от бесхозяйственного отношения к ней души.
«Мы были с ней положительно несчастны вместе», – напишет он об этом времени Врангелю через восемь лет. К сожалению, он и сам был слишком раним, слишком мнителен, склонен к преувеличениям. Каждый задевающий сердце жест, каждое ранящее слово воспринимались не просто человеком Достоевским, но и Достоевским-писателем, разделить которых было невозможно. Слова и жесты переходили из сферы человеческих отношений в область творческого воображения, не всегда подвластную воле и тем более рассудку человека, наполнялись иным, порою трагическим смыслом и не сразу и не все откладывались в тайники дожидаться своего часа, когда призовут их воплотиться на бумаге в слова, в предложения, главы, романы, чтобы зажить уже новой духовной жизнью. Достоевский порою и сам уже, возможно, не знал до конца, что принадлежит голой реальности, а что его собственному творческому воображению.
Во всяком случае, сама Мария Дмитриевна не воспринимала бывшее и происходящее столь трагически, как ее нервный супруг. «...Муж мой посылает Вам всем поклон и просит полюбить его так же братски, как когда-то любила ты искренне доброго Александра Ивановича, – пишет она своей сестре Варе. – Скажу тебе, Варя, откровенно – если б я не была так счастлива и за себя и за судьбу Паши, то, право, нужно было поссориться с тобою, но в счастье мы все прощаем. Я не только любима и балуема своим умным, добрым, влюбленным в меня мужем, – даже и уважаема и его родными. Паша кланяется тебе, он очень любим и балуем Федором Михайловичем». Вряд ли можно усомниться в искренности признаний Марии Дмитриевны, но... Но в письмах ее нет и ни слова о том, что она влюблена в мужа, что он любим и балуем ею. Думается, и это умолчание столь же искренно, потому хотя бы, что, судя по всему, непредумышленно.
Федор Михайлович тоже писал Варваре Дмитриевне: «В Москву я крепко надеюсь воротиться в наступающем году... Но в Астрахань уже, конечно, я поеду вместе с женой. Но Бог располагает, и только он один. Знаете ли, у меня есть какой-то предрассудок, предчувствие, что я скоро должен умереть... и уверенность моя в близкой смерти совершенно хладнокровная. Мне кажется, что я уже все прожил на свете и что более ничего и не будет, к чему можно стремиться...»
И Михаилу: «Жизнь моя тяжела и горька. Не пишу тебе о ней ни слова...»
Может быть, они слишком разное вкладывали в понятия «любовь», «счастье», «жизнь»?
В январе 58-го Достоевский подал в отставку с просьбой о дозволении ему жить в Петербурге или, в случае невозможности такого дозволения, в Москве.