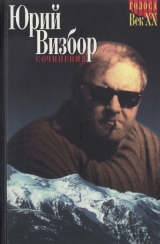
Текст книги "т.2. Проза и драматургия"
Автор книги: Юрий Визбор
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Дина Рубина
Русская канарейка. Желтухин
© Д. Рубина, 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ( www.litres.ru)
* * *
Пролог
«…Нет, знаете, я не сразу понял, что она не в себе. Такая приятная старая дама… Вернее, не старая, что это я! Годы, конечно, были видны: лицо в морщинах и все такое. Но фигурка ее в светлом плаще, по-молодому так перетянутом в талии, и этот седой ежик на затылке мальчика-подростка… И глаза: у стариков таких глаз не бывает. В глазах стариков есть что-то черепашье: медленное смаргивание, тусклая роговица. А у нее были острые черные глаза, и они так требовательно и насмешливо держали тебя под прицелом… Я в детстве такой представлял себе мисс Марпл.
Короче, она вошла, поздоровалась…
И поздоровалась, знаете, так, что видно было: вошла не просто поглазеть и слов на ветер не бросает. Ну, мы с Геной, как обычно, – можем ли чем-то помочь, мадам?
А она нам вдруг по-русски: “Очень даже можете, мальчики. Ищу, – говорит, – подарок внучке. Ей исполнилось восемнадцать, она поступила в университет, на кафедру археологии. Будет заниматься римской армией, ее боевыми колесницами. Так что я намерена в честь этого события подарить моей Владке недорогое изящное украшение”.
Да, я точно помню: она сказала “Владке”. Понимаете, пока мы вместе выбирали-перебирали кулоны, серьги и браслеты – а старая дама так нам понравилась, хотелось, чтоб она осталась довольна, – мы успели вдоволь поболтать. Вернее, разговор так вертелся, что это мы с Геной рассказывали ей, как решились открыть бизнес в Праге и про все трудности и заморочки с местными законами.
Да, вот странно: сейчас понимаю, как ловко она разговор вела; мы с Геной прямо соловьями разливались (очень, очень сердечная дама), а о ней, кроме этой внучки на римской колеснице… нет, ничего больше не припоминаю.
Ну, в конце концов выбрала браслет – красивый дизайн, необычный: гранаты небольшие, но прелестной формы, изогнутые капли сплетаются в двойную прихотливую цепочку. Особенный, трогательный браслетик для тонкого девичьего запястья. Я посоветовал! И уж мы постарались упаковать его стильно. Есть у нас VIP-мешочки: вишневый бархат с золотым тиснением на горловине, розовый такой венок, шнурки тоже золоченые. Мы их держим для особо дорогих покупок. Эта была не самой дорогой, но Гена подмигнул мне – сделай…
Да, заплатила наличными. Это тоже удивило: обычно у таких изысканных пожилых дам имеются изысканные золотые карточки. Но нам-то, в сущности, все равно, как клиент платит. Мы ведь тоже не первый год в бизнесе, в людях кое-что понимаем. Вырабатывается нюх – что стоит, а чего не стоит у человека спрашивать.
Короче, она попрощалась, а у нас осталось чувство приятной встречи и удачно начатого дня. Есть такие люди, с легкой рукой: зайдут, купят за пятьдесят евро плевые сережки, а после них ка-ак повалят толстосумы! Так и тут: прошло часа полтора, а мы успели продать пожилой японской паре товару на три штуки евриков, а за ними три молодые немочки купили по кольцу – по одинаковому, вы такое можете себе представить?
Только немочки вышли, открывается дверь, и…
Нет, сначала ее серебристый ежик проплыл за витриной.
У нас окно, оно же витрина – полдела удачи. Мы из-за него это помещение сняли. Недешевое помещение, могли вполовину сэкономить, но из-за окна – я как увидел, говорю: Гена, вот тут мы начинаем. Сами видите: огромное окно в стиле модерн, арка, витражи в частых переплетах… Обратите внимание: основной цвет – алый, пунцовый, а у нас какой товар? У нас ведь гранат, камень благородный, теплый, отзывчивый на свет. И я, как увидал этот витраж да представил полки под ним – как наши гранаты засверкают ему в рифму, озаренные лампочками… В ювелирном деле главное что? Праздник для глаз. И прав оказался: перед нашей витриной люди обязательно останавливаются! А не остановятся, так притормозят – мол, надо бы зайти. И часто заходят на обратном пути. А если уж человек зашел, да если этот человек – женщина…
Так я о чем: у нас прилавок с кассой, видите, так развернут, чтобы витрина в окне и те, кто за окном проходит, как на сцене были видны. Ну и вот: проплыл, значит, ее серебристый ежик, и не успел я подумать, что старая дама возвращается к себе в отель, как открылась дверь, и она вошла. Нет, спутать я никак не мог, вы что – разве такое спутаешь? Это было наваждение повторяющегося сна.
Она поздоровалась, как будто видит нас впервые, и с порога: “Моей внучке исполнилось восемнадцать лет, да еще она в университет поступила…” – короче, всю эту байду с археологией, римской армией и римской колесницей… выдает как ни в чем не бывало.
Мы онемели, честно говоря. Если б хоть намек на безумие в ней проглядывал, так ведь нет: черные глаза глядят приветливо, губы в полуулыбке… Абсолютно нормальное спокойное лицо. Ну, первым Гена очнулся, надо отдать ему должное. У Гены мамаша – психиатр с огромным стажем.
“Мадам, – говорит Гена, – мне кажется, вы должны заглянуть в свою сумочку, и вам многое станет ясно. Сдается мне, что подарок внучке вы уже купили и он лежит в таком нарядном вишневом мешочке”.
“Вот как? – удивленно отвечает она. – А вы, молодой человек, – иллюзионист?”
И выкладывает на витрину сумочку… черт, вот у меня перед глазами эта винтажнаясумочка: черная, шелковая, с застежкой в виде львиной морды. И никакого мешочка в ней нет, хоть ты тресни!
Ну, какие мысли у нас могли возникнуть? Да никаких. У нас вообще крыши поехали. А буквально через секунду громыхнуло и запылало!
…Простите? Нет, потом такое началось – и на улице, и вокруг… И к отелю – там ведь и взорвалась машина с этим иранским туристом, а? – понаехало до черта полиции и “Скорой помощи”. Нет, мы даже и не заметили, куда девалась наша клиентка. Вероятно, испугалась и убежала… Что? Ах да! Вот Гена подсказывает, и спасибо ему, я ведь совсем забыл, а вам вдруг пригодится. В самом начале знакомства старая дама нам посоветовала канарейку завести, для оживления бизнеса. Как вы сказали? Да я и сам удивился: при чем тут канарейка в ювелирном магазине? Это ведь не караван-сарай какой-нибудь. А она говорит: “На Востоке во многих лавках вешают клетку с канарейкой. И чтоб веселей пела, удаляют ей глаза острием раскаленной проволоки”.
Ничего себе – замечание утонченной дамы? Я даже зажмурился: представил страдания бедной птички! А наша “мисс Марпл” при этом так легко рассмеялась…»
Молодой человек, излагавший эту странную историю пожилому господину, что вошел в их магазин минут десять назад, потолокся у витрин и вдруг развернул серьезнейшее служебное удостоверение, игнорировать которое было невозможно, на минуту умолк, пожал плечами и взглянул в окно. Там карминным каскадом блестели под дождем воланы черепичных юбок на пражских крышах, двумя голубыми оконцами мансарды таращился на улицу бокастый приземистый домик, а над ним раскинул мощную крону старый каштан, цветущий множеством сливочных пирамидок, так что казалось – все дерево усеяно мороженым из ближайшей тележки.
Дальше тянулся парк на Кампе – и близость реки, гудки пароходов, запах травы, проросшей меж камнями брусчатки, а также разнокалиберные дружелюбные собаки, спущенные хозяевами с поводков, сообщали всей округе то ленивое, истинно пражское очарование…
…которое так ценила старая дама: и это отрешенное спокойствие, и весенний дождь, и цветущие каштаны на Влтаве.
Испуг не входил в палитру ее душевных переживаний.
Когда у дверей отеля (за которым последние десять минут она наблюдала из окна столь удобно расположенной ювелирной лавки) рванул и пыхнул огнем неприметный «Рено», старая дама просто выскользнула наружу, свернула в ближайший переулок, оставив за собой оцепеневшую площадь, и прогулочным шагом, мимо машин полиции и «Скорой помощи», что, вопя, протирались к отелю сквозь плотную пробку на дороге, миновала пять кварталов и вошла в вестибюль более чем скромной трехзвездочной гостиницы, где уже был заказан номер на имя Ариадны Арнольдовны фон (!) Шнеллер.
В затрапезном вестибюле этого скорее пансиона, нежели гостиницы постояльцев тем не менее старались знакомить с культурной жизнью Праги: на стене у лифта висела глянцевая афиша концерта: некий Leon Etinger, kontratenor(белозубая улыбка, вишневая бабочка), исполнял сегодня с филармоническим оркестром несколько номеров из оперы «Милосердие Сципиона» («La clemenza di Scipione») Иоганна Христиана Баха (1735–1782). Место: собор Святого Микулаша на Мала-Стране. Начало концерта в 20.00.
Подробно заполнив карточку, с особенным тщанием выписав никому здесь не нужное отчество, старая дама получила у портье добротный ключ с медным брелком на цепочке и поднялась на третий этаж.
Ее комната под номером 312 помещалась очень удобно – как раз против лифта. Но, оказавшись перед дверью в свой номер, Ариадна Арнольдовна почему-то не стала ее отпирать, а, свернув влево и дойдя до номера 303 (где уже два дня обитал некий Деметрос Папаконстантину, улыбчивый бизнесмен с Кипра), достала совсем другой ключ и, легко провернув его в замке, вошла и закрыла дверь на цепочку. Сбросив плащ, она уединилась в ванной, где каждый предмет был ей, похоже, отлично знаком, и, первым делом намочив махровое полотенце горячей водой, с силой провела им по правой стороне лица, стащив дряблый мешок под глазом и целую россыпь мелких и крупных морщин. Большое овальное зеркало над умывальником явило безумного арлекина со скорбной половиной старушечьей маски.
Затем, поддев ногтем прозрачную клейкую полоску надо лбом, старая дама совлекла седой скальп с абсолютно голого черепа – замечательной, кстати сказать, формы, – разом преобразившись в египетского жреца из любительской постановки учеников одесской гимназии.
Левая сторона морщинистой личины оползла, как и правая, под напором горячей воды, вследствие чего обнаружилось, что Ариадне Арнольдовне фон (!) Шнеллер неплохо бы побриться.
«А недурно… ежик этот, и старуха чокнутая. Удачная хохма, Барышне понравилось бы. И педики смешные. До восьми еще куча времени, но – распеться…» – подумала…
…подумал, изучая себя в зеркале, молодой человек самого неопределенного – из-за субтильного сложения – возраста: девятнадцать? двадцать семь? тридцать пять? Такие гибкие, как угорь, юноши обычно исполняли женские роли в средневековых бродячих труппах. Возможно, поэтому его часто приглашали петь женские партии в оперных постановках, он бывал в них чрезвычайно органичен. Вообще, музыкальные критики непременно отмечали в рецензиях его пластичность и артистизм – довольно редкие качества у оперных певцов.
И думал он на невообразимой смеси языков, но слова «хохма», «ежик» и «Барышня» мысленно произнес по-русски.
На этом языке он разговаривал со своей взбалмошной, безмозглой и очень любимой матерью. Вот ее-то как раз и звали Владкой.
Впрочем, это целая история…
Зверолов
1
…А по-другому его в семье и не называли. И потому, что многие годы он поставлял животных ташкентскому и алма-атинскому зоопаркам, и потому, что это прозвище так шло всему его жилисто-ловчему облику.
На груди у него спекшимся пряником был оттиснут след верблюжьего копыта, вся спина исполосована когтями снежного барса, а уж сколько раз его змеи кусали – так то и вовсе без счету… Но он оставался могучим и здоровым человеком даже и в семьдесят, когда неожиданно для родных вдруг положил себе умереть, для чего ушел из дому так, как звери уходят умирать, – в одиночестве.
Восьмилетний Илюша эту сцену запомнил, и впоследствии она, очищенная памятью от сумбура восклицаний и сумятицы жестов, обрела лаконичность стремительно завершенной картины: Зверолов просто сменил тапочки на туфли и пошел к дверям. Бабушка кинулась за ним, привалилась спиною к двери и крикнула: «Через мой труп!» Он отодвинул ее и молча вышел.
И еще: когда он умер (заморил себя голодом), бабушка всем рассказывала, какая легкая у него была после смерти голова, добавляя: «Это потому, что он сам умереть захотел – и умер, и не страдал».
Илюша боялся этой детали всю свою жизнь.
* * *
Вообще-то звали его Николай Константинович Каблуков, и родился он в 1896 году в Харькове. Бабушкины братья и сестры (человек чуть ли не десять, и Николай был старшим, а она, Зинаида, – младшей, так что разделяли их лет девятнадцать, но душевно и по судьбе он всю жизнь оставался к ней ближайшим) – все родились в разных городах. Трудно понять, а сейчас уже никого и не спросишь, каким ненасытным ветром гнало их папашу по Российской империи? А ведь гнало, и в хвост и в гриву. И если уж мы о хвосте и о гриве: лишь после распада Советской державы бабушка посмела оголить кусочек «страшной» семейной тайны: у прадеда, оказывается, был свой конный завод, и именно что в Харькове. «Как к нему лошади шли! – говорила она. – Просто поднимали головы и шли».
На этих словах она каждый раз поднимала голову и – высокая, статная даже в старости, делала широкий шаг, плавно поводя рукой; в этом ее движении чудилась толика лошадиной грации.
– Теперь понятно, откуда у Зверолова страсть к ипподромам! – однажды воскликнул на это Илья. Но бабушка глянула своим знаменитым «иваногрозным» взглядом, и он заткнулся, дабы старуху не огорчать: вот уж была – хранительница семейной чести.
Вполне возможно, что разгулянная прадедова повозка тряслась по городам и весям вперегонки с неумолимым бегом бродяжьей крови: самым дальним известным его предком был цыган с тройной фамилией Прохоров-Марьин-Серегин – видать, двойной ему казалось мало. А Каблуков… да бог знает, откуда она взялась, немудреная эта фамилия (еще и тем оскандаленная, что одна из двух алма-атинских психушек, та, что на одноименной улице, одарила эту фамилию нарицательным смешком: «Ты что, с Каблукова?»).
Возможно, тот же предок откаблучивал и выкаблучивал под гитару так, что летели набойки от каблуков?
В семье, во всяком случае, бытовали ошметки никому не известных, да и просто малопристойных песенок, и все их мурлыкали, от мала до стара, с характерным надрывом, не слишком вдаваясь в смысл:
Цыган цыганке говорит:
«У меня давно стоит…
Эх, ды – на столе бутылочка!
Давай выпьем, милочка!»
Было кое-что поприличнее, хотя и на ту же застольную тему:
Ста-а-кан-чи-ки гра-ане-ны-ия
Упа-а-али со-о стола…
Эту Зверолов и сам любил напевать под нос, когда канареечные клетки чистил:
Упа-али и раз-би-ли-ся —
Разби-илась жизнь моя…
Канарейки были его страстью.
По четырем углам столовой от пола до потолка громоздились клетки.
Приятель у него в зоопарке работал, мастер изумительный. Каждая клетка – маленький ажурный дом, и каждая – наособицу: одна – как резная шкатулка, другая – точь-в-точь китайская пагода, третья – собор с витыми башенками. А внутри вся обстановочка, заботливое кропотливое хозяйство для певчих жильцов: «купалка» – воротца, наподобие футбольных, с дном из оргстекла, и поилка – сложно устроенная штука, куда вода поступала из резервуара; менять ее надо было каждое утро.
Но главное – кормушка: деревянный ящичек, куда засыпали пшено с просом. Хранился корм в ситцевом мешочке, перетянутом на горловине серебряной тесьмой от новогоднего подарка из раннего Илюшиного детства. Мешочек зеленый, с оранжевыми цветами, и совок к нему привязан, тоже – младенческий лепет… …бред, почему это помнится?
И ясно, очень ясно помнится бровастое носатое лицо Зверолова, заштрихованное тонкими прутьями птичьей клетки. Глубоко посаженные черные глаза с выражением требовательного любования и в каждом – по желтому огоньку скачущей канарейки.
И тюбетейка! Он всю жизнь их носил: четырехгранные чустские «дуппи» – твердые коробочки, с про стеганными белой ниткой перцами-калампир, самаркандские «пилтадузи», бухарские золотошвейные… Самые разные тюбетейки, любовно вышитые женской рукой. Вокруг него всегда вилось множество женщин.
Он бегло говорил по-узбекски и по-казахски; если брался готовить плов, от чада нечем было дышать, и морковка прилипала к потолку, но получалось вкусно.
Чай пил только из самовара и не меньше семи эмалированных кружек за вечер – чашек не признавал. Если бывал в хорошем настроении, много шутил, смеялся громоподобно и заливисто, со смешными всхлипами и канареечной фистулой на высоких нотах; вечно сыпал какими-то никому не известными прибаутками: «Деревня Юшта! Вот глушь-то!» – и при каждом удобном случае, будто фокусник, извлекал из памяти подходящий огрызок стихотворения, изобретательно меняя по ходу рифму, если вдруг слово забудется или по смыслу не личит.
Илюша лазал по Зверолову, как по дереву.
Гораздо позже, узнав о нем кое-что еще, Илья припоминал отдельные жесты, взгляды и слова, запоздало наделяя его личность не затоптанными, тлеющими и в поздние годы страстями.
Вообще, было время, когда он много думал о Зверолове, раскапывая какие-то замороченные простодушной детской памятью воспоминания. Например, как из шашлычных палочек тот плел корзинки для канареечных гнезд.
Палочки они вместе собирали в траве у соседней шашлычной, потом долго мыли их под колонкой во дворе, соскабливая затверделый воск давнего жира. После чего великанские пальцы Зверолова пускались в замысловатый танец, выплетая глубокие корзинки.
– Разве гнезда такие – как короб? – спрашивал Илюша, внимательно следя за ловким большим пальцем, что без усилия сгибал алюминиевое копье и легко продевал его под уже сплетенный каркас.
– Иначе яички выпадут, – серьезно пояснял Зверолов; всегда подробно растолковывал – что, как и зачем делает.
На готовый каркас накручивались кусочки верблюжьей шерсти («чтоб мальцы не замерзли») – а если шерсти не было, выковыривался из старого, еще военных лет ватника желтый комковатый ватин. Ну, а поверх всего вязались полоски цветной материи – тут уже бабушка доставала щедрой рукой лоскуты из своего заветного портновского тючка. И гнезда выходили праздничные – ситцевые, сатиновые, шелковые, – очень цветные. А дальше, говорил Зверолов, птичья забота. И птицы «наводили уют»: устилали гнезда перышками, кусочками бумаги, выискивали клубки бабушкиных «цыганских» волос, вычесанных поутру и случайно закатившихся под стул…
– Поэзия семейной жизни… – умиленно вздыхал Зверолов.
Яички получались очень милые, голубовато-рябенькие; их можно было рассматривать, только если самка выбиралась из гнезда, но трогать запрещалось. А вот птенцы выклевывались страшенные, похожие на Кащея Бессмертного: синеватые, лысые, с огромными клювами и водянистыми выпуклыми глазами. Скоро они покрывались пухом, но страшными оставались еще долго: новорожденные драконы. Иногда выпадали из гнезд: «Эта самочка неопытная, вишь, сама их роняет», – а бывало, какой-нибудь помирал, и Илюша, заметив окоченевший трупик на полу клетки, отворачивался и зажмуривался, чтобы не видеть белесой пленки на закатившихся глазах.
Зато подросших птенцов ему разрешалось кормить. Зверолов разминал яичный желток, смешивал с каплей воды, поддевал кашицу спичкой и точным движением вдвигал ее птенцу прямо в разинутый клюв. Все птенцы почему-то норовили купаться в поилках, и Зверолов объяснял Илюше, как их надо учить, откуда пить, а где купаться. Любил качать в ладонях; показывал – как брать, чтоб, не дай бог, не причинить птахе боли.
Но все эти ясельные заботы меркли перед волшебным утренним мигом, когда Зверолов – уже проснувшийся, бодрый, ранне-трубный (он сморкался в большой клетчатый платок так, что бабушка затыкала уши и восклицала всегда одно и то же: «Труба иерихонская!» – за что немедленно получала в ответ: «Ослица Валаамова!») – выпускал всех канареек из клеток полетать. И воздух становился джунглевым: плотным, переливчатым, желто-зеленым, веерным… и немного опасным; а Зверолов стоял посреди комнаты – высоченный, прямо Колосс Родосский (это опять бабушка) – и нежным воркотливым басом с внезапным фистульным писком вел с птицами беседы: щелкал языком, цокал, губами вытворял такое, что Илюша хохотал, как безумный.
И еще утренний номер был: Зверолов смешно поил птиц изо рта: набирал в рот воды, принимался «гулить и горлить», чтоб их привлечь. И они слетались к его губам и пили, младенчески закидывая голову. Так весной птицы слетаются к могучему дереву с высоко прибитым скворечником. Да и сам он, с закинутой головой, становился похож на гигантского птенца какого-нибудь птеродактиля.
Бабушке это не нравилось, она сердилась и повторяла, что птицы – переносчики опасных заболеваний. А он лишь смеялся.
Все птицы пели.
Илюша различал их по голосам, любил смотреть, как дрожит у канарейки горлышко на особо громких трелях. Иногда Зверолов разрешал положить палец на поющее горло – пальцем слушать пульсирующую россыпь. А петь учил их сам. Было у него два способа: собственное громкое пение русских романсов (птицы подхватывали мелодию и подпевали) – и пластинки с голосами птиц. Пластинок было четыре: аспидно-черные, с бегущим по кругу кинжальным просверком, с розовыми и желтыми сердцевинами, где мелкими буквами указывалось, какие птицы поют: синицы, славки, дрозды.
– Из чего состоит ценная песня благородного певца? – вопрошал Зверолов. Мгновение держал паузу, после чего бережно ставил пластинку на проигрыватель и осторожно пускал иглу в ее зачарованное кружение. Из далекой тишины голубых холмов рождались и звонкими ручьями приплывали, потренькивая по камушкам, вычиркивая-вызванивая и дробно-серебристо роясь в воздухе, птичьи голоса.
Илюша наперечет знал колена песни русской канарейки; умел уже отличить «светлую овсянку» от «горной», «подъемной» – когда, начиная петь в низком регистре, постепенно, будто в гору поднимаясь, певец вытягивает песню наверх, на запредельные трели с замирающей сладостью звука (а ты боишься, не оборвет ли) и долго держит трепетное «и-и-и-и», переводя его то на «ю-ю-ю-ю», то на «у-у-у-у», а после короткого вздоха выдыхает полный и круглый звук («Кнорру пустил!» – шепотом замечал Зверолов) – и заканчивает низкими, нежно-вопросительными свистками.
На ночь клетки покрывали платками и шалями, и сразу в комнате становилось очень-очень тихо. Последней жизнь шорохов замирала не в клетках, а в огромном шкафу, где обитал…
Вот… теперь, хочешь не хочешь, придется вспомнить о Желтухине Втором и, главное, о дубовой резной исповедальне, что служила ему домом.
* * *
В столовой, помимо клеток по углам, стояли тахта и круглый обеденный стол со стульями, а также большая зеленая кадка, где росла финиковая пальма, выращенная бабушкой из косточки. В сущности, эта светлая комната выглядела бы вполне просторно (бабушка не любила «громоздить барахло»), если б не странное монументальное сооружение у «слепой» стены, похожее на орган без труб или надгробие епископа.
Это была исповедальня, выброшенная из ташкентского костела за ненадобностью, когда тот перестраивали – то ли в овощехранилище, то ли еще в какой-то склад. Бабушка утверждала, что Зверолов (он и жил тогда в Ташкенте) притащил к себе исповедальню на закорках. Это, положим, выглядело подвигом Геракла – без грузовика и пары грузчиков там вряд ли обошлось, – но уж как-то доставил, ибо сразу решил, что сей таинственный грот, хранящий отзвуки грехов и страстей человеческих, должен стать обителью Желтухина Второго, его любимого кенаря.
– Почему Второй? – спросил однажды Илюша. – И где же Первый?
– Первый в бозе почил, – вздохнул Зверолов, и мальчик представил эту самую «бозю» в виде той же исповедальни, только лежащей на боку и похожей на деревянный лакированный саркофаг, где лакированным клювом вверх, пугающе неподвижный, как мумия фараона, почилЖелтухин Первый.
Все дело в том, что Желтухин Второй был – в отличие от остальных зеленых канареек овсянистого напева – желтым и ослепительно гениальным. Свою песню инкрустировал каскадом вставных колен. Пел с открытым клювом, в манере сдержанной страсти, виртуозно меняя тональность и силу звука, «балуясь»: то проходя низами, то поднимая тон, то сводя звук к обморочному зуммеру, трепещущим горлом припадая к тончайшей тишине. Не было случая, чтоб оскорбил он свое искусство акустической грубостью или вдруг громче крикнул, чем это было уместно. Зверолов уверял, что на любом мировом конкурсе, ежели бы на та кой попасть, Желтухин Второй обязательно отхватил бы первый приз.
Как сладко было просыпаться утром под его песню…
Начинал он синичкой-московкой: «Стыдись-стыдись-ты! Стыдись-стыдись-ты!»– словно укорял Илюшу-засоню. И, как бы не веря в то, что мальчик сейчас же вскочит, на ироническом выдохе проборматывал: «Скептически-скептически… скептически-скептически…»
О, Илюша мог часами толмачить разговоры-канарыптичьего народца. Желтухин, когда еще к песне не приступал, выщелкивал такие речи! «Нетеберассказывать!» «Незадавайвопросов!»И после секундного размышления, решительно и четко: «Предпринял, предпринял!..»– затем следовала попискивающая нить многоточия и:
«Воттеперьуходи… воттеперьуходи-и-и…»
А дальше гневным стрижом: « Щщассввыстрелю!!!
Щщассввыстрелю!!!»
И наконец плавно переходил на россыпи…
Из мечтательного далека, из звукового небытия вытягивал и вил нежную, еле уловимую «червячную» россыпь: стрекот кузнечика в летний зной. Хотя коронной его была редкая в пении канарейки россыпь серебристая: витая блескучая нить, на слух – разноцветная, желто-зеленая… А там уже катились «смеющиеся овсянки», с их потешными «хи-хи-хи-хи» да «ха-ха-ха-ха», подстегнутыми увертливой скороговоркой флейты. И вдруг выворачивал он на звонкие открытые бубенцы, и те удалялись и приближались опять, будто старинная почтовая тройка кружила в поисках тракта… А заканчивал «отбоями»: «Дон-дон! Цон-цон!.. Дин-динь!» – колокольцы в морозном воздухе зимнего утра.
Вообще, изобретательность его композиторского дара не знала границ. Одну и ту же тему он варьировал, перерабатывая ее по ходу исполнения, с филигранной точностью и грациозным изяществом вплетая в нужное колено.
Но бывало, в конце длинной и пылкой арии брал крошечную паузу и вдруг на одном дыхании выдавал «Стаканчики граненыя», хитро кося на хозяина черным своим глазком-бусиной, отчего Зверолов хохотал и плакал одновременно, сморкаясь в платок, качая головой и повторяя:
– Ах ты ж, боже мой, какой артист! Сколько иронии, блеска, страсти!
И утверждал, что это – самый безгрешный голос, когда-либо звучавший в исповедальне, «сей обители грехов и печалей».
2
Дом стоял на окраине Алма-Аты, у самых гор, в апортовых садах Института плодоводства и виноградарства, где когда-то работала бабушка Зинаида Константиновна. Чуть ли не за калиткой начинался виноградник – бетонные столбики с натянутой между ними проволокой, увитой мозолистой шершавой лозой.
Справа тянулся бетонный забор за шеренгой серебристых тополей, раскидистых и светлых, с большими, в две женские ладони, плескучими листьями; за ним – дощатая беленая помойка, над которой в летние дни бушевала беспощадная хлорная вонь. А дальше слева, и справа, и вокруг простирались сады, и уж они были безбрежны и благоуханны.
Путь до нижнего края занимал целый час, а если пойти направо, вдоль гор, – еще часа полтора. Они просто назывались так: апортовые сады, но, помимо яблонь, в огромных этих угодьях были малиновые, смородиновые и клубничные поля, несметное количество дикой ежевики, терна и барбариса, карагачевые и тополиные аллеи, когда-то высаженные как снегозащитные полосы, и богатейшие россыпи грибов – шампиньонов, дождевиков, синих степных, а под карагачами – голубоватых вешенок.
Еще была поляна, обсаженная пирамидальными, с недовольным вороньем в кронах, прямыми и темными тополями, где Илюша играл с одноклассниками в футбол, а после – вспотевший, возбужденный, ошпаренный солнцем – бежал купаться «в поливные краны»: вокруг них всегда собиралось небольшое озерцо ледяной даже летом воды.
Вечером, часам к девяти, налетал ветер с гор, властно вплетая сильные плодотворящие струи в любовные испарения садов, будоражил и нежил листву.
И всегда висел над садами, то потрескивая и вибрируя от зноя, то разбухая – особенно весной после дождя, – терпкий слоистый запах, вернее, пестрый ковер из неописуемых горных запахов: шалфея, душицы, лаванды, сладковатого красного клевера и лесных фиалок, что росли в укромных уголках сада.
К травным и древесным примешивались острые запахи животных – лисы, ежа, каких-то полевых грызунов; понизу стлались вязкий холодный запах тины и сырой дух грибницы и влажной земли.
И запах полыни… Ее много вокруг было, и в садах, и возле дома: красной, белой, серебристой… Бабушка ее любила, и каждую весну полынные веники развешивались на стенах кухни и веранды.
Но главное, по всей округе воздух закипал всепобеждающим ароматом яблок сорта апорт.
Апорт называли символом Алма-Аты: яблоко весило чуть не килограмм. Гигантские, круглые пахучие плоды, красно-полосатые от малинового до бордового, с зеленоватой кисло-сладкой сердцевиной – они до февраля могли храниться просто в серванте. Бабушка рассказывала, что раньше их продавали с телег, выстланных сеном, – горы пунцовых яблок, покрытых тонким слоем воска.
На вокзалах апорт ведрами выносили к поездам, ведрами продавали на подходе к базару; золотисто-малиновыми курганами пузатились прилавки фруктовых рядов на Зеленом базаре.
На улице Абая, где яблони росли вдоль арыка, роняя в воду плоды, а те плыли, плыли, стремительно кружась, как поплавки, и скапливались у коллектора, можно было просто опустить руку в холодную воду и выудить самое красное, самое пахучее и уже мытое яблоко: бери и надкусывай, успевай лишь отирать ладонью сладкий сок с подбородка.
А на складе Института плодоводства (был это просто гигантский земляной ангар, одна лишь крыша над поверхностью земли) работала тетя Тамара, которой, по тайному мнению Илюши, очень эта работа подходила. Мужеподобная, почти лысая – так что в полутьме подвала ее череп, склоненный над горой яблок, и сам напоминал розоватый, особо уродившийся апорт, – она выуживала плоды из круглобоких курганов, сортировала и укладывала в опилки, в ящики, а некоторых красавцев – в вощеную бумагу и в отдельные коробки. Затем рабочие вытаскивали их наверх, и полные алого золота, пурпура и янтаря коробки стояли во дворе на снегу в ожидании грузовиков. Куда и к кому они в конце концов приплывали, райские эти плоды?
Бабушка – она занималась и апортом тоже – однажды объяснила, что сорт этот – воронежский; просто в тамошнем климате яблоки не разрастались столь чудесным образом, как здесь, в предгорьях Алма-Аты. И добавила, что срок жизни любого сорта яблок – лет сорок, после чего им снова нужно заниматься: се-лекци-они-ро-вать. А зачем, думал Илюша: сорок лет – это ж какая даль незаглядная! Это ж коммунизм давно будет, не то что – яблоки.








