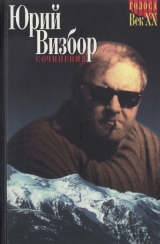
Текст книги "т.2. Проза и драматургия"
Автор книги: Юрий Визбор
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Почерк был бегущий, захлебывающийся, с неожиданным выхлестом высоких петель, хвостов и спинок у некоторых букв.
Илья стал читать, продираясь через все эти петли и отчаянный захлеб, холодея, веря, не веря, постепенно понимая, что держит в руках чудом уцелевший листок явно уничтоженного письма своей матери к бабушке. Письмо было написано, конечно же, безумным, слабым, но восставшим человеком, и яркая хлещущая боль стегала бы наотмашь любого, кто читал его, не только сына:
«…живу только верой, что тебе воздастся за все твое зло, за то, что с детства топтала меня, искалечила душу, отняла ребенка, за мою тоску и горе, за всю твою великую подлость, жестокость и ханжество! А та моя последняя встреча с послушным тебе негодя…» – на этом все обрывалось – ужасно, безнадежно. Навеки.
Он сидел на низком табурете возле поверженного шкафчика и, как ему казалось, безучастно смотрел в окно на полыхающее облако скумпии у ступеней крыльца. Желтухин Третий изливался лучшей своей арией, чередуя одну за другой россыпи и смеющиеся овсянки, пересыпая их увертливой скороговоркой флейты, выворачивая на звонкие открытые бубенцы. А после крошечной паузы, хитро скосив на хозяина глазик-бусину, выдал залихватские «Стаканчики граненыя».
Вот и все мое наследство, подумал Илья, сложил листок вчетверо и опустил в нагрудный карман рубашки. Но весь день тот жег его сквозь материю, и трижды Илья перепрятывал этот вопящий огрызок письма, чтобы, не дай бог, не нашла его Айя.
Подумал, усмехнувшись: ну вот… Я уж и сам стал «лакировщиком действительности»…
* * *
Дней через пять позвонила вдова Разумовича Марина Владимировна, попросила прийти, помочь. Она, как выяснилось, занималась ровно тем же, что Илья: разбирала бумаги. Странным и торопливым ему показалось это будничное желание вдовы «немедленно расчистить конюшни», как сама она и выразилась; «выбросить побольше барахла – знаешь, он всю жизнь копил кучу ненужных вещей»…
(В эту минуту Илья вспомнил другую вдову – Клару Григорьевну, которой хотелось оставить все, как было при Фиме, словно тот вернется и станет проявлять вчерашние снимки… Вдо́вы, конечно, тоже разными бывают, подумал он.)
– Научную переписку я уже отобрала, – сказала Марина Владимировна. – Вдруг кому-то из коллег что-то покажется важным. Но там есть письма и открытки от незнакомых мне людей, и нет сил все это прочитывать: у меня, Илюша, что-то зрение совсем поплошало. Вот если б ты взял на себя труд просмотреть… – И торопливо добавила: – Да и не старайся особо: если видишь, что «дела давно минувших дней» и чепуха поздравлений, – в мусор, в мусор! Мы и так за последние годы немыслимо заросли бумагами. Я давно говорю – к черту все эти дурацкие архивы! Некому их оставлять.
Сначала Илья решил выкинуть все, даже не проглядывая; но врожденная порядочность и опрятность в любых делах (бабушкино воспитание) взяли верх, он стал заглядывать в адрес-имя отправителя, пробегать глазами первую строчку…
…потом сокрушался, что многое все же выкинул гуртом, не глядя. Так мог и этот конверт выкинуть – с тонким листком внутри, с обеих сторон исписанным одним-единственным словом, вернее двумя словами, намертво сцепленными, как судорожные руки эпилептика: «Конеццитаты, конеццитаты, конеццитаты…»Мог бы выкинуть, если б глаз не споткнулся о тот же характерный почерк, со странным выхлестом петель и хвостов, – словно буквы этих запертых слов, подобно узникам темницы, стремились набросить петлю веревки на трубу соседней крыши, закрепиться над бездной, найти опору и – бежать!
Все это, вкупе с тем, недельной давности листком, Илью ошеломило; показалось неким давним посланием лично ему, украденным посланием от матери; а теперь ищи-свищи объяснений, продолжения и развязки. «Как в романах Стивенсона», – подумал он, и продолжал сидеть, держа в руках на первый взгляд бессмысленный, но так много говорящий ему листок, в полной невозможности двинуться и даже отозваться на приглашение Марины Владимировны из кухни «сделать кофейный перерыв».
…Бессонная ночь, последовавшая за этими событиями (он даже и не ложился; просидел на кухне до рассвета, до первого сонного попискивания канареек, до возбужденной птичьей перебранки за окном: «Влипли! Влипли!» – и в ответ: «Истриби! Истриби!», а после – размеренное, звонкое, троекратно отбитое отрешенным маятником: «Дней десять, дней десять, дней десять…»), – эта ночь стала бездонной утробой, переваривающей всю его жизнь.
Он размышлял: приходился ли Разумович ему отцом, стоит ли расспрашивать об этом вдову (решил, что не стоит); знала ли что-либо об этом обстоятельстве бабушка, а если знала, то… то как могла не только смириться с этим, но и взять Разумовича в союзники против своей несчастной дочери? Почему, наконец, оба они всю жизнь так упорно, так надежно и заговорщицки скрывали от него это обстоятельство – как двое убийц скрывают место захоронения своей жертвы?
Впервые он осознал, как странно родственно, странно близко всегда находился Разумович к их семье. Впервые припомнил ясно, со многими подробностями, как часто тот являлся в дом, нагруженный сумками «с разной там чепухой» («чепухой» оказывались дефицитные продукты, новый спортивный костюм для мальчика, рулоны туалетной бумаги и все остальное, что в разные годы жизни трудно было доставать, а Разумович это умел – он все умел, кроме как на флейте играть).
Итак, возможно ль, что бабушка сделала выбор в пользу… дефицита?! Нет, нет! Только не это! Тут что-то другое…
Впервые Илья подумал о своем отчестве – Константинович. С самого его детства в семье подразумевалось, что отчество у него – как у бабушки и Зверолова, и это правильно и очень здорово, что все втроем они такие ровные и рослые константиновичи. Когда Зверолов хотел за что-то похвалить мальчика, он говорил: «Наша порода!» А тут впервые Илья вспомнил, внутренне ахнув, что Разумович-то, господи, ведь Разумович у нас – кто? Константин Аркадьевич, вот кто… Отчего же, даже странно – отчего никогда это имя не отзывалось колоколом в твоей груди? Совпадение? Возможно, что и совпадение. Но тебе-то, с этакой-то ничейной судьбой, следовало повнимательней быть, подозрительней быть даже и к совпадениям!..
Искать свою мать он не стал – из-за природной своей нерешительности, медлительности, замкнутости и грусти. Но для себя, глядя на дочь, многое решил раз и навсегда. И спустя неделю после потрясших его находок, когда в очередной раз, черкнув уже привычную писульку: «Па! Не волновайся – найдусь!», она пропала и вернулась через два дня, сильно обгоревшая под ранним горным солнцем, он посадил ее перед собой и, с мучительной любовью глядя на высокие Гулины скулы, на карие, с зеленцой, охотничьи глаза под ласточкиными бровями, на облупленный под солнцем широковатый нос («моя азиатчина!»), тихо и решительно проговорил:
– Я хочу, чтобы ты знала, Айя: ты свободна. Ты навсегда и совершенно свободна. И хотя мне будет горько расставание, я пойму и… и приму твой выбор.
Весь этот вечер она была рядом. Долго толклась с ним в подвале у птиц, смотрела, как монтирует он на компьютере плановую песню для нового кенаря, рассказывала что-то смешное, все время ластилась.
Прощаясь на ночь, крепко его обняла.
А наутро исчезла.
Леон
1
А сейчас хотелось бы в двух словах отделаться от Ируси – белобрысой девочки с разными глазами, тискавшей лет около семидесяти назад свою любимую и тоже разноглазую кошку-альбиноса (ныне давно упокоенную с праотцами, как и некоторые из героев нашего романа).
От Ируси хотелось бы отделаться как можно скорее, беглым очерком обрисовав ее бледную и, в сущности, незначительную жизнь; незначительную, впрочем, только для нашего повествования.
В остальном все обстоит благополучно: Ируся и сейчас живет на пенсии в своем Норильске, или, как сама она пишет дочери и внуку – доживает(«не жизнь, а сплошное мучение, скриплю потихоньку…»). Но уверяем вас, скрипеть она сможет, да еще в таком бодрящем климате, не один десяток лет.
Похоже, что Ируся, во всем столь отличная от Этингеров, унаследовала лишь Дорину страсть к поиску в себе разнообразных немочей.
Она с детства в этом поиске преуспела, вдумчиво исследуя собственное тело, заботливо, как опытная сиделка, приглядывая за каждым захворавшим органом, поощряя его к терпению и придавая бодрости духа.
Спросит ее мать с утра:
– Ирусь, шо эт мордаха у тебя малахольная?
А та ей в ответ умильно:
– Но-ожка плачет!
Немедленно Стеша бросается стянуть чулочек. Да: синяк на щиколке– это со вчера, об дверь ударилась. Другой ребенок и забыл бы давно, и помчался во двор доигрывать в салочки или в классики. Но только не Ируся, нет.
Причем ангины, простуды, ушибы, занозы и воспаления следовали друг за другом таким ровным строем, что возникало подозрение (во всяком случае, у Эськи, которую Ируся вслед за матерью звала Барышней), что девочка сама зорко послеживает, дружно ли строй шагает, не запаздывает ли кто, ровно ли отбивает шаг. Проходил синяк – на другое утро плакалследующий Ирусин подопечный: горлышко, ручка, спинка и даже попка.
Барышня в таких случаях закатывала глаза и восклицала прокуренным голосом: «Герцль! Где моя грудка?» Стеша молча отворачивалась, ничем на это не отзываясь: страстно любила дочь, искала и находила в ней черты обоих Этингеров.
Во всем остальном послушней и скромнее Ируси не было ребенка. И ученицы старательней – тоже не было: грамоты из класса в класс, стенгазета, общественная работа (на классных линейках Ирусе доверяли контроль за чистоту рук и воротничков); и вечно она – ответственная дежурная, староста класса, комсорг, а по окончании школы – серебряная медалистка.
– И шо ж этo ток серебряная по бедности?! отчего не брильянтовая? – ядовито спрашивала соседка Лида. Она подметала Потемкинскую лестницу, подбирая монетки, в том числе иностранные, и потому имела престиж от жильцов за валютную должность. (Заметим вскользь – только не от Этингеров, которые помнили ее «девочкой» из заведения напротив.)
– Я вас умоляю, Лидия Ивановна! – с достоинством отвечала Стеша на этот ничтожный демарш. – Будто секрет какой. А пятый пункт!Где вы у нас видали дать аиду [2]2
Еврей ( идиш).
[Закрыть]золотую медаль!
Ну, пятый пункт или какой там еще, обсуждать не станем, а только музыкальных талантов, присущих этому самому пункту, и в частности, всем Этингерам, за Ирусей не числилось. Да и не то что талантов: элементарного музыкального слуха – и того, как говорила Эська, «у природы для нее не нашлось». А жаль: жаль, когда пустует свято-семейное место.
(К тому времени доцент кафедры вокала Эсфирь Гавриловна Этингер – худенькая, как подросток, с прямой спиной, седым ежиком на голове, в дыму вечно зажженной папиросы – занимала видное положение в жюри городских и республиканских конкурсов. Благодаря острому языку и неподкупно-тяжелому характеру она давно стала легендой консерваторского фольклора.)
Немузыкальная Ируся поступила в политех на химико-технологический и тем же аллюром – комсорг, редактор институтской стенгазеты, ленинская стипендиатка – на пятом курсе вышла замуж – благополучно, благовоспитанно, «с таблеткой анальгина за щекой» (это уже Эськино замечание, и мы не станем его комментировать).
Между прочим, была Ируся очень даже хорошенькой, аккуратнойв чертах лица блондинкой, и самоцветная серо-каряя перекличка ее удлиненных глаз казалась, особенно при электрическом освещении, преддверием некой тайны, обещанием какого-то генетического избытка, неслыханного богатства клеток и молекул старинного рода, жадно выплеснутых в этом своем представителе. Во всяком случае, парней, влюбленных в два этих разных профиля, было немало.
А вышла Ируся за однокурсника – надежного, крепкого в плечах и шее, быковатого и хозяйственного парня из Николаева с фамилией для такой внешности неожиданной, подходящей скорее провинциальному актеру или начинающей поэтессе: Недотрога.
– Владислав Недотрога! – прокаркала Барышня после знакомства. Захохотала, выдохнула дым через ноздри, как дракон, таранными струями и припечатала: – Жуть!
– А шо такое?! – возмутилась Стеша, которой Владик понравился своей основательностью, порядочностью, круглой рыжей головой на массивном туловище. – Человек фамилию не выбирает.
– Еще как выбирает! – возразила та, придавливая и покручивая в пепельнице окурок. – И уж нам с тобой это отлично известно. – Она вздохнула и небрежно закончила: – Поелику у нашей дуры нет никакого вкуса, она наверняка станет Ириной Недотрогой.
Та и стала ею, и, честно говоря, мы бы не осуждали столь категорично это заурядное обстоятельство. Ибо оно известно: муж – иголка, жена – нитка; куда иголка, туда и Ируся Недотрога.
И после скромной свадьбы (у невесты, умудрившейся простудиться в августе, плакало горлышко, но к памятнику Неизвестному матросу на Аллею Славы молодожены, как заведено , съездили и возложили, а свадебный стол – весь двор наскрозь! – зареванная и счастливая Стеша соорудила завидный: соседи обсуждали до ноябрьских) – так вот, после свадьбы молодые уехали по распределению аж в Норильск.
* * *
«Места, – писала Ируся в ежедневных, как утренняя зарядка, цветастых открытках, – романтические: здесь еще стоят пустые лагеря, обнесенные проволокой…» Раз в месяц приходили и подробные письма, которые от начала до конца способна была осилить одна лишь Стеша с ее героической любовью. Это были восторженные передовицы; из них можно было узнать практически все об освоении минерально-сырьевой базы Енисейского Севера, о высоких позициях на мировых рынках нашейметаллопродукции, о богатейшей истории предприятия «Норильский комбинат».
– Красота! – говорила Стеша, целуя письмо после завершения немыслимых усилий по преодолению тундры мелко-кудрявистых, как карликовая береза, дружно-сплошных слов Ирусиных посланий, в производственный смысл которых особо не вникала, прозревая сквозь них все, что было необходимо ее материнскому сердцу: что дочь счастлива, мужем любима, устроена и зарабатывает бешеные деньги с северной надбавкой.
– Ужас, – отзывалась на это Эська. – Не удивлюсь, если образовательный ценз населения в тех страшных местах самый высокий в мире. Можно представить, сколько доживает там бывших зэков – всех этих академиков, профессоров, на худой случай – дирижеров симфонических оркестров…
С наступлением июня молодые, скучая за Одессой, приехали в отпуск домой – прогреться, загореть и, как говорила Ируся, «навитаминиться». Жили у Этингеров, объедались фруктами, попутно поглощая несметное количество Стешиных деликатесов (от которых не поправиться за всю жизнь умудрилась одна лишь Барышня, до сих пор свободно застегивающая на себе кружевную блузку из «венского гардероба»), и купались в горячих волнах Стешиной любви, слегка приперченных шипящим прибоем едких Эськиных замечаний.
На время их гостевания Эська перебралась в Стешину вековечную каморку на антресоли, где они спали валетом на древнем топчане, предоставив «нашим северянам» удобную комнату.
Рыжий Владик, судя по всему, стал ценным специалистом в цехе электролиза никеля, ибо говорить, рассуждать и спорить он мог только об одном – об электролизе никеля, – хотя обеим женщинам нечем было отозваться на эту острую тему.
«Грелись» молодые на всю катушку, загорая до обугленного мяса на плечах и спинах. Ездили в Аркадию, на Ланжерон, на станции Фонтана, где на буро-золотистых «скалках» в воде произрастали целые колонии мидий. Хозяйственный Владик прихватывал из дому кастрюлю и рис и – Геркулес с рыже-курчавыми плечами и грудью, в синих сатиновых плавках, завязанных на боку бязевыми тесемками, – входил в воду и отдирал от «скалок» крупные мидии. Прополоскав их в воде, тут же на пляже и варил вместе с рисом.
Мидии в кипятке раскрывались, краснели, рис булькал и вздыхал, набухая. Это варево, именуемое пловом, Владик с Ирусей обстоятельно съедали до последней рисинки, не обращая внимания на песок, поскрипывающий на зубах.
А уже перед самым отъездом втроем со Стешей дружно отправились на Привоз делать базари до изнеможения («ой, ну мы ухря-а-апались!») ходили по огромным и гулким корпусам – молочным, мясным и рыбным, – по рядам между тачечниками с их рогатыми тачками, торгуясь, ругаясь, отходя и вновь возвращаясь к каким-нибудь помидорам, коим предстоял завораживающий перелет в край вечной мерзлоты и северного сияния.
– Бабуся, а, к примеру, морковочка ваша почем?.. Та ты шо, бабка, а так, шоб взять?
Напоследок закупились «Куяльником».
Так называлась минеральная вода с Куяльницкого лимана, особо ценимая бесплодными женщинами за явления чудес на предмет забеременеть. Но сколько тех бутылок увезешь в Норильск!
Так вот, у входа на Привоз на расстеленной мешковине сидел перед горкой свернутых из газеты фунтиков старый еврей, подслеповатый задохлик с глоткой, трубящей, как иерихонская труба:
– Покупайте порошок – каждый сам себе Куяльник! – ревел он с земли на манер ветхозаветного пророка Илии, воздевая обе руки с фунтиками. В фунтике содержалась жмэньканекоего порошка, из которого, ежели ссыпать его в стакан и размешать хорошэсэнько, получалась та самая живая вода «Куяльник» – живая настолько, что не беременел от нее только последний идиот. Плати, бери-размешивай и хоть бочками пей. – Покупайте порошок – каждый сам себе Куяльник! – выкрикивал продавец. Его «инвалидка» – жестяная коробка на колесах – стояла рядом, как смирная пожилая лошадь. Старик иногда и подвозкой подрабатывал, если у кого хватало храбрости или безумия в его таратайку лезть. – Каждый сам себе Куяльник, каждый сам себе курорт! – самозабвенно выпевал многотрубный пророк. – Покупайте-размножайтесь, вспоминайте дядя Юзя!
…И то ли чудодейственная вода сработала, то ли на время перестали у Ируси плакатьжизненно важные для такого дела органы, а только вскоре она прислала жалобно-восторженное письмо, которое несентиментальная Барышня назвала «песнью торжествующего Куяльника»: Ируся забеременела, и с зачатия у нее уже плакаловсе, из чего состоит женский организм.
Стеша тоже – от радости – проплакала всю ночь, Эська же отреагировала по-своему. Она сказала:
– Как все это некстати!
– Господи! – возмущенно выпалила Стеша. – Да как у вас язык не отвалится, Барышня!
На что та философски отозвалась:
– Пусть отвалится все, только не язык. – Подумала и со вкусом добавила: – Вот увидишь: очень скоро у мадам Недотроги заплачет каждая клеточка, и ребенка пришлют к нам заказной бандеролью навеки – «прогреться» и «навитаминиться».
Стеша в сердцах отмахнулась. Она-то была счастлива заполучить Ирусю вместе с мужем и ребенком и до конца своих дней варить, жарить и печь, и спать валетом с кем угодно на своем топчане, молясь на эту святую троицу. Но понимала, что Барышня смотрит на вещи иначе.
И знаете что? Барышня-то оказалась права. Толь ко в сроках немного ошиблась. Девочку прислали чуть позже, лет в шесть, ибо эта рыжуха…
Но – ша! пусть сперва появится на свет.
Начальство не отпускало Владика с производства, что-то там, как обычно, горело, план, как и положено ему, трещал по швам, а преданная и ответственная Ируся не пожелала оставить мужа в таких сложных обстоятельствах и ехать рожать в свое удовольствие на всесоюзном курорте.
Пришлось беспокойной Стеше впервые в жизни совершить грандиозное путешествие в недра полярной ночи (второе и окончательное путешествие в противоположную сторону – чуть ли не в Африку – она совершит перед смертью, будучи уже глубокой старухой).
С неделю до отъезда она керогазила с утра до вечера, не выходя во двор, – аж синий дым восходил под высокий потолок кухни. Даже Лида сказала:
– Мадам Этингер, вы шо – сказилися? Вы всех белых ведмедей положили там накормить?
Стеша на ответ не потратилась – силы берегла. Путь предстоял страшенный, аж голова кругом: сначала поездом до Москвы (куда ее должен был сопроводить один услужливый и доверенный Барышнин студент), а там самолетом до Норильска.
Шесть часов в небе-то провисеть, а?! шутка?! Не до парка Шевченко прогуляться…
* * *
Это путешествие, вкупе с рождением вожделенной внучки, осталось для Стеши вторым великим воспоминанием жизни. Во всяком случае, и много лет спустя она рассказывала о нем последнему по времени Этингерус неиссякаемой силой свежего впечатления, а тот внимательно слушал, и казалось, этот странный мальчик мысленно вносит ее рассказ в какой-то свой секретный реестр.
– Молодежи та-ам!.. Одна мо́лодежь, – рассказывала Стеша. – За мной там по улице Ленина толпы таскались: гляди, мол, гляди, какое чудо – бабушкаприехала. Да еще в полярную ночь приперлась. Они вообще все шебутные там, молодые, горластые, друг к дружке ходят в гости целой компанией из дома в дом, всю ночь куролесят… Особо, я ка-а-ак вывалила на стол свою провизию – тут полный аншлаг с овациями! Там же у них что? В сентябре Енисей замерзает – значит, навигация накрылась. И хоть вешайся: в магазинах полный ажур – засохшая оленина, как доска в дачном заборе, ну и частик в томате. Но притом в домах столы накрыты вкусно: и компоты варят, и пироги пекут… У меня Ируся на сносях, все тело у ней, у бедной, плачет, тут приходит с работы Владик и говорит: в цех сегодня капусту привезли, сколько брать? «Ну что, – говорю, – килограмма два бери?» – «Какие килограммы, вы шо, мамаша! У нас мешками берут, на всю зиму солят». И притаскивает огро-оо-м ный мешок полумерзлой капусты, да и как встали мы с ним, да как пошла рубка, шо у твоих казаков – только ошметья по кухне летят. Заквасили в двух огромных двухведерных кастрюлях… А погоды там, я те доложу, – ну, жу-у-уткие! Морозище, ветра такие, не ухватишься за фонарь или ограду – запросто в тундру снесет. Меня там чуть под грузовик не затянуло. Чую – тащит меня ветрище, гонит-ворочает, перекидывает со всей моей комплекцией, как оладушку; не справляюсь с течением! Хорошо, шофер тормознул – увидал перекошенное мое лицо…
Там, в Норильске, Стеше повезло даже на легендарное северное сияние. Да не в тундре, куда ее молодежь уговаривала ехать «на пикник», а в самом городе.
Сначала по черному небу пронеслась прозрачная зеленая хламида, упущенная небесной танцовщицей, скакнувшей оленем через весь город… За ней бирюзовым неистовым парусом проплыла вторая. И тут как пошли прокатывать граненые волны, одна за другой, одна за другой: вспухают и опадают, и вновь играют-переливаются гранями, истаивают, опять растягиваются ребристой радужной гармоникой… По всему небу разгулялись нежные всполохи всех оттенков синего, зеленого и желтого, а красный – так от бледно-алого до багрового – ледяное пожарище! Небо дышало, шевелилось, перетекало из одного цвета в другой, и все куда-то неслось и неслось, и не оторвать было глаз…
Стеша обмерла с первой минуты: вмиг накатил большой огоньиз дальней памяти детства – огонь, что спалил половину села и принес ее на порог Дома Этингера, где ждал красавец с рассыпчатым каштановым коком и с высоты своего прекрасного роста улыбался ей серыми глазами.
И она, как и все вокруг, стояла, закинув голову в небо, беззвучно плача и молча благодаря судьбу за то, что довелось такое увидеть.
– Ну и на что это похоже? – спросила Барышня.
Стеша задумалась, пытаясь выбрать слова – самые пронзающие, самые мучительные слова, которые знала, но, к сожалению, не умела связать меж собой.
Замялась, еще раз мысленно проверяя себя. Наконец проговорила:
– Это… все равно как Большой Этингер вдарит на кларнете.
* * *
Итак, в Норильском роддоме – разумеется, в страшных Ирусиных муках и всевозможных осложнениях – родилась крупная девочка темно-рыжей масти, которую мать назвала в честь отца – Владиславой.
(«Слишком много славных недотрог, – недовольно заметила себе Эська, покрутив в руках письмо, где подробно описывались послеродовые затруднения Ируси в важном процессе мочеиспускания. – И совсем не видать вокруг Этингеров».)
И ошиблась. Ибо девчонка, увидев свет вовсе не там, где обычно произрастали горячие темпераменты другихее предков, всем своим крепеньким существом как нельзя роднее и ближе оказалась к пульсации того горючего гейзера, который обычно подразумевала Барышня, произнося словосочетание «Дом Этингера».
2
А пройдемтесь по фасаду…
…Ибо дом, где некогда в бельэтаже, в квартире с каминами, витражами и мраморной острогрудой наядой, в уюте, задиристых перепалках, шумных застольях и музыкальных трудах проживало известное в городе семейство; дом, чей парадный вход обрамляли колонны, прежде белые, а ныне облупленные и испещренные похабными рисунками и словесами; дом с флигелем в глубине мощенного камешками-«дикарями» двора, со старинной цистерной для воды и водяной колонкой – дом этот стал неузнаваем.
Он похож на потрепанный штормами и выброшенный на сушу бриг, давно заросший сорняками и облепленный окаменевшими ракушками.
В своих ободранных стенах он укрывает потерянных и все потерявших, побитых и обугленных войной, ничем, кроме обид и стычек между собой не связанных людей.
В каждой семье было свое горе, свои убитые, расстрелянные, пропавшие без вести, сидевшие по лагерям.
Тут попадались бабки, пережившие оккупацию, семьи, бежавшие из окрестных сел от голода; наконец, вернувшиеся из эвакуации одесситы, ибо толпы эвакуированных стали медленно возвращаться-просачиваться, неделями тарахтя в мучительно неспешных поездах с Урала, из Средней Азии и прочих дальних мест, утрамбованных войной.
Вернувшись, они оседали всюду, куда удавалось поставить ногу, в самых неожиданных и не приспособленных для обитания человека местах. Сарайчики и всевозможные подсобные помещения считались очень приличным жильем. Подвалы шли за полноценную квартиру; за полуподвал могли убить. Зашивались досками подлестничные пространства – там можно было бросить на пол матрац и поставить табуретку с примусом. Отгораживалась часть лестничной клетки – лишь бы поместилась койка и все тот же примус, или чадящий керогаз, или допотопный «грец» – чугунный бочонок со слюдяным окошком, полным огненных вихрей…
Так что пройдемтесь по фасаду, ознакомимся бегло с кое-каким населением…
И начнем, пожалуй, с управдома Якова Батракова, что вселился с дочерью Анфисой в полуподвальную комнату вместо Сергея, еще в войну убитого неизвестными бандюками.
Была это странная до оторопи пара, хотя изумить кого-либо странностью или дикостью в то послевоенное десятилетие было трудно.
Анфиса – несуразная девица гренадерского роста с белым отечным лицом, в клетчатом платке на роскошных вьющихся волосах, в мужских ботинках на огромных ногах, всегда в каких-то ужасных, надетых одна на другую, криво застегнутых кофтах.
Во дворе, а тем паче на улице она появлялась крайне редко; если появлялась, то непременно в сопровождении отца. Вернее, тот являлся в сопровождении дочери: она плелась понурым прицепом вслед за мелким Батраковым, присобаченная к его лапке своей огромной вялой и бестолковой ручищей, безостановочно бормоча: «П’истали, п’оклятые!..» А сидя дома, с утра до вечера стирала и развешивала на штакетнике отцовы рубахи и свои задрипанные сорочки и юбки.
Сам Батраков был еще диковинней: тощий, но с брюшком, большеголовый, но с тонкой кадыкастой шеей, все свободное от пьянства время он либо читал (был записан в пяти районных библиотеках), либо трепетно ухаживал за цветами в игрушечном – метр на полтора – палисаднике, лично им благоустроенном и обнесенном штакетником. Видимо, он чувствовал себя настоящим хозяином дома, двора, одноэтажного флигеля во дворе. Когда бывал трезвым, обходил владения, там и сям поглядывая, подправляя недочеты, наказывая нарушителей порядка – или того, что он порядком считал.
– Стоять, вашу мать! – орал на мальчишек, застигнутых за кропотливым художеством на многострадальных колоннах подъезда, а те, конечно, бросались врассыпную. – Эт что за пыр-на-графия!!! Ух, и дам я вам прост-ра-ции!!!
Налимонившись, становился необычайно отважен и дерзок и тогда непременно выступал, по словам Барышни, с выходной арией «Жиды обсели!».
Евреев во дворе было, конечно, достаточно, но главной мишенью управдома оказался хирург Юлий Михайлович Комиссаров, вселившийся с женой и дочерью в бывшую Яшину комнату, на удивление хорошо сохранившуюся – просторную, с камином, с веселыми купидонами по потолку, с бессмертной Яшиной деревянной лошадкой на колесиках, уже успевшей покатать три поколения коммунальной детворы. Лошадка стояла в углу, как в стойле, была самым старым жильцом квартиры, и ни у кого не поднималась рука ее выбросить – напротив, каждый отмечал: эх, делали же в России вещи! Карево-рыжая, с серыми яблоками на боках, с засаленной гривой из настоящего конского волоса и кожаной, в старых узлах, уздечкой… (Нет-нет, тпррру! – бог с ней, с лошадкой; этак мы никогда не вернемся к Батракову и Комиссарову.)
Так вот, едва грузчики, перетаскавшие мебель Комиссаровых, покинули двор на своем раздолбанном грузовике, Батраков явился к новым жильцам «проверить документики на законность вселения» и был вспыльчивым Юлием Михайловичем спущен с лестницы.
Напившись, управдом выходил в центр двора, под окна Комиссарова, крайне редко бывавшего дома, и дурным дискантом заводил:
– Комиссар, выходи-и! Зухтер [3]3
От «зугт эр» – говорит он ( искаж. идиш).
[Закрыть]нападение на караульное помеще-ение!!! Кай Юлий Циммерман, выходи-и! Я те дам прост-ра-ции!
И за тюлевыми занавесями всплывали и колыхались, как утопленные, бледные лица жены и дочери хирурга. Наконец, однажды, разбуженный после двойного дежурства, вечно недосыпавший Юлий Михайлович – толстый, волосатый, взлохмаченный и больше похожий на забойщика с мясокомбината, чем на овеянного городской славой хирурга, – вылетел к Батракову, в ярости размахивая огромным Стешиным тесаком для рубки мяса (что на кухне подвернулось), и минут десять гонял управдома по двору, рыча:
– Р-р-распорю и не зашью!..
После чего Анфиса вывесила на штакетнике плохо простиранные отцовы кальсоны, и целую неделю трезвый Батраков мирно окапывал ноготки-маргаритки в своем палисаднике и в сетчатой авоське таскал из библиотеки тома Сухово-Кобылина и Мамина-Сибиряка.
Впрочем, уже через неделю жильцы не без удовольствия прислушивались к очередной арии управдома, одобрительно отмечая в ней новые фиоритуры:
– Кай Юлий Циммерман! Эт что за пыр-на-графия!!! Зухтерштык наперевес, я дам те прострации!!!
И стоявшая у окна Барышня с чашкой коричного чая в руке (она давно к нему пристрастилась, убедив себя, что корица прочищает мозги) задумчиво говорила:
– Мельчают солисты в этом дворе…
Кто там стоял за спиной Батракова, покровительствуя нелепому холую, неизвестно. Жильцы поговаривали, что есть где-то «рука» у этого хабла и фармазона. Возможно, то был миф, из тех, что возникают сами собой, как вообще в подходящей питательной среде зарождается жизнь; но кто-то же назначил его управдомом, со всеми его ноготками и маргаритками, пятью библиотеками и волоокой прачкой Анфисой.








