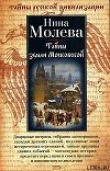Текст книги "Государева крестница"
Автор книги: Юрий Слепухин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
14
К Москве подбежали, когда уже смеркалось. Заставу проскочить, может, и успели бы, а что толку – улицы позамыкают, поди потом лайся с каждым решёточным! Да и кони притомились. Андрей решил ночевать здесь, не доезжая Серпуховской заставы, благо ночь была тёплая и дождём не пахло. Велел рассёдлывать, варить кашу.
Наспех поужинав, отряд захрапел. К Андрею же сон не шёл, хотя последний перегон оказался утомительным даже для него. Завернувшись в попону и подложив седло под голову, он лежал, смотрел на неяркие звёзды, слушал, как хрупают и шуршат травой пасущиеся неподалёку кони, и думал, что уже завтра, Бог даст, сможет увидеть Настю. Он сам не ожидал, что недолгая разлука окажется такой томительной; на обратном пути не мог избавиться от чувства беспричинной тревоги, хотя что могло угрожать? Будь он теперь в Ливонии или на севере, в новгородских краях, можно было бы вообразить самое страшное – татарский набег; но они возвращались тем самым путём, каким всегда приходила на Москву орда, и в заокских степях было спокойно, сей год про ордынцев не слыхали даже в Курске. А какая иная беда могла грозить Насте в крепком отцовском доме?
С некоторым ещё недоумением он признавался себе в том, что уже не мыслит себе жизни без Настасьи Фрязиной, о коей ещё месяц назад не знал и не ведал, что вообще есть такая на свете. Гляди, как присушила! Юсупыч перед отъездом всё допытывался, не подносила ли чего пить из своих рук, в особливой чаше? Андрей подумал, пожал плечами, сказал, что из особливой вроде не пил – наливали, как и другим, из общей братины.
– А коли и поднесла бы, то что? – спросил он.
– То, что ты мог погибнуть, о легковерный.
– Опоила бы, что ли? – Андрей засмеялся. – Ну ты, старый, вовсе уж с глузду съехал! Чего ради желать ей моей смерти?
– Разве я произнёс это слово? Смерть не самое плохое, что может случиться с человеком, – загадочно изрёк арап. – Твоему неискушённому уму не постичь всей глубины женского коварства! Прелестница, поставив себе нечестивую цель всецело завладеть своим избранником, способна на поистине чудовищные ухищрения, мне ли того не знать, о Аллах...
Андрей только плюнул с досады, говорить со стариком об оружейниковой дочке было бесцельно – в его глазах она была вместилищем всех пороков. И с чего он так её невзлюбил?
Припоминая сейчас этот разговор, он вдруг поймал себя на мысли о том, уживётся ли Юсупыч с Настей, или придётся после свадьбы куда-то его спровадить. Выходит, о свадьбе уже думается как о чём-то решённом? А ведь и разговору об этом не было с Никитой Михалычем; не было и с Настей, но то так и положено: когда сватаются, с невестой никто не говорит, её дело сторона. Говорят родители с родителями, а коли у жениха родителей в живых нету, то он сам ведёт сговор с её отцом. Настя что – Настя-то за него пойдёт, а вот как отец... Может, уже есть у Фрязина кто на примете, хотя не похоже! Видит же, что неспроста повадился он к ним на подворье, так уж, верно, сказал бы, сватайся кто к Насте...
При мысли о том, что кто-то может и впрямь к ней посвататься, Андрея окатило жаром. Он отшвырнул попону, вскочил на ноги и пошёл к лошадям, путаясь сапогами в высокой граве.
– Ты что, заснул, что ли! – крикнул он караульному.
– Паси Бог, не сплю, нет, – отозвался тот бодрым голосом.
– Гляди мне...
Он сорвал шапку, подставляя лоб ночной прохладе. Ветер дул с полуночи от Серпуховской заставы, нёс с собой запахи недалёкого уже жилья – дыма, скотных дворов, конюшен. Где-то там – за слободами и посадами Заречья, за Москвой-рекой, за стенами Китай-города – двор Фрязиных. Увидеть бы, что она сейчас делает... спит уж, поди? А может, и не спит, время-то вроде не позднее. Неужто читает при свечке? Она как-то призналась ему, что любит читать Четьи-Минеи; это поразило его, он никогда не думал, что девица может приохотиться к такому занятию. Но и то сказать – многих ли девиц он знает? Да и чем Настя походит на других? Таких, как она, не было и нет и не будет.
...Однако, ежели к ней никто не сватался, а к нему отец вроде бы расположен, раз со двора не гонит, так пошто сам о деле не заговаривает? Известно ведь – первое слово за отцом невесты, а уж после жених сватов засылает. Хотя это, по правде сказать, обычай старый, теперь, может, и по-иному ладят... а Фрязин за старые-то обычаи не больно и держится, иначе не позволял бы Насте с гостями за столом сиживать...
Можно, конечно, самому прийти и так прямо и объявить: бью, дескать, челом, Никита Михайлович, не обессудь на дерзости – хочу взять в жёны твою дочку, Настасью Никитишну. Чего, в самом-то деле, ходить вокруг да около? Ну не отдаст, значит, не судьба. Да нет, как может не отдать, с чего бы это... Может, конечно, староват он Никите кажется: двадцать восемь лет, не юноша. Спросит, а чего, мол, раньше-то не женился, где такое видано, жениться положено во младых годах...
А и впрямь, что помешало? Государева служба, что ж ещё! Вспомнить лишь: семь тыщ шестидесятый год, Казань; шестьдесят четвёртый – Астрахань; с шестьдесят шестого по шестьдесят восьмой не один раз ходили в Ливонию; ныне вот Литву воевали – Полоцк, Вильна; так это только большие походы, а меж ними сколько было всякого? Конечно, другим служба не в помеху, и жениться успевали, и детишек нарожать – долго ли... А вот ему и в мысли не приходило!
Значит, не судьба была, решил Андрей. Он снова прилёг, натянул на плечи попону. Значит, на роду ему было написано дождаться Насти; а то ведь страшно и помыслить: встретил бы её вот так, ан дома жена сидит дожидается, да сварливая, да нелюбимая – упаси Господь...
Тогда, выходит, и Настя дожидалась его, сама о том не ведая? Уж год как могли просватать, ан нет – не просватали! У Юсупыча словцо такое есть, ихнее, арапское: кысмет. Судьба, значит. И по его арапскому рассуждению выходит, что от судьбы этой никуда не уйдёшь – ни семо, ни овамо. Что тебе на роду написано, так тому и быть. Но точно ли так? Оно конечно, и у нас попы учат, что, мол, без воли Господней ни один волос не упадёт; однако справедливо говорится: на Бога надейся, а сам не плошай. Кысмет кысметом, а сидеть опустив руки да дожидаться, что там тебе по воле Господней свалится на голову, тож не дело. Иначе ни воевать не надо было б, ни дома строить...
А ведь коли жениться, то и строиться надо будет – вот и ещё забота, подумал он. Двор на Москве у Лобановых был, и в месте хорошем, у Пречистенских ворот, но жильё сгорело в одном из давних пожаров; случилось это уже после смерти родителей, так что отстраиваться Андрей покамест не стал – не для кого было, да и недосуг; в уцелевшей избе поселил бобыля, тот сидел за сторожа, огородничал и выращенное частью продавал, а частью привозил хозяину на ховринское подворье (принимая капусту, лук и огурцы, Юсупыч каждый раз лаялся с бобылём нещадно, укоряя его за утаивание половины оброка). Это хорошо, что есть там огород: Настя говорила, что любит сама возиться на грядках. А как строиться – о том надо будет с тестем говорить, тот посоветует, что лучше.
Утром в путь тронулись неспешно, спешить было некуда. Когда проехали заставу, в церквах уже звонили к заутрене, на Ордынке становилось людно, Кадашевские купцы – ранние пташки – гремели запорами, открывая лавки. Наконец впереди, за Болотом, открылся обнесённый по низу стеною со стрельницами кремлёвский холм, блеснул золочёный гребень на кровле Большой дворцовой палаты, серебром в первых лучах солнца засветились соборные купола. Андрей остановил коня, стащил шапку и широко перекрестился.
– Ну, вот Бог и привёл вернуться, – сказал он. – Валяйте по домам, ребята, всем неделя на отдых. Я в приказ еду, и ты со мной, – кликнул он пятидесятника. – А ты, Вань, слетай ко мне на Яузу, скажешь там Юсупычу, что скоро буду, пусть велит мыльню истопить...
В тот же день ближе к вечеру, отдохнувший и принарядившийся, в новой, опушённой бобром шапке с пришитым на тулье золотым цехином – наградой за лаисское сидение, – он спешился у фрязинского двора, стукнул в калитку. Знакомый воротник приотворил щель, высунул бороду с опаской.
– Здорово, Онисим! Хозяин дома ли?
– Не-е, хозяин ушедчи, а когда будет – не сказывал...
– Ну, то Онуфревну покличь, – сказал Андрей, заходя во двор.
Онисим притворил калитку на засов, ушёл в дом и скоро вернулся с мамкой. Та, увидев Андрея, заулыбалась.
– Верну-у-улся, ясный наш сокол, а тут уж ой заждали-и-ися, – запричитала она нараспев.
– Да и я заждался, Онуфревна. Настасья Никитишна здорова ли?
– Здорова, слава Те Господи, здорова!
– Так чего ж не выходит? Иль меня в горницу проведёшь?
– Это как же – в горницу! Михалыча-то дома нет, сказано тебе.
– Ну то что? Пожду, пока вернётся, а тем временем с Настасьей Никитишной побеседуем...
– Да ты, батюшка, ополоумел, што ль! Как это я тебя с девкой оставлю? Ишь навострился!
– Да я что, не обедал у вас? Вместе за столом сиживали, забыла?..
– То при Михалыче было, – заявила Онуфревна непреклонно. – Любо ему жить басурманским обычаем – его хозяйское дело, не мне перечить. А когда он Настёну на моё попечение оставляет, то тут уж не взыщи – как сказала, так и будет!
Андрей в сердцах сбил шапку на затылок, едва удержал готовое сорваться ругательство.
– Что ж ты зверствуешь, бессердечная ты старуха, – только и сказал он с досадой. – Вот завтра ушлют меня снова – увидишь тогда, что Настя с тобой сделает!
– Ступай, ступай! Ишь ты, грозиться ещё вздумал, лешак эдакой!
Тут он поверх её кики увидел, что выбежавшая на крыльцо работница делает ему знаки, и сразу повеселел.
– Ладно, Онуфревна, твоя взяла! Вернусь попозже, может, Михалыч будет дома. Кланяйся ему, скажи – приезжал проведать...
– Скажу, а ты ступай, неча глаза-то по окошкам пялить!
Мамка заковыляла к дому. Выждав, пока она скрылась в двери подклета, девка сбежала по лестнице и, опасливо оглядываясь, поманила Андрея.
– Велела сказать, – шепнула она, когда тот подошёл, – чтобы туда подъехал, с тылу, ну где качели, знаешь? Мало погодя придёт, жди там...
– Спаси Бог, красавица, на вот за добрую весточку. – Андрей выгреб несколько монеток, сунул ей в руку. – Скажи, ждать буду хоть до ночи, вы только старую отвлеките там чем придётся, чтоб не выслеживала...
– Матрёна! – крикнула Онуфревна, снова (легка на помине!) выглянув из подклета. – Ты чего это затеваешь, непутёвая! Давно не учена?
– Да што затеваю, што затеваю-то! – дерзко откликнулась непутёвая Матрёна. – Стрелец испить просит, так я ещё и виноватая?
– Ну то вынеси ему квасу, и пущай едет с Богом, пока чего иного не попросил...
Отпив для виду, он вернул девке ковшик и, подмигнув, пошёл к воротам. Теперь только Фрязина бы не встретить! Вскочив в седло, огляделся – нет, вроде не видно – и, миновав несколько дворов, свернул в узкий, заросший лопухами переулок. Дворы задами выходили к ручью, притоку Неглинной, из него обычно брали воду для мылен, и того ради в заборах были проделаны малые дверцы. Такой же лаз был врезан тут и в бревенчатый тын, окружавший оружейникову усадьбу. Подъехав, Андрей поверх тына оглядел сад – у качелей никого не было, – спешился и привязал коня к разросшейся над ручьём раките. Стоя у лаза, прислушался, но по ту сторону было тихо. Ставень из прочных дубовых досок, прошитых коваными гвоздями, не поддался нажиму. А ну как зловредная мамка и впрямь выследит...
Едва слышно журчал ручей, обтекая корягу под ракитой, Орлик позвякивал удилами, щипал траву, шумно охлёстывался хвостом, отгоняя мух. Андрей прохаживался вдоль тына, поглядывал на вечереющее уже небо, где высоко – к вёдру – рассекали воздух касатки, а ещё выше медленно плыли редкие, багряно позлащённые облачка. Придёт, не придёт?
Наконец по ту сторону городьбы что-то легко прошумело в кустах, стало слышно, как возятся со ставнем.
– Андрей Романыч! – тихонько позвала Настя. – Ты здесь? Мне засов не отволочь...
Тын здесь и впрямь был невысок – сажень, не боле; взявшись за торцы брёвен, Андрей подтянулся, легко перемахнул на ту сторону и с треском свалился в заросли смородины.
– Ой, да что ж ты как медведь! – ахнула Настя. – Господи, наконец-то, я уж и не чаяла...
– Ну здравствуй, Настасья Никитишна, – тихо сказал Андрей и заробел вдруг, не решаясь подойти ближе.
– Здравствуй и ты, Андрей Романыч... Не обессудь, что так пришлось свидеться... тайно, не по чести. Кабы тятя был дома, а то с мамушкой этой...
– Да Бог с ней, – засмеялся он. – Может, тут и лучше! Расскажи, как жилось-то, покамест меня не было?
– Как жилось... Подсоби-ка ставень отворить, не го снова придётся через тын прыгать.
– А и прыгну, долго ли! Пущай так будет, чтоб после с засовом не возиться. Или боязно, что увидят?
– Не увидят. Сад-то огорожен, и там Матрёша сидит с кобелём: ежели что, за хвост дёрнет, сразу услышим. Он, как осерчает, горазд брехать... да звонко так, прямо аж заходится! А сядем, так и вовсе не видать будет... тут у меня, вишь, колода припасена – от мамушки хоронюсь. Она меня вышивать позовёт, а я того страсть не люблю, так сюда залезу и не откликаюсь... вон, видишь?
Среди высоких кустов смородины и крыжовника белел положенный на две плашки обрубок берёзового ствола длиною с аршин. Настя села, поманила Андрея, тот подошёл и стал рядом, заложив пальцы за кушак.
– Ты б тоже сел, не то и впрямь увидят, – лукаво сказала Настя. – Ишь, на шапке-то у тебя шелег[13]13
Памятная медаль или монета, носимая в качестве воинской награды.
[Закрыть] – огнём горит. Жалованный небось?
– Да, это... в Ливонии, мы там в осаде сидели. Городок один надо было удержать.
– Удержали?
– А куда денешься. – Андрей улыбнулся. – Не удержали б, так и не увидел бы тебя.
– Борони Бог! А ещё один на гайтане носишь, – сказала Настя распевно, высматривая что-то над головой. – Ты од нова мылся возле колодца, я и подглядела... Тот за что пожаловали?
– Да нет, то... От матушки подвеска осталась, так я на память ношу. Ты лучше про себя расскажи.
– Ой, да что про меня... Ну сядь же!
– Боязно как-то...
– Ливонцев небось не боялся!
– А чего их бояться, люди как люди.
– Я, выходит, нелюдь? Садись, а то сама встану – неловко мне так на тебя глядеть, снизу-то.
Он нерешительно присел – на самый конец, подальше от неё.
– Гляди, свалишься, – сказала она, – да и обруб там в занозах. Тебе что, места тут мало?
– Места-то довольно...
– Ну то и сядь ближе! Зябко мне чтой-то, и сама не знаю...
– Зябко? – удивился он. – С чего же зябнуть, вон теплынь какая!
– Это, может, тебе теплынь, – сказала она с упрёком, – а мне зябко.
– Зябко, говоришь, а сама разрумянилась... как маков цвет. Слышь, Настасья Никитишна...
– Да ты меня по батюшке-то не звал бы, чай не старуха!
– Как же мне тебя звать?
– Это уж ты сам и решай как. Пронизь-то матушкину показал бы!
– Да чего её показывать...
– А любопытно мне, я страсть всякие мониста люблю...
Андрей отстегнул застёжку кафтана, выпростал из-под ворота висящую на шнурке золотую бляшку размером с ноготь большого пальца. Настя пригнулась к его груди, разглядывая полустёртое резное изображение:
– Чего этот тут – зверь какой? Вроде ящерки с крыльями... Подобное у тятеньки в одной книжке нарисовано и называется «драк»...
– Драк так драк, – согласился Андрей. – Иноземный какой-то зверь, матушка у меня была из чужих краёв.
– Так ты иноземец!
– Какой я иноземец, природный русак. Придумаешь такое!
– Иноземец, иноземец, кто ж ты ещё, – расшалилась Настя. – Поди, и говорить-то по-нашему не умеешь! Ишь, спрашивает: «Как мне тебя звать?» Не знаешь будто имени...
– Да имя-то знаю, только...
– Ну что «только»? А не хочешь по имени, то иначе можно. – Она сорвала веточку и стала покусывать, не глядя на Андрея.
– Как же ещё иначе?
– А как тебе любо. Ладушкой, к примеру. Аль касатушкой!
– В обиду не возьмёшь?
– Чего обижаться-то? Я вон Зорьку свою касатушкой зову, так вроде не в обиде...
– То кобыла, – рассудительно заметил Андрей.
– Ну и что, что кобыла? А кошка у меня – Лада. Я, што ль, хуже кошки?
– Смеёшься ты надо мной, Настась... Настя.
– Так а чего делать ещё, коли ты такой недогадливый?
– Настя... я с Никитой Михалычем говорить буду. Только прежде тебя спрошу...
Настя продолжала общипывать губами веточку смородины.
– Ну спрашивай, – сказала она притворно безразличным тоном. – Чего молчишь-то?
– Настенька... я... тут такое дело... Ежели отец твой дозволит, пойдёшь за меня замуж?
Не дождавшись ответа, он вдруг схватил её за плечи и рывком повернул к себе:
– Ну не томи ты меня, Настюша! Замуж, спрашиваю, за меня пойдёшь?
– Ой, глу-у-упый, – пропела она шёпотом, обморочно припав к нему и закрывая глаза. – За кого же мне ещё...
15
При всей своей изворотливости и многократно проверенном умении убедить кого угодно и в чём угодно, доктор Бомелиус всё не мог решиться изложить его царскому Величеству свой замысел. Беда в том, что Иоанн отнюдь не «кто угодно»; его царское Величество в своих поступках подчас совершенно непредсказуем – как и следует ожидать от душевнобольного, то и дело переходящего от абсолютной, предельной безнравственности к какому-то изуверскому благочестию. И в этом Иоанн вполне сын своего народа, хотя не устаёт повторять, что презирает русских, с которыми якобы не имеет по крови ничего общего, происходя от некоего мифического брата римского императора Августа по имени Прус.
Поэтому трудно угадать, как отнесётся его Величество к тому, что услышит от своего лекаря. Всё зависит от того, какая сторона натуры окажется в эту минуту преобладающей – благочестивая или одержимая демонами. А этого не угадаешь: Иоанн может посреди самого разгульного пиршества впасть в покаянное настроение, а может и на молитве, по обыкновению до язв расшибая себе лоб в земных поклонах, предаться вдруг похотливым мечтаниям или изобрести новый, неслыханный ещё способ пытки. Уж о последнем Бомелиус осведомлён, как никто, поскольку Иоанн эти свои изобретения обсуждает с ним во всех подробностях, беспокоясь об одном: как бы пытаемый не отдал Богу душу слишком уж скоро (тут без советов лекаря не обойтись); нередко царь признавался, что придумал это не где-нибудь, а именно в храме, размышляя над прискорбной участью грешников, заслуженно ввергнутых в геенну огненную...
Беда в том, что подобная откровенность его величества не распространяется почему-то именно на ту сторону его жизни, узнать которую поближе сейчас особенно важно. Это странно и необъяснимо. Он, доктор Бомелиус, пользуется у царя полным доверием; некоторые на сей счёт сомнения, возникающие у него порой, бывают вызваны не чем-то определённым, а просто естественной в его положении осторожностью, да ещё тем, что коли сам никому не доверяешь, то невольно задаёшься вопросом, а так ли уж доверяют тебе. Нет, царь – доверяет, если откровенность можно понимать как выражение доверия. Разумеется, порочная натура может находить особое удовольствие, рассказывая без стеснения о том, что должен слышать лишь исповедник; и всё же – стал бы Иоанн каяться перед ним в безудержной склонности к содомскому греху, если б не доверял?
Единственное, о чём никогда не говорил со своим лекарем, – это его, Иоанна, супружеские отношения с нынешней царицей. О покойной Анастасии вспоминает нередко, всегда с умилением, которое выглядит слащавым и даже не совсем искренним. А о нынешней, черкешенке Марии, – никогда ни слова. Между тем успех замысла, принявшего в голове Бомелиуса уже почти законченную форму, зависит в немалой мере именно от этого. Доктор догадывался, был почти уверен, что у Иоанна с Марией не всё гладко, но знать бы наверняка...
Промахнуться тут весьма опасно. Может быть, и разумнее было бы вообще оставить всю затею, положившись на благоразумие проклятого оружейника? Не такие уж целомудренные нравы у этих московитов, чтобы простой ремесленник не смог забыть обиду, причинённую его дочке. Сгоряча, сразу, мог бы пожаловаться царю (хотя на что было жаловаться?), а заодно и проговориться насчёт любекского дела; но теперь – коль скоро ничего не сказал – едва ли скажет. Каким бы дураком ни был, а должен же понимать, что выгоднее держать язык за зубами.
Доктор Бомелиус убеждал себя тоже проявить благоразумие и оставить в покое сатанинское отродье – механикуса с его недотрогой. Но сам он был по натуре слишком злопамятен и до сих пор не мог забыть, каким презрительным тоном говорил с ним этот холоп, какие угрозы в его адрес позволил себе высказать. Проявить благоразумие значило бы простить, а вот этого-то доктор Бомелиус никогда не умел. Не обладал этим искусством в юности и не собирался учиться на склоне лет.
Покамест же он не торопился. В основном замысел был обдуман, следовало дать ему окончательно дозреть, а тем временем собрать ещё некоторые сведения, которых пока недоставало. Если же вдруг возникнет какое-то препятствие, всегда можно отступить, вообще отказаться от всей затеи. Будучи однажды спрошен, успешно ли идут поиски «благорасположенной персоны», которую он намерен вычислить с помощью армиллярной сферы, Бомелиус ответил царю, что вычисления пришлось прервать из-за нового расположения планет, надо выждать, пока планеты расположатся должным образом.
Благорасположенной персоной должна стать Настя Фрязина, но Бомелиус ещё не совсем ясно представлял себе, каким образом это обстоятельство сможет обезопасить его от возможного разоблачения её отцом. Могло получиться и наоборот; пожалуй, в любой европейской державе так бы и вышло – там отец очередной фаворитки сразу приобретает вес и влияние. Здесь же всё по-другому, у Иоанна – при всём его распутстве – вообще никогда не было «фавориток» в европейском понимании; чуть ли не бахвалясь противоестественной привязанностью к растленному Федьке Басманову, он в то же время держал в строжайшей тайне свои (немногочисленные, надо сказать) внебрачные связи с женщинами. О том, чтобы открыто приблизить к себе одну из них, как это в обычае на Западе, здесь не может быть и речи. Следовательно, маловероятна и опасность того, что подлый механикус возвысится с помощью дочери и ещё больше утвердится в доверии царя...
Так что, рассуждая здраво, на сей счёт можно было не тревожиться, оставалось лишь угадать главное: не опасно ли предложить его царскому величеству нарушить седьмую заповедь и стать прелюбодеем. Может оказаться и опасно – если в этот момент на Иоанна снизойдёт блажь благочестия, или, что ещё хуже, если чёртова дикарка по-прежнему вызывает у него такую страсть, что ему и в голову не придёт ей изменить.
Этот вопрос, казалось бы, проще всего было выяснить напрямую ему самому, под предлогом заботы о царском здравии осторожно расспросив Иоанна; но доктор Бомелиус предпочитал окольные пути. То, что ему хотелось узнать, можно было выведать у кого-нибудь из «ближних» наверху. Мысленно перебрав несколько имён, Бомелиус остановился на Годунове – человеке простодушном и при дворе сравнительно новом, не принадлежащем к заматерелому в дворцовых интригах старому боярскому кругу. Он тут же отправил к постельничему слугу с приглашением отужинать в любой день, когда то боярину будет угодно.
Приглашение немало озадачило Димитрия Ивановича. Род Годуновых, хотя и не из самых знатных, был всё же почтенным и достаточно старым, к тому же сам он успел уже занять при государе определённое положение; так не было ли со стороны иноземного лекаря изрядной дерзостью так вот, запросто, звать его в гости – будто они ровня? А впрочем, что значит – ровня... Происхождения Бомелий самого неведомого, любит называть себя имперским шляхтичем – поди дознайся, правду молвит или лжёт. Мог, конечно, и из подлого люда выбиться своим умом, а это уже немало: лекарем государевым стать не всякий сумеет... Вообще, чванство было чуждо Димитрию Годунову, да к тому же сразу одолело любопытство – колдуну явно что-то от него нужно, и неразумно было бы упустить случай самому немного проведать о Елисеевых замыслах. Через того же посыльного он ответил, что рад будет навестить господина дохтура на будущей неделе – раньше-де ему недосуг.
Неделю спустя Димитрий Иванович не без опаски переступил порог колдунова жилища. Хозяин уважительно встретил его на крыльце, запутанными темноватыми переходами провёл в столовую палату, рассыпаясь в благодарности за оказанную высокую честь. Войдя, Годунов настороженно глянул в красный угол и с облегчением осенил себя крестным знамением – образа были на месте, как положено, а ведь говорили, будто у Елисея образов нет вовсе, а висят сушёные гады...
Стол был накрыт по-иноземному, хмельное подали в пузатых узкогорлых скляницах, перед прибором гостя с необычной формы трёхзубой вилкой стоял кубок из оправленной в серебро переливчато-розоватой раковины, выгнутой крутым завитком.
– Ренское у тебя, господин дохтур, отменное, – похвалил Димитрий Иванович, отпив из кубка и с любопытством его разглядывая. – А это в каких же краях такие изрядные улиты водятся?
– Привозят их из гишпанских владений в Новом Свете, открытом Колумбусом, – ответил Бомелий, – там же добывают со дна морского, равно как и жемчуг или кораллы. В полуденных морях много дивных натуралий, доселе нам неведомых.
– А не может ли от сего вред причиниться? – Годунов с сомнением пощёлкал пальцем по кубку. – Иные морские дива, сказывают, бывают и ядовиты?
– Так, ядовитых рыб много, однако раковины не только безвредны, но, напротив, весьма пригодны для изготовления кубков, поелику такой сосуд от некоторых отравных зелий тотчас темнеет... Отведай каплуна, боярин, что-то ты не ешь. Или стряпня не по вкусу?
– Помилуй Бог, – искренне удивился Годунов, – как же не ем? Да я, вишь, от обеда ещё не успел голоду нагулять... А стряпчего твоего хулить грешно – мастер он у тебя. Так темнеет, говоришь, кубок?
– Темнеет, – кивнул Бомелий, – сразу темнеет! Это ежели влить в него сильное зелье, а у слабого он сам отнимет вредные свойства, понеже действует как антидотум, сиречь противоядие. Наподобие терияка. Смею ли попросить высокородного боярина о милости?
– Да уж как тебе откажешь. – Годунов улыбнулся, подумав, что не ошибся в своей догадке: что-то Елисею от него понадобилось.
– Прими в дар сей кубок, – льстивым голосом сказал лекарь. – Не к тому это, что опасаюсь за твою жизнь, нравы здесь, на Москве, благодарение Господу, не то что в иных землях, при дворах Борджиев иль Медичей... однако же поберечься нигде не лишне.
– Ну... благодарствую, коли так. Загляденье, до чего хорош! Спаси Бог, господин дохтур, это ты меня и впрямь порадовал. – Димитрий Иванович любил красивые вещи иноземной работы, не скупясь тратился на них для украшения своего жилища. – Буду держать на поставце для самых дорогих гостей – то-то мне позавидуют, таких кубков я тут вроде и не видал...
– Только, боярин, на столе быть ему пустым негоже. – Бомелий взялся за другую скляницу, глянул сквозь неё на свет. – Не желаешь ли испить кипрского?
– Отчего ж не испить... А вот верно ли, я слыхал, будто кипрское паче иных фряжских вин горячит кровь и наводит человека на греховные помыслы?
Бомелий усмехнулся, разливая по кубкам тёмное, почти непрозрачное вино:
– Поясни, боярин, какие помыслы называешь греховными. Зарезать, что ли, кого?
– Да упаси Господь! Экой ты, господин дохтур, непонятливый. Я тебя о грехе любострастия спрашиваю, – пояснил Годунов, любуясь переливом свечных огней на нежно-розовой выпуклости кубка. – А ты эвон куда заехал!
– Боярин и впрямь считает любострастие грехом? Пусть так. Однако на помыслы таковые наводит нас не вино, а собственная наша натура, вино её лишь освобождает.
– Оно верно. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, и со страстями нашими так само. Ещё говорят – пьяному море по колено.
– Очень мудрая пословица. Упившись сверх меры, человек становится неосторожен и не может разумно оценивать свои действия. Как лекарь, не могу не сказать, сколь тревожит меня пристрастие великого государя к пиянственным забавам.
– На то его царская воля, – осторожно заметил Годунов.
– Несомненно, и никто на неё не посягает. Но нас с тобой судьба поставила очень близко к персоне его царского величества, а сие не только почётно, но и... как это сказать, м-м-м... обязывает, да?
– Понимаю, да. Однако ж...
– Позволь, я доскажу. Боярин, здесь нас никто не услышит, можем говорить открыто, не таясь друг от друга. Мы оба обязаны блюсти государя и печься о его благоденствии и здравии как телесном, так и душевном. И ежели возникает какое-либо на сей счёт опасение, отчего же не поделиться, не подумать вместе? Ибо ты сам понимаешь, сколь опасно было бы проглядеть то, что должно быть вовремя замечено. И для тебя, и для меня сие означало бы небрежение своими обязанностями. Или я не прав?
– То, дохтур, не в нашей власти. Видел, чай, что постигает тех, кто осмеливается перечить великому государю?
Бомелий пожал плечами:
– Перечит глупец, умный найдёт иные способы...
– Подскажи, коли знаешь.
– Знал бы, боярин, так сам бы действовал, ни с кем не советуясь. Ты любишь пословицы, тогда вспомни ещё одну: ум хорошо, а два лучше. Для того и просил тебя прийти, что меж иными ближними боярами Димитрий Иванович Годунов слывёт мужем, не обделённым мудростью. К тому же постельничему многое ведомо из того, чего не ведают иные...
– Даже лекарю?
– Лекарь не поп, ему не исповедуются.
– Не об исповеди речь... Лекарь выспросить может, коли что не так.
– Не про всё выспросишь, да и великий государь не на всякий расспрос отвечать станет, – сказал Бомелий. – Могу ли я, к примеру, спросить, не опостылела ли ему царица Марья?
– Ну, это нам и знать ни к чему!
– Ошибаешься, боярин, сие весьма важно. Когда между мужем и женой нет согласия...
– Несуразное молвишь, дохтур, – прервал Годунов и даже засмеялся, махнув рукой. – Какое с женой «согласие»? Жена, она и есть жена. Курица не птица, баба не человек. Согласие! Да Боже упаси с бабой советоваться – она те такого присоветует, что век потом не расхлебаешь...
Бомелий, подлив гостю вина, отрицающе поводил пальцами перед своим носом:
– Не о том речь, боярин. Я говорю о согласии не разума, но телесного нашего естества, о согласии в плотской любви. Ты слыхал ли о Платоне?
– Кто ж не слыхал. А ты про какого? Преподобного пятого апреля поминают, а святого мученика – того в ноябре.
– Нет, нет! Был ещё один, греческий филозоф. Так вот, сей учил, что не отдельно сотворены были мужчина и женщина, но изначально являли собою единое существо, зовомое андрогин, сиречь женомуж. И были те существа столь могучи и свирепы, что боги – Платон был язычник, посему писал не о Боге, но о языческих богах – боги в наказание рассекли их каждого на две половины, мужескую и женскую, и люди поныне тщатся отыскать каждый свою утраченную часть.