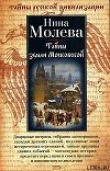Текст книги "Государева крестница"
Автор книги: Юрий Слепухин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
12
Настя уже третью неделю не находила себе места, засыпала и просыпалась с одним помыслом: когда же вернётся Андрей? Его с малым отрядом послали сопровождать гонца к перекопскому хану, но только до Курска; дальше, сказал он, «куряне дадут гонцу своих людей, а мы обернёмся дней за десять – до Курска недалеко, всего двести вёрст».
Представить себе «недалёкий» путь в двести вёрст было страшно, а ещё страшнее было то, что путь этот лежал в Дикое поле, где кто только не бродит – и сыроядцы-татары, и ногаи, тмутаракане, и черкесы, не к ночи будь помянуты. Только псоглавцев не хватает, хотя кому то ведомо? Могут набежать и псоглавцы.
Десять дней, сказал он, значит, раньше ждать было нечего, но она стала ждать уже наутро: проснулась и стала думать, прошёл уже один день или не прошёл. Смотря как посчитать. И когда стала на молитву, скоро поймала себя на том, что молится неподобающе и грешно, однако заставить себя молиться как подобает так и не смогла.
«Ладно, ужо исповедоваться буду, так повинюсь, – подумала она легко, – авось поп не осерчает...»
А может, это и не такой уж грех – просить Заступницу, чтобы охранила от псоглавцев и иной нечисти. С татарином-то иль черкесом и сам совладает – не впервой, слава Богу; с нежитью, конечно, труднее.
Вот так дни и потянулись – неделя прошла, другая. Уж пора бы вернуться, а никто не ехал. Настя упросила Матрёшу сходить на Яузу, поспрашивать у арапа, может, приехал уже, да захворал в пути, или привезли раненым. Матрёша идти боялась, а ну как Онуфревна спросит, где была? – но Настя её успокоила: скажет, мол, что посылала к дочке Кузнецовой за вышивальными нитками, а ещё лучше – в гостиный ряд. Вернувшись (Онуфревна и не приметила отлучки), Матрёша сказала, что арапа видела – арап страшенный, хотя по-нашему говорит чисто, и тот арап сказал, что нет, ещё не вернулись, а её назвал «луноликой».
– Насть, слышь, а чего это такое – луноликая?
– Ой, да мне почём знать! – в сердцах отозвалась Настя, едва сдерживаясь, чтобы не заплакать. – Ликом, значит, светлая – что ясный месяц. Ты хоть спросила, когда ждут-то?
– То арапу неведомо. Говорит, может, его татары в полон угнали.
– Да чтоб у него, поганого, язык отсох! – закричала Настя. – Чтоб его перекрутило да скрючило! А ты, бессердечная, посовестилась бы такое мне пересказывать!
Матрёша устыдилась, заплакала в голос.
– Ладно, не реви, чего уж теперь... – Настя подошла к скрыне и, подняв крышку, порылась в одном из ящичков, достала алую шёлковую ленту: – На вот тебе, глянь. Как раз в косу будет – ну-кось возьми зеркальце...
Пока переплетала Матрёше косу, часто смаргивая слёзы и пошмыгивая носом, немного успокоилась – принудила себя откинуть страхи. Молится ведь каждый день, не может того быть, чтобы Пречистая не услышала, не оберегла от ужасов в ночи, от стрелы, летящей днём, от язвы, ходящей во мраке, от заразы опустошающей...
За ужином Настя не утерпела, спросила отца, не слыхал ли, когда должны вернуться стрельцы, посланные провожать гонца в Крым.
– Как проводят, докудова велено, так и вернутся, – ответил он и добавил бесчувственно: – Да тебе-то какая в том забота?
– Вот такая! – крикнула Настя. – Кому ж ещё иному – не тебе, вестимо! Тебе что – пропал человек, и ладно!
Отец уставился на неё изумлённо, держа в одной руке нож, а в другой – баранью кость, с которой состругивал мясо.
– Онуфревна, она, што ль, не в себе? Ты б её на ночь с уголька-то сбрызнула – слыхал, помогает. Ох, Настасья...
Кой к чёрту уголёк, подумал он, замуж бы её поскорее, тут угольком не отделаешься...
– Да что «Настасья», что «Настасья»! Может, его там псоглавцы заели аль татарва угнала в полон, а вам всё едино!
– Нет, ну истинно очумела девка. Каки ещё псоглавцы, окстись...
– Обыкновенные! Про коих сказывал странник, что в Киев на богомолье ходил.
– Да что он про них сказывал?
– Вот то и сказывал! Телом, говорит, мохнаты и смрадны, голова же пёсья.
– Пустое болтал. То ему, мыслю, спьяну причудилось. Покуда до Киева-то добрел, так, верно, ни одного шинка по пути не миновал.
– Старец-то богомольный был, Михалыч, – возмутилась Онуфревна, – а ты его этак хулишь при дочери!
Никита только рукой махнул, выбираясь из-за стола. Свяжись с этими бабами – сам сдуреешь...
Каждое утро, проснувшись, Настя припоминала, что снилось. В сны она верила, знала, что бывают вещие – кои к худу, кои к добру, а иные и вовсе не понять. Досаднее всего было, если сон забывался, лишь едва брезжило что-то, словно сквозь туман поутру, и это что-то вроде было добрым, а не припомнить толком. Худой сон забудется – то и ладно, значит, и сбываться нечему; а вот ежели сон к добру, то его надо весь удержать в памяти, сколь можно подробнее.
Днём она за делами отвлекалась от сосущей тревоги, благо дел было много: отец строго наказывал мамке, чтобы праздно Насте не сидеть, не предаваться мечтаниям. Да она и сама не любила праздности, чего уж тут хорошего? Так и лезет в голову разное. А работа в её руках спорилась – тесто ли месить вместе со стряпухой в те дни, когда хлебы пекут, рубить ли капусту для засола, грядки ли полоть и коромыслом носить от колодезя воду для поливки – всё ей давалось легко и ладно, будто играючи. Что было в тягость, так это шитьё, вышивание разное: больно уж кропотливо. А боярские девы, отец говорит, только и знают работы, что вышивать, да ещё сидя взаперти по теремам. Не приведи Господь! Настя со страхом представляла себе горькую участь боярских дев.
Женская участь вообще казалась ей незавидной, ещё с самого детства. Отроки и в речке купались, и по улицам бегали вольно, и голубей гоняли; а постарше, войдя в возраст, и вовсе делали что хотели – кто торговал, кто ремесло себе избирал по вкусу и нраву, кто за оружие брался – шёл в стрельцы. Отроковице же одно лишь на роду написано: сиди дожидайся, покамест замуж возьмут. Да ещё возьмут ли! На свой счёт, впрочем, Настя не беспокоилась – возьмут. Вот только кто? Может ведь и такой ирод взять, что потом всю жизнь горючими слезами будешь оплакивать девические свои годы. И не в том горе, что бить будет или иначе как тиранить, – без этого нельзя, что ж это за муж, коли жену не бьёт, непременно должен бить, коли любит. А вот коли не любит? Коли сам не люб окажется? С постылым-то каково жить?
Посадские жёнки, сойдясь на торгу ли, на портомойных ли мостках, рассказывали всякое, языкатили почём зря, никого не стесняясь. Настя сама, понятно, с ними не водилась, дворовые же девицы – покудова бельё переполощут – наслушаются, бывало, всякого. А после друг дружке и пересказывают, хихикая. Так уж как утерпеть, не спросить, самой не послушать? Такого, бывало, расскажут, что и замуж не захочешь.
Так было, покуда не появился Андрей. А как появился, всё стало просто: он и есть. Суженый, тот самый, кого конём не объедешь. Только сам-то он понимает ли, что суженый? А ну как не догадывается? Первое время Настя была в смятении: догадается, не догадается, а и догадавшись – что ему делать? Сватов, что ли, присылать – так оно непристойно, самому об этом речь заводить. Впрочем, родителей его нету в живых, стало быть, вроде можно... Голова у неё шла кругом.
Потом всё стало просто, пришла покойная радость: нечего гомозиться, всё придёт своим чередом, всё будет как надо. Не часто удавалось им остаться наедине, но при встрече довольно бывало одного взгляда, чтобы можно было ничего боле и не говорить – всё делалось понятно и без слов.
И вот теперь суженого угнали за тридевять земель, за двести вёрст. А не захотят куряне дать тому гонцу свою охрану, так и дальше придётся его оберегать, до самого Перекопа. Настя не представляла себе, что такое Перекоп, ров, что ли, такой, вроде большой канавы? – но знала, что там сидит хан и оттуда же татарва делает набеги. Вылезут из Перекопа и «муравским» каким-то шляхом – прямо на Москву. Есть ещё «ногайский», тот идёт от Астрахани, где Андрей добыл своего арапа. Господи, ещё и этот арап злоязычный, кто его, нехристя, за язык тянул такое сказать...
Вечером она пошла в конюшню отнести Зорьке привычный гостинец – краюху хлеба. Забравшись в ясли, сидела с поджатыми ногами в покалывающем и щекотном сене, поглаживая кобылку по тёплому шелковистому крупу, потом стала кормить с ладошки. Зорька, тихо пофыркивая, подбирала хлеб мягкими, замшевыми губами. Поев, негромко заржала – то ли благодарила за угощение, то ли требовала ещё. Настя потрепала её за уши, стала разбирать гриву.
– Зоренька, ласточка, – шептала она ей в самое ухо, – любезная ты моя... касатушка... никому тебя не отдам, это я по дурости-то тяте тогда говорила, чтоб продал... потому больно уж осерчала, что ты зашибла его. А ведь коли б не зашибла, так и уехал бы он тогда и ничего б не было... умница ты моя, раскрасавица...
Вернувшись в светёлку, она долго сидела, расплетая на ночь косу и щурясь на огонёк лампадки, потом стала на молитву. Но молиться было трудно, привычные заученные слова повторялись как-то сами собой, а мысли были о другом – хотя и молилась-то, правду сказать, о том же самом. Трудно оказалось и заснуть, было душно, приотворила оконце – стал зудеть неведомо откуда взявшийся комар. Вроде бы не ко времени быть комарам... Воздвижение миновало, что ж он, до Покрова, што ль, решил там разъезжать? Комар сел на щёку, Настя в сердцах прихлопнула его, промахнулась и тихонько заплакала – да что ж это за жизнь такая окаянная!
И в эту ночь приснился ей удивительный сон: будто изладили они с девицами мыльню, ладно истопили, воды натаскали полный чан, нагнали пару, и Настя – чур, я первая! – растянулась на нижнем полке, велит Матрёше хорошенько попарить веничком. Стала Матрёша её хвостать, и всё как-то вполсилы, будто жалеет. «Да ты пуще, пуще, – требует Настя, – чай, ручка не отвалится!». А та, как нарочно, всё слабее, уж и не хлещет вовсе, а так, похлопывает легонько. Сомлела, што ль, «луноликая», думает Настя и оглядывается, приподнявшись на локтях; а пару столько нагнано, что в мыльне и не видать ничего, и Матрёши самой не видно, только вроде багрецом что-то отсвечивает; вглядывается Настя и соображает вдруг, что вовсе это не Матрёша, а стрелецкий кафтан брусничного цвета и вроде это так и положено, вернулся, стало быть, только в кафтане-то ему тут долго не вытерпеть, думает она, снова укладывая голову на руки, а он веничком уж не хлещет, а щекотно так, ласкаючи, водит ей по всей спине, от самой шеи до подколенок; а ей и стыдно вроде, и не стыдно, вроде бы так и должно быть, и от этого поднимается, охватывает её всю такая сладость и истома, что уж и стыда никакого не остаётся, одно лишь нестерпимое, до боли пронзительное ощущение сладости...
Проснувшись как от удара, она вскочила, села в постели с неистово колотящимся сердцем, схватившись руками за щёки. Сон был весь тут, перед глазами, будто только что приключившееся наяву. «Господи, да что ж это со мной, – подумала Настя, обмирая, – откуда во мне бесстыдство это – сны такие видеть, да ещё радоваться... Ох, теперь мне и к исповеди-то не пойти, ну как такое расскажешь...»
Соскочив с постели, она упала на колени перед кивотом, стала часто креститься дрожащей рукой. «Господи, Господи, не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, Господи...»
Постепенно она успокоилась. Ночь была прохладной, горницу выстудило через открытое окно. Озябнув, Настя юркнула обратно под одеяло, зажала руки коленками и сразу – неожиданно – стала засыпать. Ещё бы разочек всё то увидеть да почувствовать, подумалось ей уже в полудрёме, всё равно уж привиделось, так чего уж теперь: семь бед – один ответ...
13
Переговоры, как и опасался посол фон Беверн, затягивались, московиты не говорили ни да, ни нет, выжидали чего-то, очевидно вознамерившись взять ливонцев на измор – чтобы стали сговорчивее. А на что сговорчивее, о том не мог догадаться даже хитроумный доктор Лурцинг со всем своим дипломатическим опытом. Чего ждал от них московский великий князь – земельных уступок? Но орден уже не распоряжался тем, что осталось от его прежних владений: всё, что не успели взять московиты, расхватали короли шведский и польско-литовский, с ними теперь и надо было решать эти дела – с Эриком Четырнадцатым да с Сигизмундом Августом. Бывший магистр Готхард Кетлер сидел в своей смехотворной Курляндии, утешаясь пожалованным от польской короны герцогским титулом, и являл собою пустое место. Что могло орденское посольство предложить Москве в обмен на освобождение Фюрстенберга и иных пленников?
Про себя – не говоря этого комтуру – Лурцинг удивлялся, что Иоанн вообще изъявил согласие принять их, вести с ними какие-то переговоры. Фактически с орденом было покончено уже полтораста лет назад, при Грюнвальде; после этого он влачил жалкое существование, терпя одно военное поражение за другим и вдобавок к этому в последние тридцать лет всё более изгнивая духом под воздействием неудержимо растущей виттенбергской ереси Мартина Лютера. Некогда твердыня благочестия, крепчайший бастион Римской церкви на северо-восточной окраине христианского мира, ныне орден стал скопищем вероотступников, еретиков и распутных сластолюбцев, превративших свои бурги в гнёзда разврата. Четыре года назад вся орденская рать, собранная воедино, попыталась заградить русским дорогу на Феллин[11]11
Ныне г. Вильяпди (Эстония).
[Закрыть] – жемчужину ливонских крепостей; сошлись под Эрмисом, и снова разгром был ужасающим – только в плен попало более ста рыцарей, одиннадцать комтуров, сам ландмаршал фон Белль. Бежавший потом от Иоанна князь Курбский, с которым Лурцинг виделся этим летом в Вильне, рассказал ему, что после той битвы пленный ландмаршал обедал с ним и воеводами Милославским и Петром Шуйским и якобы сказал: «Не вы нас разбили, мы пали под гнетом своих грехов. Когда усердие к истинной вере, благочестие и добродетель отличали нас от всех прочих, Господь был на нашей стороне, мы не боялись ни россиян, ни литовцев, ни шведов. Теперь же Он отступился от нас, впавших в ереси и необузданное сластолюбие, и вы для меня – справедливо карающая десница Господня...» Умным человеком был Филипп Шаль фон Белль, видно, за это и поплатился, да покоится его душа в мире...
Так что Лурцинг совершенно не представлял себе, что может стать предметом обсуждения на предстоящих переговорах, кроме судьбы ливонских пленников. Эта неопределённость угнетала его как юриста и дипломата, результаты посольства представлялись ему всё более сомнительными.
Пока что не увенчались успехом и старания выполнить просьбу посла насчёт этого сомнительного племянника, якобы существующего в Москве. С местными немцами – кое с кем – он говорил, но не узнал ничего интересного. Посольское подворье охранялось весьма строго, никого из местных жителей сюда не допускали, и посольским людям вольно разгуливать по Москве тоже возбранялось; однако Лурцинг давно убедился, что само свирепство здешних законов понуждает преступать их на каждом шагу. Постоянно нарушался и запрет общения посольских людей с горожанами – надо было лишь дождаться, когда охранять ворота будет подкупленный заранее стражник. Подкупить можно было всякого, просто одних приходилось уговаривать, а другие брали сразу.
Так что Лурцинг побывал и на Кукуйском ручье, и на Болвановке, где жили в основном воинские наёмники, и на отдельных дворах иноземцев по Сретенской и Лубянской улицам. Но люди там селились по большей части новые, приехавшие в Московию за последние пять-шесть лет и о более давних событиях ничего не знающие. Впрочем, разочаровывать комтура пока он не хотел, поэтому говорил, что надежда что-нибудь узнать ещё не потеряна.
Наконец однажды вечером явившийся к Лурцингу пристав объявил, что завтра его примет в Посольском приказе сам Иван Висковатый. Доктор почувствовал и облегчение (даст Бог, хоть что-то прояснится), и в то же время беспокойство. То, что пригласили его, а не посла, означало, что разговор будет пока неофициальный, предварительный, и это облегчало задачу; затрудняло же её то, что разговор будет с канцлером – «печатником», как именовали московиты эту должность.
Иван Михайлович Висковатый слыл человеком трудным в общении, гордым и высокомерным, к тому же он, когда шесть лет назад решался вопрос, с кем воевать Москве – с Крымом или с Ливонией, был ярым сторонником войны на Западе. Разумеется, в конечном счёте решение принимал сам великий князь, но всё же трудно было не считать Висковатого одним из виновников [12]12
Т. с. хранителем большой государственной печати.
[Закрыть] страшного погрома, которому южная Ливония подверглась в январе пятьдесят восьмого года, всех неописуемых зверств, совершенных тогда татарской конницей Иоанна. Висковатый, во всяком случае, всё это поощрял. Прискорбно было убедиться, что христианин может до такой степени ненавидеть своих единоверцев, хотя бы и иной конфессии, чтобы в борьбе с ними не гнушаться военной помощью нечестивых почитателей Магомета. Католики, впрочем, были не лучше: поляки тоже нередко брали себе в союзники крымскую орду, идя походом на православных схизматиков...
На следующий день присланная за ним колымага доставила Лурцинга в кремль. Приём проходил в подчёркнуто деловой обстановке: Приказная палата была лишена каких бы то ни было украшений, если не считать обычного образа в недорогом, тусклом от времени окладе, могущественный дьяк сидел за длинным дубовым столом, заваленным бумагами, на дальнем конце которого прилежно скрипели перьями двое подьячих. Лурцинг сел напротив, чуть поодаль примостился на скамеечке толмач, которого он взял с собой, не полагаясь на собственное знание тонкостей языка. После обычного обмена любезностями, вопросов о здоровье и условиях содержания посольства – довольно ли получают кормов и питья и не терпят ли в чём обиды и утеснений – печатник поинтересовался, не вызваны ли их хлопоты о судьбе бывшего магистра заботой о нынешнем бедственном состоянии ордена и как он, доктор Лурцинг, представляет себе будущее братства.
– Хотелось бы также услышать, – добавил Висковатый, – что по сему поводу мыслит сам Бевернов... не как посол великого магистра из Пруссии, но как комтур славного ордена Ливонского.
Толмач перевёл, Лурцинг подумал и развёл руками:
– Освободить магистра мы просим единственно из христианского сострадания, не более того... Он уже в преклонных летах, и старому человеку тягостно окончить жизнь в чужом краю. Что касается другого вопроса, то превосходительному канцлеру известно, что славного Ливонского ордена больше нет, а посему можно ли говорить о его будущем?
Висковатый выслушал перевод, задумчиво вертя на пальце перстень с крупной жуковиной.
– Отчего ж нельзя, – сказал он. – От человека порушенное человеком же и воззиждено быть может. В воле великого государя было сокрушить орден, понеже он в пыхе и гордыне своей дерзнул подъять оружие супротив его, великого государя, державы... наущением Папежа Римского.
Лурцинг подумал, что орден уже более ста лет не пытался «подъять оружие» против кого бы то ни было, тем более по наущению Папы. Огрызался, поелику возможно, это да; но «пыхи» давно не было и в помине. Разумеется, напоминать обо всём этом Висковатому было излишне.
– Ныне же, – продолжал тот, – нет более причин нам враждовать и помнить старые обиды. Тебе, дохтур, ведомо, должно быть, как милостиво принял великий государь магистра Фирстенберга, пожаловал его малым поместьицем... покуда не решится дальнейшее. И вот о чём надобно неотложно помыслить: на орденские земли зарятся и литовцы с ляхами вкупе, и даже свей пожаловали, от Нарвы до Пернова весь северный край прихватили вместе с Ревелем, то бишь Колыванью. Земли то исконно русские, ещё от Ярослава, но не время ныне касаться древней гистории... Орден владел Ливонией триста лет, льзя ли про то забыть? И народец местный вам ведом, эсты и ливы издавна живут по орденским законам, обвыкли уж, и посадские в городах, и пахотный люд. Нам теперь свои порядки там ставить непросто будет, мыслю. Наместников одних сколь понадобится, толмачей...
Смехотворный довод, подумал Лурцинг, почесав нос, чтобы не улыбнуться. В толмачах ли дело!
– Мы не враги ордену, – повторил канцлер. – И нам прискорбно видеть, как ныне ливонские рыцари унижены пред прусскими, милости ради принявшими их к себе. Приличествует ли сие братству меченосцев? Великий государь может воззиждеть орден под своею протекцией, буде магистр даст ему, великому государю и царю Иоанну Васильевичу, крестное целование на дружбу и покорность. На веру вашу посягать бы не стали, в том вы вольны – пребывать ли в римской, перейти ли в Люторову... как уже многие средь вас, слыхать, попереходили. Оно и к лучшему, понеже пастыри люторские не столь злопыхательны противу истинной православной веры, нежели папежские ксёндзы.
– Как господин канцлер мыслил бы в таком случае отношения между орденом и Святейшим престолом?
– Угодно вам признавать Четвёртого Пия своим духовным главою, и в том вы вольны – я уж молвил. В делах же светских надлежит делать, что указано будет от великого государя... как то в обычае повсеместно, кою бы державу ни взять. Воля властителя непререкаема для подданных не токмо в кесарских землях и королевских, но и в тех краях, что управляются без помазанника, богопротивно избирая правителя земским собором.
– Возродить орден под московским протекторатом, – задумчиво сказал Лурцинг. – Но кто мог бы взять на себя такую задачу?
– Про то великий государь будет говорить с самим магистром. Буде Фирстенберг согласится...
– Он слишком стар, господин канцлер.
– Старость тут не помеха. Присягнув великому государю, он сможет передать бразды правления Кетлеру. Не Готгарду... он вам не люб, то ведомо. Новым главой ордена станет сын его, Видим Кет лер. Но крест целовать великому государю должен Фирстенберг – он старец почтенный, ему будет вера ото всех. И того ради он, великий государь, велел мне говорить с тобой предварительно, дабы проведать твоё и посла Бевернова мнение о сём замысле. Посол был дружен с магистром и знает, чего от него ждать. Ты же изрядный законник и можешь помочь советом... уговорить посла. Я так мыслю, что Фирстенберга сюда привезут, вот они и встретились бы с Беверновым. А уж после великий государь его примет. Мне мыслится, что то на великую пользу было бы и Москве, и ордену. Земли ваши мы сообща скоро отобрали б у свеев, у литовцев... порознь-то оно труднее. Буде Фирстенберг станет целовать крест, отпустим с ним и прочих ливонских пленников, нам они ни к чему...
Вернувшись на подворье, Лурцинг поспешил пересказать послу услышанное от Висковатого. Фон Беверн слушал, не переспрашивая, поднятые его брови выражали недоумение.
– Но ради всего святого, Иоахим, – сказал он наконец, – объясните мне смысл этого нелепого плана! Зачем московитам возрождать орден, с которым они враждовали со времён того новгородского князя, как его – Александра? Он ещё изрядно потрепал наших на льду какого-то озера под Плескау.
– Смысл увидеть нетрудно. Хотя Иоанн и считает Ливонию своим древним доменом, он понимает, я думаю, что глупо было бы пытаться включить её в состав Московского государства. Другой народ, другой язык, другая религия – всё другое. Она неминуемо останется чем-то чужеродным... так же как чужеродны друг другу разные области Империи. Фландрия и Сицилия, Богемия и Испания – что меж ними общего? Ничего, кроме вассальной зависимости от кайзера. Иоанн хочет видеть Ливонию вассальным государством, но в чьи руки его отдать? Он рассудил здраво: лучшим решением было бы восстановить в этой стране власть ордена, но уже покорного Москве. У нас есть немалый опыт управления страной, нам повинуются...
– Повинуются! – воскликнул посол. – Кто нам повинуется? Рига? Дорпат? Ревель? Вспомните ландтаг пятьдесят восьмого года – полстраны дымилось руинами после набега русских, а депутации городов одна за другой голосовали против войны! Подлые бюргеры, жалкие, трусливые твари...
– Согласен с господином бароном в их оценке, однако нельзя не признать, что в своём предвидении исхода этой войны они не так уж и ошибались, – заметил Лурцинг, почесав нос.
– Война ещё не окончена!
– Для нас – окончена. Москва долго ещё будет тягаться со шведами и поляками, но мы уже вне ристалища, нас из седла выбили, тут ничего не поделаешь. Что касается повиновения – да, согласен, оно уже не то, что сто лет назад. И всё же для эстов и ливов орден по-прежнему олицетворяет Власть... так что мы смогли бы, вероятно, продолжать властвовать ещё какое-то время. Вопрос в том, господин барон, стоит ли это делать ради московита.
– Вот именно, – буркнул фон Беверн. – Стать вассалами кровожадного дикаря? Фюрстенберг никогда на это не согласится. Что за идея!
В этот день о том же самом шёл разговор и у Висковатого с Иоанном.
– Ладно, пущай подумают, – сказал государь, выслушав печатника. – Нам не к спеху. Мыслишь, Фюрстенберг не станет целовать крест?
– Сумнительно, великий государь. Гордыня, вишь, рыцарская не позволит.
– Что ж, неволить не станем. Может, оно и к лучшему, нам есть кого на Ливонию посадить. Брат данского Фридерика, Магнус, бискуп Эзельский, – чем не сгодится?
– Магнус не больно-то надёжен...
– А коли нам то ведомо, что не надёжен, то и полбеды. Приглядим за ним, дабы вовремя пресечь воровство. Вовсе надёжных человеков нету, я ведь, Михалыч, и за тебя-то не поручился бы, ась? Ну, ну, то в шутку сказал! А орден неволить не станем, – повторил Иоанн, – была бы честь предложена. Что тебе из Вены отписали – посол Бевернов и впрямь близок к новому кесарю?
– Так, великий государь. Он ходил у него в окольничих ещё в ту пору, как Фердинанд был угорским королём.
– А, это когда они с Яношем из Заполья, Солимановым ставленником, королевство делили? – Иоанн усмехнулся. – Хотелось бы поглядеть, как то было – жеребий, што ль, тащили из шапки…
самодержцы! Однако же ныне он – кесарь, хотя покойный Папеж Павел его таковым и не признал... Ладно, то их дела, а вот нам без союза с кесарем в Ливонии не утвердиться, и не видеть того может токмо глупец. Ты, помнится, прорицал, что её, мол, тряхнуть лишь посильнее – и древляя наша вотчина сама упадёт в руки, яко зрелый плод. Колючим оказалось яблочко-то твоё, Михалыч...
Теперь уж Висковатому и вовсе стало не по себе.
– Великий государь, я говорил лишь в рассуждении военной силы ордена...
– Да, а оно, вишь, как получилось – Ирик с Жигимонтом влезли нежданно-негаданно, а ныне заместо слабого ордена приходится нам воевать не столь уж слабосильных свеев да литовцев с ляхами вкупе. Ну да кто не ошибался! Посольство к Фердинанду наряжать не будем – он нам послание своё передал через Бевернова, вот пусть тот отвезёт и наше. И надо, чтобы Бевернов остался к нам благорасположен, сколь только возможно. Об этом, Михалыч, позаботься особливо. Одарить ли чем, льготы ли какие посулить – ну в том сам разберёшься. Приём ему устроим по всей чести... может, и старца того отпустим, Бог с ним. Подумаю ещё! Будешь с ним говорить – выспроси про кесаря, что сможешь...