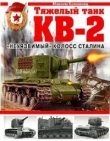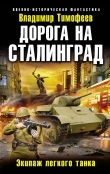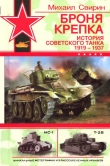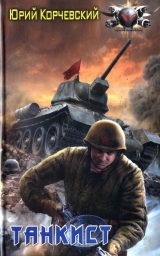
Текст книги "Танкист"
Автор книги: Юрий Корчевский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Глава 9
ДУЭЛЬ
А через неделю ранило самого Павла. Глупо получилось, не в бою. Они только атаку немецкой пехоты при поддержке танков всей батареей отбили. И, слава богу, танки оказались средние – T-III и T-IV. Они так и остались догорать на поле боя чадящими кострами. Куда им было лезть на 85-миллиметровые пушки самоходок?
Ни одной вражеской машины Пашке подбить не удалось – другие опередили. Зато пехоты немецкой покосил не один десяток, стреляя осколочно-фугасными снарядами по немецким цепям.
Не выдержали немцы отпора, хоть и оголтело лезли. И то сказать – не 41-й год. У нашей пехоты вдосталь автоматов появилось, пулемётов, и патронов к ним хватало.
Бой стих, и самоходки отошли назад. Почти сразу же комбат передал по рации, что полевая кухня подъехала, обед привезли.
Заряжающий Василий, собрав котелки у экипажа, сбегал на кухню и доставил к самоходке харчи. Все уселись на снарядные ящики – пообедать.
Обед сегодня неплохой получился: рыбный суп, пюре картофельное с тушёнкой, вместо опостылевшей всем каши, да жиденький кисель – уж и вовсе редкость. В большинстве своём чай давали, отдающий прелым сеном.
После обеда экипаж закурил, скрутив «козьи ножки» из обрывков газеты. Павел же решил отойти к ручейку – котелок с ложкой ополоснуть. Но едва он успел зайти за самоходку, как услышал свист мины.
Он успел упасть на землю и прикрыть голову руками – вроде это помогает.
Мина взорвалась в полутора десятке шагов от него, по ноге ударило осколком, и она сразу занемела. Пашка хотел встать, однако нога не слушалась.
Парни из экипажа уже бежали к своему командиру. Из них никого не задело – самоходка от осколков прикрыла. А у Павла уже брючина комбинезона кровью набухла.
Его перевязали индивидуальным перевязочным пакетом прямо поверх комбинезона, подняли на руки и заторопились в полевой медпункт.
Врач разрезал штанину с бинтом и коротко бросил:
– В госпиталь надо, оперировать. Осколок глубоко вошёл, ранение слепое.
Вот обидно! Бой прошёл без потерь в батарее, а единственной шальной миной ранило.
Павел просился, чтобы его оставили на медпункте, не хотел полк покидать, но врач был непреклонен.
– А если гангрена начнётся? У тебя ранение в бедро, ногу по самые… отрежут.
Пашка испугался: не хотелось ногу терять, инвалидом становиться. Видел он уже безногих, раскатывающих на самодельных деревянных колясках, у которых вместо колёс подшипники стояли. Когда едет, за квартал слышно.
Пашку отвезли в госпиталь грузовиком. Там его осмотрели, прооперировали под местной анестезией – всё равно было больно. Он только зубами скрипел, но молчал. А после в палату отвезли на каталке, хотя Пашка порывался встать и дойти сам.
Он лёг на белые простыни, на каких не лежал уже с год, укрылся одеялом и провалился в сон.
А дальше – перевязки каждый день и трёп с ранбольными, как называл их персонал. И обязательно каждый день в двенадцать часов все ходячие собирались у репродуктора – послушать сводки Совинформбюро. Интересно было узнать о положении на фронтах. Их Первый Белорусский фронт упоминался в сводках почти ежедневно. И как не упоминать, когда с октября 1944 года фронтом командовал сам Георгий Константинович Жуков, прославленный полководец.
О Втором фронте много говорили, потому как реальных успехов у союзников не видели. Да, машины, танки и самолёты в Красную армию союзники, конечно, поставляли. Неуклюжие «Валентайны» и «Генерал Шерман» Павел сам видел, а консервированную колбасу или яичницу из американского яичного порошка ел не раз. Но солдаты ждали, что союзники будут громить немцев всерьёз, и им, тяжко и без передыхов воевавшим уже три года, будет хоть какое-то облегчение. Однако союзники больше топтались на месте, а то и терпели поражение, как в Арденнах, предпочитая больше бомбить немецкие заводы и города. Ни американцы, ни англичане не хотели терять людей, иначе что тогда скажут английские и американские избиратели перед выборами? Нам надо было выстоять, а американцы делали политику и набивали на войне карманы. Америка вышла из войны в 1945 году единственной, кому все остальные страны коалиции были должны за поставки по ленд-лизу.
В госпитале Павел лежал уже не в первый раз. Первое время он отсыпался – всё-таки хорошо не подниматься по тревоге. В госпитале тепло, бельё чистое, кормят вовремя. А на фронте иногда бывало по три дня ничего не ели. Кухня то от наступающих войск отстанет, то под бомбёжку попадёт. И потому употребляли в пищу что придётся, зачастую перебиваясь трофеями, которые находили у немцев в блиндажах.
В госпитале Пашку беспокоило одно – он хотел после выписки в свой полк попасть. А с этим были проблемы.
У немцев возвращение после госпиталя или отпуска – даже после болезни – было чётко отлажено. Военнослужащий всегда возвращался в свою часть, свою батарею, свою роту, свой экипаж, поскольку боевую слаженность в расчёте или экипаже немцы ценили. Ведь члены того же танкового экипажа иногда понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда.
В Красной армии порядки были другие. После госпиталя можно было не то что в другой полк или другую часть – даже в другой род войск попасть.
– Самоходчик? Ага, с пушкой знаком. У нас наряд, в артиллерию служить пойдёшь.
Понаслушался Павел в госпитале рассказов раненых о том, кем им только ни приходилось воевать. И в пехоте, и миномётчиком, и ездовым в артиллерийской батарее. Только лётчики служили в ВВС, и то в свою часть, эскадрилью возвращались редко. После госпиталя – в запасной авиаполк, а там уж как повезёт.
Пашка по мере выздоровления даже подумывал сбежать из госпиталя и вернуться в свой полк. Только кто ему скажет, где сейчас его полк? А НКВД и СМЕРШ не дремлют, сцапают без документов, и живо в штрафбат угодишь.
Побоялся Пашка, дождался выписки. Одели его в госпитале в видавшее виды, но чистое пехотное обмундирование: гимнастёрка, галифе, ватник, ушанка и сапоги кирзовые – на два размера больше. Если помнить, что впереди зима – так это и неплохо, можно две пары портянок на ноги для тепла намотать.
Вот только определили Павла в запасной полк в пехоту. Вернее – с ним никто не разговаривал, просто зачитали фамилии по списку.
– Выходи строиться!
Названные бойцы построились в шеренгу. «Покупатель», как называли в запасном полку представителя фронтовых частей, повёл группу на вокзал. И уже на перроне Пашке повезло. Среди многих военных, однообразия армейской одежды мелькнуло знакомое лицо. Комбат!
Пашка рванулся к нему.
– Товарищ капитан!
Комбат удивлённо обернулся – кто может окликнуть его в чужом городе? Или обознались? Но Павла сразу узнал.
– Сазонов? Живой! Ты как здесь оказался?
– Меня из госпиталя выписали, в пехоту направляют.
– Как в пехоту? Не может быть!
– Я уже в команде.
– Пойдём, разберёмся.
«Покупатель», младший лейтенант, упёрся:
– У меня в команде двадцать человек по списку. Не дам!
– Да он самоходчик, – пытался убедить лейтенанта комбат, – у меня в батарее воевал. Десять танков уничтожил, награды есть, а ты его – в пехоту! У меня в экипажах некомплект!
Насчёт десяти танков, подбитых Пашкой на самоходке, комбат загнул для красного словца. Но если считать все танки, подбитые Пашкой на Т-34 и на самоходке, выходило даже больше.
– А у меня приказ и разнарядка! – горячился «покупатель».
– Ты пойми, младшой! Он у тебя с винтовкой бегать будет – сколько, ты думаешь, он из неё танков подобьёт? Для армии же лучше!
Препирались они минут десять, и спор прервал подошёдший эшелон. «Покупатель» махнул рукой, достал из командирской сумки солдатскую книжку Павла и отдал её комбату.
– Забирай, уговорил! Потому как не в тыл его везёшь, а танкистов я уважаю.
– Ну вот, другое дело! А то заладил – разнарядка, разнарядка… Свидимся ещё, земляк, земля – она круглая.
Члены Пашкиной группы – уже бывшей – по команде стали садиться в теплушку.
– Спасибо, товарищ капитан! Вы-то как здесь оказались?
– Тоже за пополнением.
Только комбат получал пополнение не из госпиталя или запасного полка, а из самоходно-артиллерийского училища.
Так Павел попал в свою батарею и даже в свой экипаж. Рад был: на новом месте привыкать надо, а здесь вокруг знакомые лица. И комбату благодарен – не всякий командир за подчинённого вступится.
На следующий же день он сбегал к старшине – получил комбинезон и шлемофон. А то как белая ворона, среди своих обмундированием отличается. И почувствовал себя дома.
Батарея тогда уже под Легницей стояла. На календаре ноябрь, в России уже снег и морозы, а здесь, в Польше, грязь и дождь срывается. В такую погоду выходить на улицу не хотелось, ватники и шапки намокали быстро и не грели.
В самоходке тоже было сыро, благо – электрики минимум, потому что двигатель дизельный. Аккумулятор и стартёр – вот и вся электрика. Да разве что радиостанция. У немцев с техникой проблем больше было: попала влага на высоковольтные провода к свечам – двигатели не заводятся, барахлят.
В такой вот мерзкий день, когда из-за мелкой мороси видимость была всего метров двести, взвод Куракина был придан на помощь пехоте. Добираться было недалеко – километров пять. Только дороги, разбитые тяжёлой гусеничной техникой, напоминали месиво.
Были в Польше дороги и с твёрдым покрытием – асфальтированные или выложенные булыжником, однако и им за войну досталось – все в ямах да воронках. А про сельские дороги вообще разговор особый.
В ноябре положение Первого Украинского фронта оставалось стабильным. Как говорили сводки Совинформбюро – наблюдались бои местного значения. Советские войска накапливали силы для наступления, а немцы укрепляли оборону. Ожесточённые бои шли южнее – в Чехословакии, Венгрии, Югославии.
Обе самоходки – куракинская и Павла – вышли на позиции, согласованные с пехотой. После миномётного и артиллерийского обстрела немецких траншей полковыми пушками пехота поднялась в атаку. Судя по тому, что атака была без поддержки танков, и в ней участвовал только один батальон, Павел предположил, что это всего лишь разведка боем – нужно было выявить и по возможности подавить огневые точки врага.
По рации Куракин передал приказ – следовать за пехотой, и сам двинулся к траншеям.
Самоходка Павла пошла метров на сто правее – на одном уровне.
Немцы открыли пулемётный огонь.
По пулемётным гнёздам тут же начали бить миномёты, пару раз с коротких остановок стреляла фугасными снарядами самоходка Павла.
Качнувшись, самоходка перевалила через нашу траншею и оказалась на нейтральной полосе, по которой перебежками передвигались наши бойцы.
Павел не отрывался от смотровых приборов. Подавить пулемёты – задача для него не самая важная, для этого есть полковые пушки ЗИС-З и миномёты. Для самоходчиков необходимо в первую очередь обнаружить противотанковые пушки или вкопанные в капониры танки. Ведь в первую очередь САУ создавалась как средство борьбы с танками, и большую часть боезапаса из имеющихся 48 выстрелов были именно бронебойные снаряды.
Павел смотрел на немецкую передовую. Наши пехотинцы уже преодолели половину «нейтралки». Он повернул голову влево и ужаснулся: самоходка Куракина с бортовым номером 789 горела. Пламя вырывалось из моторного отсека, а из распахнутых люков выбирались самоходчики – все четверо. Машине хана, но экипаж жив.
– Давай влево, там Куракина подбили, – скомандовал Павел Игорю.
Самоходка круто развернулась влево, но Куракин вскинул скрещённые руки. Понятно, запрещает. Потом он правой рукой стал показывать назад, за Пашкину самоходку. Павел понял сигнал командира, и по его спине пробежал холодок – ведь командир подавал знак, что сзади опасность.
– Разворачивай машину на сто восемьдесят градусов! – заорал он.
Самоходка резко, на месте крутанулась, и почти в тот же миг по броневой рубке справа раздался удар – как раз там, где находилась командирская башенка.
Павел с тревогой осмотрел рубку, но сквозного пробития не было.
– Все целы?
– Все.
Павел приник к смотровым приборам. Где же этот гад, что подбил самоходку командира и стрелял сейчас по нему? Ведь только резкий разворот самоходки спас её от попадания снаряда в корму, в мотор или в рубку сзади – там, где броневые листы тонкие.
– Командир, я его вижу! – закричал наводчик Анатолий.
Конечно, у него на прицеле оптика лучше.
– Левее по курсу двадцать! Выстрел!
Орудие самоходки выстрелило. Прямого попадания не получилось, но их снаряд сорвал с противника маскировочную сетку, и Павел разглядел характерную маску пушки, прозванную танкистами «кабаньей мордой» или «свиным рылом», и низкий силуэт.
Это была немецкая самоходка StuG III, имеющая в Красной армии название «Арт-Штурм» – противник очень сильный. Вооружена 75-миллиметровой пушкой – такой же, как на «Пантере», с боезапасом в 54 выстрела. Низкая – всего 1950 мм в высоту, что позволяло хорошо маскировать её на местности. Экипаж – 4 человека. Создана она была на шасси среднего танка T-III и весила 22 тонны при бронировании лба корпуса в 50 мм. Она унаследовала от своего прародителя узкие гусеницы и потому неважную проходимость. Выпускалась немцами с 1942 по 1945 год, и всего было выпущено всех модификаций 10,5 тысячи. На ней воевали многие немецкие асы, в том числе некоторое время Витман.
Павел мгновенно разглядел, что «Арт-Штурм» врыт в землю по уровень верхних катков. У всех самоходок узкий горизонтальный сектор обстрела, а тут ещё немец в неглубоком капонире, где не может развернуться корпусом.
– Игорь, давай зигзагом!
Самоходка шла вперёд, рывками смещаясь то влево, то вправо.
Немец выстрелил, и снаряд прошёл мимо.
– Тормози!
Самоходка резко остановилась, и следующий снаряд немца тоже прошёл мимо.
– Одиннадцать секунд! – закричал наводчик Анатолий.
– Молодец! – одобрил Павел. Именно столько времени прошло между выстрелами для того, чтобы перезарядить орудие, прицелиться и выстрелить. Очень хорошее время, стало быть, экипаж у немца подготовленный, выучка высокая.
– Считай дальше по ТПУ, – приказал Павел.
И как только Анатолий произнёс: «Десять», Павел приказал водителю:
– Вправо!
Самоходка резко взяла вправо. Немец снова выстрелил и снова промахнулся.
– Теперь гони вправо – полный ход! – Из-под гусениц полетели комья грязи.
Павел хотел вывести свою самоходку из сектора обстрела «Арт-Штурма» и, развернувшись, ударить ей в борт. Стрелять сейчас – значит промахнуться. Силуэт у немца низкий, да ещё и вкопана самоходка наполовину.
– Хорош, разворачивайся!
Самоходка, скользя траками по вязкой грязи, развернулась.
– Остановка! Толик, не подведи!
– Игорь, доверни влево десять! – закричал наводчик.
Самоходка дёрнулась корпусом влево, и, едва она замерла, грянул выстрел. Рядом с немцем взметнулась земля. Промах! Но командир немецкой самоходки уже осознал, в какое положение он попал. Сам он стрелять не может, противник – Павел – справа. Корпус не развернуть – мешает капонир.
И немец принял решение выбираться из капонира. Самоходка стала сдавать задним ходом, на виду показался весь её корпус.
У Павла было только мгновенье. Сейчас немец развернётся, и тогда – кто кого. Кто выстрелит первым и окажется точнее, того и победа. Надо опередить. Его пушка уже заряжена, только что клацнул затвор.
Павел сам приник к прицелу. До немца далеко, метров восемьсот, но для пушки Д5С это далеко не предел.
Он подвёл марку прицела прямо на рубку и нажал на спуск. В это время немец начал разворот, но не успел, секундочки ему не хватило.
– Заряжай! – закричал Павел: надо было успеть влепить в немца ещё снаряд. Но заряжающий Василий и без команды уже вогнал снаряд в казённик.
– Готово! – и выбросил гильзу в открытый люк.
После пяти-шести выстрелов из-за пороховых газов, сочившихся из гильз, в рубке обычно нечем было дышать, да и под ногами они мешались.
Павел увидел, что «Арт-Штурм» застыл на месте, но не загорелся. И тогда Павел влепил ему снаряд в лоб.
На этот раз из всех щелей немецкой самоходки повалил дым. Распахнулся люк, наружу выбрался один самоходчик и тут же упал на землю.
Самоходка вдруг вспыхнула сразу вся. Больше из «Арт-Штурм» не смог выбраться никто.
Павел перевёл дух. Противник ему попался сильный – и самоходка мощная, и экипаж опытный, а победили они всё-таки немца, хоть он замаскировался удачно и нанёс боковой удар.
Павел вспомнил о Куракине. Бой уже шёл на немецких позициях. Наша пехота смогла ворваться в первую траншею немцев и теперь остервенело дралась там. Через смотровые приборы Павел высматривал экипаж подбитой самоходки, но так и не увидел. «На обратном пути подберу», – решил он. Ведь бой продолжался, и он должен был быть там.
– Вперёд! – скомандовал Павел.
Самоходка рванулась вперёд. Но тут из дота во второй немецкой траншее стал бить пулемёт.
– Остановка!
Самоходка застыла на месте.
– Толик, давай!
Грянул выстрел, звякнула о пол дымящаяся стреляная гильза. От дота полетели брёвна и комья земли.
Самоходка ворвалась в первую траншею. Немного дальше, метрах в ста кипела рукопашная, мелькали наши и немецкие шлемы, серые шинели немцев, ватники и полушубки наших бойцов.
– Разворачивайся, круши траншею! – приказал Павел.
Самоходка шла над траншеей – одной гусеницей по краю её, обрушивая землю и заваливая тех, кто не успел выбраться из траншеи.
Немцы не выдержали – они стали выкарабкиваться из траншей и окопов и убегать в глубь своей обороны. Огонь из второй немецкой траншеи прекратился – боялись задеть своих.
– Разворачивайся, идём на немцев!
Самоходка крутанулась, завалив добрых четыре-пять метров траншеи, и двинулась вперёд. До второй линии было метров сто пятьдесят, и на полной скорости самоходка проскочила их за минуту.
Как Павел пожалел, что на самоходке не было курсового пулемёта! Перед ним мелькали спины убегавших немецких пехотинцев. Сейчас бы по ним пройтись хорошей очередью! Но пулемёт только трофейный МГ – стоит в углу рубки. Чтобы из него стрелять, надо открыть люк и высунуться едва ли не по пояс. Для немцев такая мишень – просто подарок. Он и огонь не успеет открыть, как его самого нашпигуют свинцом.
Но придумали же немцы выход на «Арт-Штурме». На первых сериях пулемёта там тоже не было, а пушка была короткоствольная. Потом немцы ствол удлинили с 24 калибров до 48 и поставили на крыше боевой рубки пулемёт с круговым обстрелом, управляющийся дистанционно, из рубки. Выручал он немцев здорово.
– Остановка! Толик, давай осколочными по траншее.
Наводчик выстрелил несколько раз по траншее, откуда вёлся автоматный и пулемётный огонь. Пули звонко били и по броне самоходки, только зря.
– Дави их! – приказал Павел. В смотровой прибор он видел, как сзади набегает наша пехота, одолев немцев в первой траншее. Для пехоты важна поддержка огнём и гусеницами.
Видя перед собой самоходку, осознавая её действенную помощь, бойцы рвались вперёд. И самоходка ворвалась на немецкие позиции – крушила стенки траншей, давила блиндажи и пулемётные гнёзда.
Внезапно она ухнула в какую-то яму и под ней что-то затрещало. Самоходчики послетали со своих мест.
– В яму какую-то угодили, – констатировал Павел. – Все живы?
– Все!
– Игорь, выбирайся!
Однако, несмотря на то что мотор ревел и гусеницы вращались, самоходка ни на шаг не сдвинулась с места.
– Во попали!
Павел приник к смотровым приборам. Только толку – никакого! С одной стороны ему было видно только небо, а с другой – земля.
По самоходке постучали прикладом.
– Эй, земляки, живы?
– Свои стучат, – сказал Игорь и открыл люк водителя.
Перед ним стоял молодой пехотинец с автоматом в руке.
– Как вас угораздило в блиндаж угодить? – спросил пехотинец.
Теперь уже и экипаж открыл люки на рубке. Прихватив автоматы, они выбрались.
Самоходка, проломив брёвна наката у большого блиндажа, рухнула туда кормовой частью. Пушка задралась вверх, как у зенитки, корпус стоял едва ли не под углом в сорок пять градусов.
– Ни фига себе! – удивился Павел. – Как контрэскарп получился. Но выбираться-то будем? Куракин подбит. Тягач вызывать надо.
Павел вызвал по рации комбата и доложил о том, что сгорела самоходка Куракина, но экипаж жив. Также он попросил выслать тягач, поскольку его машина провалилась в блиндаж, и сами они, своим ходом выбраться не могут.
– Будет тебе тягач, жди, – успокоил его комбат. – Конец связи.
Пехота ушла вперёд, а экипаж самоходки остался у беспомощной машины. Вот же ситуация! Техника исправна, но двигаться нельзя. Выскочит откуда-нибудь самоходка – вроде лёгкого «Мардера» – и конец. Расстреляет самоходку не спеша – ведь отпор дать нечем. Даже немецкие пехотинцы могут захватить её трофеем. Такие «подарки» в виде полностью исправной машины бывали не часто. И наши и немцы бросали иногда при отступлении исправную технику, если кончалось топливо – не толкать же её вручную?
Экипаж просидел у самоходки часа два, пока со стороны наших позиций не послышался рёв двигателя.
– Помощь едет, – обрадовался экипаж.
Однако, когда Павел присмотрелся к гусеничной машине, он опознал в ней немецкое штурмовое орудие «Мардер – III». Вот помяни чёрта, он и появится!
– Экипаж, взять гранаты из самоходки и приготовиться к отражению атаки!
Однако когда штурмовое орудие подошло поближе, Павел с экипажем разглядели сидящего на корпусе, впереди боевой рубки, Куракина. Он размахивал зажатым в руке шлемофоном.
У Павла отлегло от сердца.
Куракин спрыгнул с брони и подошёл к экипажу.
– О, гляди, какой аппарат!
– Где взяли?
– Трофей, целёхонек достался.
Куракин осмотрел самоходку Павла.
– Попробуем вытянуть.
Использование немецких танков и самоходок, захваченных в качестве трофеев, началось ещё в июне 1941 года, когда 34-я танковая дивизия 8-го мехкорпуса Юго-Западного фронта РККА подбила в одном бою сразу 12 танков. Поскольку они лишились хода, их использовали в качестве артиллерийских дотов. В сентябре 1941 года под Смоленском лейтенант Климов, выбравшись из своего подбитого танка, захватил немецкий StuG III и за один день подбил два танка, бронетранспортёр и две грузовые машины.
Ввиду больших потерь бронетанковой техники в конце 1941 года в Автобронетанковом управлении РККА был создан отдел эвакуации и сбора трофейной техники. За период с 1941 по 1944 год только один танкоремонтный завод № 8 отремонтировал 600 немецких танков и САУ. На немецкой технике воевала 121-я танковая бригада полковника Н. Н. Радиевича, 107-й отдельный танковый батальон Волховского фронта, 213-я танковая бригада. Понятно, что делалось это не от хорошей жизни или превосходства трофейных машин – были сложности со снабжением запасными частями, боеприпасами.
По этому же пути пошли и немцы. Трофейными советскими танками были вооружены батальоны и полки – даже в эсэсовских дивизиях.
Так же обстояли дела и с артиллерией.
Огни завели на крюки «усы» из толстого металлического троса. Разом взревели моторы САУ-85 и «Мардера». Усы натянулись, и медленно, с натугой самоходка выбралась из обрушенного блиндажа.
Экипаж и Куракин забрались внутрь рубки, и обе самоходки направились на батарею.
– Ты представляешь, Паша, – кричал Куракин, – только твоя самоходка в батарее и осталась. Два экипажа с машинами сгорели, другие, как и мой, успели выбраться. День сегодня неудачный!
В самоходке было шумно: ревел дизель, лязгали гусеницы, и приходилось кричать, чтобы услышать друг друга – ведь подключить лишний, пятый шлемофон в ТПУ было невозможно.
– Кому как! – прокричал в ответ Павел. – Мы «Арт-Штурм» сожгли подчистую.
– Видел я твой бой издалека, Паша. Хорошо провёл, грамотно; маневрировал и с борта в него ударил. Я комбату доложу.
Немецкая самоходка отставала, и пришлось сбросить ход. Как говорится – скорость каравана определяет скорость старого верблюда.
Вечером хоронили погибшие экипажи, и потому расходились мрачные. В батарее осталась одна самоходка и три безлошадных экипажа.
Если бы самоходки были просто подбиты, повреждены – их можно было бы отправить на танкоремонтный завод. Но боевые машины сгорели, расплавилось всё, в том числе и металл. Такие машины были годны разве что на переплавку.
Единственную уцелевшую самоходку передали в танковый полк, и «безлошадная» батарея убыла в тыл. А через несколько дней пришёл приказ: убыть в Свердловск, на Уралмашзавод – за новой техникой.
Солдаты обрадовались – хоть какой-то отдых от войны. К тому же хотелось вернуться, чтобы захватить Берлин, войти в столицу врага. Конец войны был близок – это чувствовали все, хотя враг был ещё силён.
Долго тряслись в теплушках. Зато мимо них, на фронт безостановочно громыхали поезда с новой техникой, молодыми солдатами. А их эшелон тащился и переформировался почти на каждой крупной станции.
Пока добирались до Волги, вокруг видели только сильно разрушенные города и сёла, выжженные деревни.
Павел наблюдал знакомые места – здесь ему приходилось воевать в 42-м году. А после, когда поезд пересёк Волгу, уж и вовсе родные места пошли. Так сердце защемило, так своих увидеть захотелось, тем более что до его родного города тут рукой подать. Но попробуй отстать от эшелона – вмиг запишут в дезертиры. А по законам военного времени за дезертирство наказание суровое, вплоть до расстрела.
На одной из станций Павел всё-таки отправил короткое письмо домой, в котором и было-то всего пять слов: «Мама, я жив, воюю. Жди». С фронта он не писал – ведь он теперь Сазонов, а не Стародуб. А по номеру полевой почты могут найти быстро.
После взрыва агитационной машины домой наверняка отправили похоронку, и теперь Павел хотел успокоить домашних.
Они добрались до Свердловска за неделю. Город был велик, а завод огромен. При заводе располагался запасной полк, где формировались самоходные артиллерийские полки. По мере получения с завода новенькой боевой техники они убывали на фронт.
Батарея пополнилась людьми, к вящему удовольствию комбата – фронтовиками, с боевым опытом. Кроме того, батарея влилась в отдельный самоходный полк.
Рядом с заводом находился полигон, прозванный и на заводе и в городе «Танковой дорогой».
После получения боевых машин экипажи здесь их обкатывали и пристреливали. Выявленные недостатки устранялись сразу же, на заводе.
К тому же самоходки получали не САУ-85, а новые – СУ-100. Собственно, они также базировались на шасси танка Т-34 и были очень похожи на СУ-85, но с более мощной пушкой Д10C. Они могли поражать «Пантеру» и «Тигра» на расстоянии до полутора километров. Однако, в связи с увеличением калибра орудия, снаряды выросли в размерах и весе, и теперь в боеукладке помещалось вместо 48, как у САУ-85, всего 34 снаряда.
Каждый день из ворот сборочного цеха выходили новые самоходки, полк вооружался, и через неделю был уже полностью укомплектован.
Из Горького прибыли новые грузовики для автотранспортной роты. На двух эшелонах, после торжественного построения и речей представителя завода и командира полка они убыли на фронт.
Теперь поезд шёл другой дорогой – через Пермь и Киров на Москву. Бойцы в теплушках гадали, куда повернёт поезд после столицы? Всем хотелось не на юг, к Венгрии или Румынии, а на запад, к Берлину.
И поезд направился на Польшу – через неё лежал путь к Германии.
Эшелоны шли один за одним, на станциях их скапливалось сразу до десятка. Солдаты с тревогой посматривали на небо, но там постоянно барражировали наши истребители. У немцев не хватало техники, людей, топлива, чтобы воевать, как в 41–42 годах. Да и немец пошёл совсем не тот. Павел ещё помнил немцев 42-го года – наглых, откормленных.
Тогда немецкие «мессеры» гонялись за одиноким грузовиком или даже солдатом.
Оба эшелона полка разгрузились в польском городке, на станции. Разгрузка заняла целый день – непросто было спустить с платформы по брёвнам тяжёлые машины.
Переночевав, они своим ходом двинулись к месту дислокации полка.
Колонна шла медленно, необкатанные двигатели держали 25–30 километров в час.
Остановились в большом польском селе на ночёвку. После ужина и проверки ходовой части все улеглись спать в домах польских крестьян. Дома были подобротнее российских, в основном каменные, а не деревянные.
А ночью, совсем рядом – рёв танкового мотора, шум, треск ломающегося дерева. Солдаты повскакивали, и в темноте сначала решили, что прорвались немцы. Прихватив оружие и обувшись, выбегали на улицу.
Оказалось, что в селе был сборный пункт для военнопленных немцев. Один из самоходчиков, бывший в карауле, узнал об этом. Накануне он получил письмо из родного села, в котором соседи написали ему, что вся его семья на Украине была зверски вырезана ОУНовцами за то, что их сын служит в Красной армии. Нервы у парня не выдержали, он забрался в самоходку, завёл её и начал крушить и ломать бревенчатый амбар, где содержались пленные немцы. Прежде чем его остановили, большую часть пленных он успел подавить гусеницами.
С трудом взобравшись на моторный отсек самоходки, открыли люк специальным ключом, и только тогда смогли её остановить. Люки на самоходке в бою задраивались на задвижки, и снаружи их можно было открыть только спецключом, имевшимся у ремонтно-эвакуационных служб.
Парня арестовали и передали в руки СМЕРШа – военной контрразведки, в ведении которой находились преступления, совершённые военнослужащими. О дальнейшей его судьбе ничего не было известно.
Были такие случаи. Уже в Германии, особенно в самом её начале, наши солдаты мародёрствовали, жгли немецкие дома, иногда убивали мирных жителей.
Советское подразделение заходило в маленький немецкий городок и становилось на постой, а через час то в одном, то в другом месте вспыхивали дома. Пожарники при приближении наших войск разбегались, и тушить пожары было некому.
Политотделы спохватились, начали проводить разъяснительную работу. Они объясняли, что наши войска пришли в Германию, в логово фашизма для того, чтобы выкорчевать, уничтожить нацизм, фашистскую идеологию, а не немцев как нацию. Активизировался СМЕРШ и НКВД.
После нескольких показательных расстрелов перед строем пойманных и осуждённых трибуналами убийц, мародёров и насильников волна бесчинств против мирного населения сошла на нет.
Конечно, душа солдата кипела от обиды и негодования, он желал отомстить. У него на Родине дома разрушены, голод, у многих семьи погибли. А что он видит в Германии? Чистенькие, ухоженные города с асфальтированными или мощёными улицами, каменные или кирпичные дома под красной черепицей. И в домах – приличная обстановка, телефоны, все удобства. В гараже рядом с домом – мотоцикл или автомашина.
Контраст был разительный. Наши люди даже до войны в массе своей так не жили. Для советского человека велосипед был роскошью, многие не имели часов – просыпались на работу по заводскому гудку. Потому на фронте с убитых или пленных немцев снимали часы – не столько для форса, сколько по необходимости. Как разведчику, артиллеристу или командиру можно без часов? Ведь и артподготовка и переход через линию фронта проводились в определённое, означенное время.