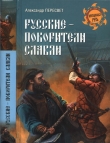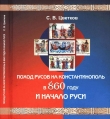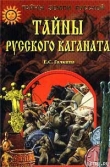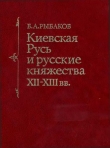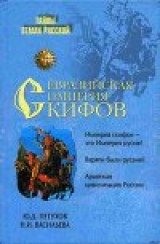
Текст книги "Евразийская империя скифов"
Автор книги: Юрий Петухов
Соавторы: Нина Васильева
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
Славяно-санскритский миф о солнечном герое Кришне, Данко – периодическом воплощении Логоса, приносящим себя в жертву, побеждающем силы мрака и освобождающем мир от накопившейся энтропии, миф, отраженный в египетской традиции, сохранил верность изначальному первоисточнику. Греческая же легенда о Прометее отражает представление о Логосе в вырожденной форме. Творческий акт, согласно этой легенде, произошел только один раз и не повторится более никогда; Прометей прикован к скале, и мир отдан во власть «тривиальных» богов, бодро ведущих его к окончательной гибели… Такое представление могло возникнуть только в умах цивилизации, вступившей на безнадежный путь разложения. Только новое проявление Логоса способно спасти ее.
Новое воплощение Логоса возможно при одном условии: при сохранении его образа в человеческих умах и сердцах. Собственно говоря, БОГ И ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ, что отражено даже в его названии: Логос, Слово. (Классическая формула: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»…) Именно поэтому теневые силы стараются замутить, исказить, утопить во многих грязных потоках чистую, правильную информацию, Истину – и вместе с тем Справедливость, то есть, говоря по-русски, ПРАВДУ.
Воплощение божественного начала в человека – главная тайна арийской религии. Образ Логоса и есть «образ человеческий», идеальный человек, каким он должен и может быть. Недаром Логос-Митра в ведической традиции имеет воплощение, имя которого – АРИАМАН, арийский человек; ему соответствует женская ипостась МАТЬ АРИЯ СВА (Матарисван). Основные свойства богочеловека-Ариамана ясны из его имени: это безграничные творческие способности, мужество, благородство, долг и честь. Свойства известные, поддержание их требует неимоверной затраты энергии; существование их в мире, заполненном самовозрастающей энтропией, можно объяснить только сверхъестественным источником…
Ариаман (богочеловек) есть не что иное, как информационный центр мира (Митры), его подобие – «свертка». Воплощение Логоса, периодическое возвращение образа Ариамана происходит в результате естественного эволюционного движения, Пути (Дао), в целой иерархии волн времени, в начале каждого нового цикла. Завершение циклического обращения «колеса времени» сопровождается всякий раз «пралайей», уничтожением старого мира и рождением нового, творцом которого и выступает Логос-Ариаман, передающий импульс божественной энергии и восстанавливающий «сброшенную» информацию на новом уровне.
4.2. Эпическое творчество
Древнейший скифский эпос и его отраженияИсторические события, описанные в «Илиаде», относятся к концу XIII в. до н. э., когда в результате каких-то событий в очередной раз погибла Троя, древний город на северо-западе Малой Азии. Падение Трои относится к эпохе войн в Восточном Средиземноморье, известных по египетским и другим источникам. В этих войнах участвовали «народы моря» (как называли их египтяне) или «филистимляне» (как называли их палестинцы), в которых можно узнать выходцев с севера Балкан и степей Северного Причерноморья. Фактически события в Средиземноморье в конце эпохи бронзы, приведшие к падению древних цивилизаций Южных Балкан, Малой Азии и Палестины были вызваны крупной миграцией киммерийцев из южнорусских степей.

«Илиада» отражает эту историческую реальность. Имя ее автора – «Гомер» – означает киммериец. Если поэма отражает войны эпохи поздней бронзы, то с чьей стороны? Ведь в результате этих войн в Греции закрепились пришельцы с севера (дорийцы), которые, собственно, и положили начало новой цивилизации. Не их ли исторический опыт и отражает «греческий эпос»?
В настоящее время принята концепция, что поэма Гомера восходит к «ахейским» временам, когда дорийцев в Греции еще не было. Якобы именно ахейцы и совершили знаменитый поход на Трою, а потом вдруг сами стали жертвой экспансии «варваров» с севера. Но это нереально! Слишком много свидетельств, что Троя пала не в локальной войне с соседями, но в результате глобального столкновения цивилизаций, охватившего все Восточное Средиземноморье.
Трою брали уже «новые греки», а не «старые ахейцы». Вернее, под ее стенами стояли потомки ахейцев, организованные новой военной элитой, прибывшей из степей Киммерии. Отсюда, кстати, в гомеровском эпосе и двойственное наименование осаждавших Трою – то АХЕЙЦАМИ, то ДАНАЙЦАМИ. Первое название относится к эпохе бронзы и известно из современных источников; еще малоазийские хетты именовали бассейн Эгейского моря страной «аххиява». Второе встречается только в гомеровском эпосе. Оно не употреблялось ни раньше, ни позже. Почему понятно: название «данайцы» образовано от слова «Дана», «Дон» – «река». Только одна река носит такое «прямое» название… ДАНАЙЦЫ гомеровского эпоса – то же, что и «танайцы», «танаиты», то есть ДОНЦЫ.
Автор опирался на устную народную традицию, представлявшую скорее всего цикл сказаний типа скандинавских саг или русских былин. И корни этой традиции уходили в киммерийские степи, откуда, с берегов Танаиса, и пришли сначала в Грецию, а затем и под стены Трои данайцы, то есть донцы. Недаром же автор поэмы назывался (или это псевдоним) Гомер, то есть Киммериец…
На северо-причерноморские корни гомеровского эпоса указывают и сообщения позднейших греческих авторов. Прежде всего, хорошо известно, что герои «Илиады» весьма почитались по берегам Понта Эвксинского – больше даже, чем в самой Греции. Культурным заимствованием этого объяснить нельзя. Одним из самых популярных в Северном Причерноморье издавна был культ Ахилла, главного героя «Илиады». В отличие от эллинов скифы его считали не «эпическим героем», но прямо богом. Ему возводились храмы и посвящались священные места. Одно из таких мест – «Ахиллов остров» напротив устья Дуная, – так описывает Флавий Арриан: «Если плыть от устья Истра [Дуная] под северным ветром в открытое море, на пути встречается остров… Говорят, что Фетида подняла этот остров из моря для своего сына и что на нем живет Ахилл. На этом острове есть храм Ахилла и его статуя старинной работы. Остров безлюден, на нем пасется лишь несколько коз, которых, как говорят, посвящают Ахиллу те, кто сюда пристает. Много приношений находится в храме: чаши, перстни, драгоценные камни. Все это благодарственные дары Ахиллу… Ахилл, говорят, является многим во сне: одним, когда они пристанут к острову, другим – когда они еще в море и находятся недалеко от острова. Он указывает, где лучше пристать к берегу и где стать на якорь»308.
И храм, и статуя, и дары были делом рук жителей северных берегов Черного моря, но не греков. И это только один, наиболее известный из храмов, были и другие. Неподалеку от Ольвии герою была посвящена песчаная коса – «Ахиллов бег», в городе и на ближайшем острове было воздвигнуто два храма. Гомеровский эпос в городах Причерноморья был хорошо известен. Дион Хрисостом, посетивший Ольвию в конце I в. н. э., так описывает местную «гомероманию»: «Все борисфениты питают к нему (Гомеру) особое пристрастие, вероятно потому, что они сами и в наше время воинственны, а может быть, вследствие их преклонения перед Ахиллом; они почитают его чрезвычайно и воздвигли ему храмы – один на острове, названном его именем, другой в городе. Поэтому они ни о ком другом, кроме Гомера, ничего и слышать не хотят. И хотя сами они говорят по-гречески не совсем правильно, поскольку они живут среди варваров, но «Илиаду» почти все знают наизусть»309.
Борисфениты, не умевшие правильно говорить по-гречески, знали наизусть Илиаду… При этом остальной греческой литературой они не интересовались. Граждане Ольвии – «борисфениты», были не греками, а местными жителями, скифами, подвергшимися влиянию греческой культуры. Это влияние было избирательным: скифы брали от греков то, что их предки сами когда-то тем передали.
В Северном Причерноморье Ахилла почитали особо, не приходится сомневаться в местном происхождении этого культа.
Прежде всего, само имя «Ахилл» – чисто скифское. В античной Греции этим именем не пользовались. Зато несколько скифских царей носили имена типа «Скил» или «Скилур». «Ахилл» и «Скил» – одно и то же, поскольку во многих языках индоевропейской группы звуки «х» и «кс» заменяемы (ср. чтение буквы «х» в русском и латыни), а также перестановки типа «кс»/ «ск». Получается цепочка: Ахилл – Аксил – Аскил – Скил (все формы известны из источников).
Лев Диакон Калойский (X в.) объясняет, почему Ахилл был столь почитаем в Скифии. Оказывается, «СЫН ПЕЛЕЯ АХИЛЛ БЫЛ СКИФОМ И ПРОИСХОДИЛ ИЗ ГОРОДКА ПОД НАЗВАНИЕМ МИРМИКИОН, ЛЕЖАЩЕГО У МЕОТИДСКОГО ОЗЕРА [Азовского моря]… Явными доказательствами [скифского происхождения Ахилла] служит покрой его накидки, скрепленной застежкой, привычка сражаться пешим, белокурые волосы, светло-синие глаза, сумасбродная раздражительность и жестокость»310.
Короче говоря, в глазах средневековых греков Ахилл представлялся «истинным арийцем», скифом с берегов Азовского моря… Но тот же Лев Диакон постоянно называл скифами или тавроскифами русских, оговариваясь, что название «скифы» более правильное, «научное». Кстати, он вспомнил про Ахилла, описывая дунайские походы Святослава Игоревича. Видимо, ситуация в чем-то была сходна с киммерийским вторжением XIII–XII вв. на Балканы… Колоритная: «Ахиллов плащ», накидка, застегнутая на одном плече или груди… такие плащи и в самом деле носили скифы; в средневековой Руси такие плащи назывались корзно, и князья одевали их вплоть до XVI в. Утверждение Льва Диакона, что эпический Ахилл был скифским, то есть русским, князем с берегов Меотиды, не одиноко. То же самое передают и другие авторы; так, Ахилла и его воинов-мирмидонян считал тавроскифами Евстафий Фессалоникский (XII в.). Атталиат (тоже автор XII в.) прямо отождествлял воинов Ахилла – мирмидонян – с русскими…311
Традиционной версии, приписывающей Ахиллу происхождение с севера Греции, из Фессалии, эти сообщения нисколько не противоречат, наоборот. Ведь именно с севера Балкан на юг и восток, в бассейн Эгеиды, в период Троянской войны и началось вторжение «новых греков», пришедших из южнорусских степей…
Большинство поздних греческих авторов связывали происхождение Ахилла и его мирмидонян с Боспорским царством Меотиды, среди городов которого с глубокой древности был известен Мирмикий (на Керченском полуострове). Но есть версия, признающая центром государства Ахилла времен Троянской войны город Танаис в устье Дона312. Она объясняет, почему военная элита, обновившая греческую цивилизацию в начале железного века, называлась данайцами, то есть – донцами…

Итак, Ахилл – знаменитый герой Троянской войны и основатель многих царских династий Эгеиды, согласно греческой традиции, был скифом с берегов Меотиды, из Крыма или же устья Дона. Нет никакого сомнения: до того, как обрести бессмертие в поэме Гомера, этот человек реально существовал; эпическое творчество основано на реальных исторических событиях и образах реальных лиц.
С другой стороны, эпос уходит корнями в мифологию; эпическое творчество и заключается в том, чтобы увидеть во временном и конкретном – вечное, божественное. Очевидно, в образе Ахилла (реального исторического деятеля) был воплощен древний арийский бог мужества и героизма, называемый в Ведах Индрой. На это указывает ключевое слово ахиллова мифа: его родной город – Мирмекий (муравьиный), его воины – мирмидоняне, «муравьиные люди»; сохранился также сюжет о происхождении мирмидонян от верховного бога Громовержца, принявшего образ муравья. Известно, что мотив превращения бога Индры (Громовержца) в муравья присутствует в Ригведе. С этим древнейшим мотивом и следует сопоставить легенду об Ахилле и его «муравьиных людях», а также мотив русских сказок об Иване-царевиче, который превращается в муравья, чтобы заползти сквозь трещину в Хрустальную Гору, логово Змея, и поразить его313.
Русские сказки объясняют символический смысл «муравьиного» образа Индры (уже не понятного ни в греческом, ни даже в индийском мифе). Для чего могучий бог-герой, повелитель светлого воинства, превращается в муравья – существо почти невидимое, находящееся на грани исчезновения? Ответ предельно прост и бесконечно сложен. Для того чтобы победить Змея, всевластного повелителя царства Тьмы, «князя мира сего», надо стать маленьким, очень маленьким, совсем незаметным. Только так, находясь вне системы (антисистемы), созданной Змеем, можно проникнуть внутрь и нанести смертельный удар…
В «Илиаде» образ Индры-муравья присутствует слабым воспоминанием, в названии ахилловых «мирмидонян», но зато блистательную разработку он получил в поэме Гомера «Одиссея». Здесь (9-я песнь) в образе Одиссея предстает светлый бог-воин, который, чтобы победить всемогущее зло, вынужден принять имя «Никто». «Никто» поражает одноглазого людоеда Полифема, воплощение повелителя Хаоса, в его единственное око. «НИКТО» ПОБЕДИЛ ТЕБЯ, ПОЛИФЕМ! Греческий эпос – результат взаимодействия двух цивилизаций, скифской и греческой. Скифам принадлежал исходный импульс, сами героические деяния, послужившие сюжетом произведения, основные образы, сюжет и его первая обработка. Греки завершили работу, придав эпическим поэмам завершенную классическую форму, ставшую образцом культуры на многие века.

«Отражения» скифского эпоса можно найти и в других местах, например в Индии. «Индоарии» пришли в Индию с берегов Волги и Урала через «промежуточный пункт», Среднюю Азию, в конце II тыс. до н. э., в то же самое время, когда киммерийцы двинулись с берегов Дона на Балканы. Так что возможно, что многие сюжеты Махабхараты и Рамаяны восходят еще к среднему и позднему бронзовому веку, ко временам Андроновской культуры, и сложились еще в скифских поселениях типа Синташты или Аркаима…
Русский средневековый эпос и его скифские корниСамый древний слой скифского эпоса заложен в сюжетной канве «Илиады». Более поздние эпические творения сохранились в устной традиции. Прежде всего, это русские былины, записанные на Крайнем Севере европейской части России в XVIII–XIX вв. В большинстве своем они хорошо известны и изучены; исследования показывают, что сквозь исторические реалии раннего Средневековья «просвечивают» более древние, относящиеся к сарматской эпохе.
Былины были созданы не на севере, а на юге России. Все их действие происходит в «чистом поле», от «моря синего» (Черного – Русского) до муромских лесов, от Киева и Чернигова до «гор Сорочинских», в которых следует видеть Кавказ (в Средневековье попавший в мусульманскую, сарацинскую, сферу влияния). Поражают и размеры былинного пространства. В качестве дальних границ Руси упоминаются: Волынский славный город (то есть Юмна-Волин в устье Одера), Корела проклятая и Индия богатая… Оказывается, былинная Русь простиралась «от финских хладных скал до пламенной Колхиды», да и еще дальше… Тем, кто считает «изначальную» Русь каким-то маленьким племенем, задвинутым глубоко в северные леса, место действия былин покажется невероятным… настолько, что утверждают: «если попытаться по данным былин нарисовать карту, она совершенно не совпала бы с картой подлинной»…314 В том-то и дело, что не с подлинной, а с фальсифицированной, подмененной картой.

Предполагалось, что былины были созданы после татарского нашествия и отражают историческую реальность XIII–XV вв.; новые исследования показали, что время создания русского средневекового эпоса следует отодвинуть на несколько столетий назад. Былины попали на Крайний Север не позднее XI в., вместе с первой волной новгородских переселенцев315. Это значит, что основное ядро русского средневекового эпоса было создано в дохристианскую эпоху; историческая рельность, отраженная в нем, соотносится с эпохой Хазарского каганата (VIII–X вв.)316. На это указывает и прямое упоминание «жидовинов» как врагов, сохранившееся в ряде былин.
Интересно, однако, что в былинах никогда не упоминаются собственно хазары как враги Руси и вообще как «нерусские». Достаточно вспомнить известный былинный сюжет о спасении сестры из плена, героем которого является Михайло Казарин: в нем нет ни малейшего намека, что этот богатырь, судя по имени, «лицо хазарской национальности», отличен от русских богатырей. Похоже, что русские и хазары сражались вместе, и у них был один общий враг… (Русские и русы-ассуры (хазары) были близкородственными родами суперэтноса. Ассуры привели с собой из Ассура-Руссы и «жидовинов» – русов-евреев, «белых евреев». Ну, а позже по протоптанной дороге к ним подтянулись и иудеи-раскольники финансово-ростовщических кланов; одновременно приходили тюрки. В результате Русская Хазария (Асурия) превратилась в русско-тюрко-иудейского «монстра», паразитирующего на торговых путях восток – запад. Князь Святослав решил эту проблему без обсуждений. Русских воинов Хазарии-Асурии он присоединил к своему войску. – Примеч. Ю. Д. Петухова.)
Один из вариантов былины утверждает, что Михайло Казарин родился «во Флоринском славном новом городе, у купца Петра гостя богатого»317, то есть, выходит – в Италии, во Флоренции. Оказывается, влияние русской Хазарии простиралось в раннем Средневековье и столь далеко на запад. (Венетские Венеция и Флоренция были городами-колониями русов-венетов – которых в древности звали «финикийцами». Но ростовщический «интернационал» работорговцев и менял уже перехватывал у русов рынки и базовые города, то же происходило на Балтике и на Немецком море. – Примеч. Ю. Д. Петухова.)
Основное ядро былин «киевского цикла» было создано в VIII–X вв., в Южной России – в «Русском поле» Причерноморья и Приазовья. Концентрация места действия вокруг Киева как центра государства в былинах возникла не ранее правления князя Владимира (который и является персонажем цикла) и принятия христианства.
Некоторые сохранившиеся былины прямо утверждают, что основным центром Южной России в «былинный» период было вовсе не Поднепровье, а Подонье. Так, в былине «Непра и Дон»318 соперничество двух южнорусских областей представлено как поединок богатыря и поляницы (всадницы-амазонки), причем мужское начало олицетворяет именно Дон, а женское – Днепр, то есть Непра.
В VIII–X вв. Подонье входило в область русо-аланской Салтово-Маяцкой культуры; именно это «пограничье», с его мощными белокаменными крепостями, и есть та «застава богатырская», о которой постоянно говорится в былинах… Но есть отражения и более древней, алано-сарматской эпохи. Геополитическая реальность, описанная в былинах, не вполне совпадает с тем, что нам известно о раннем Средневековье. Среднеазиатские и сибирские владения Великой Скифии русскими тогда были уже потеряны. А в былинах постоянно возникает образ степной Русской земли – «чистого поля» – протянувшегося от «Корелы проклятой» до… «Индии богатой»:
Лишь проехал добрый молодец Корелу проклятую,
Не доехал добрый молодец до Индии богатой,
И наехал добрый молодец на грязи на смоленские…319
Представление о «Русском поле», протянувшемся от Корелы до Индии, невероятно для эпохи Средневековья, но полностью совпадает с тем, что сообщают позднеантичные авторы о расселении сарматов: по Аммиану Марцеллину, в конце IV в. н. э. аланы занимали «бескрайние пустоши Скифии» вплоть до Ганга… Если учесть, что Валдайская возвышенность носила название Аланских гор, то формулировка «от Корелы до Индии» приобретает конкретный смысл.
На вопрос, какое отношение имело «Русское поле» (Великая Скифия) к Индии, наиболее полный и исчерпывающий ответ дает знаменитая былина о Вольге Всеславиче (или Волхе Святославиче). В былине как о чем-то обычном рассказывается, как князь Вольга со своей дружиной ходил походом на «Индейское царство»:
И пришли они к стене белокаменной.
Крепка стена белокаменна,
Вороты у города железные,
Крюки, засовы все медные,
Стоят караулы денны, мощны,
Стоит подворотня дорог рыбий зуб,
Мудрены вырезы вырезаны,
А и только в вырезу мурашу пройти320.
Одержав победу, Вольга в Индейском царстве «царем насел», женившись на местной царице и переженив дружину на местных женщинах… Таково происхождение «индоарийской» элиты.
Былина рассказывает о реальных событиях – это подтверждают детали, которые невозможно выдумать; чего стоит только описание затейливо-резных ворот крепости – характерная особенность индийской архитектуры. Интересно, что побежденный индийский царь называется в былине Санталом321, а санталы – это дравидийский (неарийский) народ, сохранившийся в Индии до сего дня в Бенгалии; до прихода ариев земли санталов были гораздо больше. Индийская царица, на которой женится «первый индоарий», русский эпический князь Вольга, зовется Панталовной… это имя преславной Драупади, героини эпоса уже не русского, но индийского. Согласно «Махабхарате», Драупади – царевна из рода Панчалов – действительно была первой царицей индоариев, обосновавшихся в новой столице Индрапрастхе (Дели), так что историческая основа русского и индийского эпосов вполне «совместима».
Трудно предположить, что автор былины о Вольге читал «Махабхарату». Скорее всего, русская былина есть «зародыш» Махабхараты, часть того древнейшего источника, на основе которого было впоследствии создано выдающееся произведение.
Индийская тема в русском эпосе не исчерпывается сказанием о Вольге. Прямое отношение к этой теме имеет былина о Дюке, в высшей степни занятная и стоящая в «Киевском цикле» особняком. Богатырь Дюк Степанович, родом из города Галича, прибывает в Киев. Здесь он вступает в спор с князем Владимиром и его дружиной и превосходит киевских богатырей в доблести, мужестве, благочестии. Описание в былине владений Дюка – богатой, религиозно-благочестивой и счастливой страны – очень напоминает легенду о «Беловодье», уходящую корнями в мифологию ариев.

Да есть я из города из Галича,
Из Волынь-земли из богатые,
Да из той Карелы из упрямые,
Да из той Сорочины из широкие,
Да из той Индеи богатые…322
В качестве «места жительства» Дюка названы все те земли, которые обычно выступают как периферия, крайние пределы «Русского поля». Не следует отождествлять «город Галич» из былины с известным Галичем в Прикарпатье, столицей Галицко-Волынского княжества. Этот Галич возвысился только в XII в., а былина намного древнее. И былинная «Волынь» тоже была расположена гораздо дальше; это древний город Волин-Юмна-Венета в устье Одера. География былины сводится к такому очертанию: от земли германских русов-варягов (Волин-Волынь) – до Крайнего Севера Восточно-Европейской равнины (Карела) – до Кавказа (Сорочинские горы) – и до Индии. Это и есть границы античной «Сарматии».
Имя героя былины понятно по-французски: «дюк» – это «герцог», правитель крупной области. Видимо, оно стало известно на Руси из кельтских источников, по линии связи с варяжской «Волынью». Однако Дюк прибывает не с кельтского запада, но с востока; в некоторых вариантах родиной Дюка названа Индия323. Описание его вотчины вполне совпадает с описаниями сказочной «земли Индийской», очень распространенными на Руси в Средние века324. Эти сказания имеют отчетливый характер социальной утопии; «Индийское царство» представляется в них как некое идеальное общество – богатое, справедливое, праведное. Такого же рода «сказания» (в том числе знаменитые предания о христианском теократическом государстве «попа Иоанна», расположенном будто бы в Индии) были популярны и в средневековой Европе.
Былина о Дюке не содержит мистики, она реалистична. Богатырь прибывает на Русь не из какой-то неведомой страны, а из соседней, хорошо знакомой Индии, которая, напомним, еще во II–IV в. н. э. находилась в сфере влияния Скифии-Сарматии. Дюк – представитель арийской элиты Индии («солнце-рожденных» династий раджпутов и маратхов, ведших родословную от «шакьев»-скифов), прибывающий на «историческую родину» после длительного разрыва связей в период Великого переселения народов.

Может быть, «город ГАЛИЧ», вотчина Дюка, это город ГАЛИУР в Северо-Западной Индии; именно этот регион испытал сильное влияние «шакья» (скифов) в период кушанской империи (I–IV вв. н. э.), при последнем взаимодействии Великой Скифии и Индии325.
Смысл былины о Дюке (и сказаний об Индийском царстве) – в сопоставлении «новой» русской знати с ее древним порождением, индоарийской элитой; и результаты сравнения оказываются не в пользу христианского Киева… Хотя в былине всячески подчеркивается благочестие Дюка, его «православие», речь идет о его верности древней арийской религии (православия в первоначальном, подлинном смысле слова), не замутненной влиянием семитских культов и «упадочных» концепций умирающего античного мира.
В кризисные времена культурное ядро, «код» цивилизации сохраняется лучше на периферии; национальная русская религия удержалась в Индии. Былина о Дюке и средневековые «утопии» об Индийском царстве есть ностальгия по утраченной арийской религии, указание на место, где она сохраняется, и откуда можно будет взять необходимую информацию для ее восстановления.
На юге России сохранились более древние эпические сказания, восходящие к сарматскому и скифскому периодам, к эпохе до Великого переселения. Долгое время эти сказания были недоступны исследователям – благодаря негласному запрету на все, что связывало современную Россию с Великой Скифией. Но теперь южнорусские эпические сказания, собранные Ю. П. Миролюбовым, возвратились на родину. Содержание этих сказов не оставляет сомнения, что крестьяне Южной-России еще в начале XX в. ощущали свою связь с древнейшим населением Великой Степи и считали своими прямыми предками скифов-сарматов; скифские курганы прямо назывались могилами древних русских царей. По «Сказам», древнейшая Русь была степным государством, жители которого занимались скотоводством; при этом они знали и земледелие, а также строили и города326. Центр был в низовьях Волги и Дона:
А и царство то (русское) по Волге сидит,
а и царство то по Дону лежит,
а оттуду до самого сонечка закату (Миролюбов, с. 111).
Можно отыскать немало подтверждений, что центр Древней Руси находился где-то между Нижним Доном и Северным Прикаспием. Так, в одной из былин, записанной не на севере, а в Симбирской губернии, говорится о русском Астраханском царстве:
Из сильного было царства Астраханского.
Жил-был тут князь Саур сын Ванидович.
Накопил он силушки себе многое множество,
Накопя он силушки, в поход пошел,
В поход пошел под три царства:
Под первое царство Латынское,
Под другое царство Литвинское,
Под третье царство Сорочинское327.
Сын царя Саура, выросший без отца (который воевал много лет и пропал без вести), выступает на его поиски с 40-тысячным войском; разгромив по дороге «Латынское» и «Литвинское» царства, он находит отца подневольным солдатом в царстве Сорочинском (у мусульман-сарацин), узнает его во время поединка и спасает. О чем речь в этой былине – уж не о скифо-сарматских ли войнах против Западной Европы (Латинской) и Передней Азии (Сарацинской)? А имя царя – Саур (Савр) не этноним ли Савромат?


В другом варианте былины, известном еще по сборнику Кирши Данилова, царь назван «Саулом Леванидовичем», а его царство «Алыберским»328. Враги Руси здесь названы как обычно татарами; сюжет изменен: как и в первом варианте, выросший сын ищет отца, но молодой царевич попадает в плен, и выручает его как раз отец. География русского «Алыберского царства» очень интересна:
Царь Саул Леванидович Поехал за море синее,
В дальну Орду, в Полувецку землю, Брать дани и невыплаты.
Оказывается, русскому царству была подвластна Орда – Половецкая земля, куда ехать надо «за море синее». Кроме Каспия, как понятно, никакого подходящего моря больше нет… Можно вспомнить также, что алыберы (ольберы) – это название одного из родов черниговско-северских «былей» (бояр). Очевидно, что в былине о царе Сауле (Савре) Половецкое поле и Центральная Россия (Черниговско-Северское княжество) рассматриваются как единое этнополитическое целое, уходящее корнями в эпоху савроматов.
В «Сказе про царя Панька» враги Руси названы гадяками; в этом названии нетрудно увидеть измененное имя «готы»329. Готская империя существовала с конца II по конец IV вв. н. э., охватывая часть севера Восточно-Европейской равнины, современную Украину, доходя на востоке до Дона; она подчинила себе значительную часть аланов-сарматов, но враждовала с аланами, которые сохранили независимое государство за Доном и по Волге. Время создания донских сказов можно датировать довольно точно. Другой сказ врагами Руси называет еще Скумирь и Кельчину. В последних нетрудно увидеть кельтов-кимров (Миролюбов, 190). Корни готской империи были не столько в Скандинавии, сколько в Центральной Европе, в соседстве с кельтами, которые могли принимать участие в походах с Рейна к Танаису. Город Танаис в низовьях Дона подвергся сильному разрушению в середине III в. н. э. (около 250 г.); как считают, он был взят готами во время одной из наиболее ожесточенных гото-аланских войн. Возможно, события именно этой войны получили отражение в «Сказе про царя Панька»:
И на утречко гадяки были, у самого Гуляй-града Руска,
и билися с ними прадеды наши, до последнего отбивалися,
а гадяки те изумлялися, и откуда та Русь силу берет…»
Царь Панько «гадяков всех разгонял в степи,
и сказал, что миру с ними не будет,
пока Русь живет, пока русские на земле своей дышать будут!
А и скоро царство то гадячее
от других соседей знищалось, и по том, по Донце загинуло,
а и сами они, гадяки, ушли, а Русь наша в степях осталась!330
Если в сказе «Про царя Панька» описаны войны русского (аланского) Волго-Донского царства с готами, бывшие во II–III вв., то «Сказ про Троян-царя» повествует о нашествии гуннов (370 г. н. э.). В нем говорится, что они «дошли до моря узкого, там заставились, а ставили себе город большой». Это миграция сарматов и ли скифов (с востока на запад); «узкое море» – Керченский пролив, а «город большой» – Пантикапей, столица Боспорского царства.
Долго там жили, да пришли другие,
люди чужие, на них напали, город разбили, разорили, сожгли,
а пошли тогда наши деды дедов на тот берег,
через море узкое на кубышках спасались…
Речь идет о падении Боспорского царства под натиском гуннов в 370 гг. Описание катастрофы, обрушившейся на скифское (русское) население Восточного Крыма после того, как гунны перешли Керченский пролив, соответствует действительности: крымские города были брошены жителями; как показали археологические раскопки, не удалось собрать даже самые необходимые вещи. Тогда же был разрушен второй раз Танаис, теперь уже навсегда…
«Сказ про царя Трояна» содержит вариант «легенды об основании Киева», отличный от летописи XI в. Три брата – символы трех «племен», трех этнических групп, а также системы троевластия: