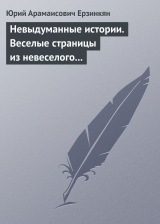
Текст книги "Невыдуманные истории. Веселые страницы из невеселого дневника кинорежиссера"
Автор книги: Юрий Ерзинкян
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Юрий Ерзинкян
Невыдуманные истории. Веселые страницы из невеселого дневника кинорежиссера
Жене Лилии -неизменному свидетелю невыдуманных историй
Как-то во время тоскливых ожиданий съемочной погоды, возник обычный в таких случаях долгий неторопливый разговор. Вспоминали веселые истории, интересные встречи, добрых людей, щедро одаренных талантом и юмором.
Случилось так, что в этот день мне вспомнилось больше, чем другим.
– Ты, попробуй, запиши все это, получится забавная книжка, – посоветовал кто-то.
– А если не получится?
– Ну и что? Ведь и с фильмами не всегда «получается».
Довод мне показался убедительным.
* * *
Из Одессы мы вылетели на рассвете.
Мы – это Грачья Нерсесович Нерсесян, художник Валентин Подпомогов и я.
В пути нас застигла гроза. Старенький, изрядно потрепанный ИЛ-14 кидало из стороны в сторону с отчаянной силой. Пассажиры, откинувшись на спинки сидений, дружно стонали.
Грачья Нерсесович чувствовал себя превосходно. Глаза его сверкали юношеским блеском. Он громко, на весь самолет, пел любимую «Санта Лючию», всем своим существом демонстрируя способность пребывать в «публичном одиночестве»…
В Сухуми прилетели с опозданием. В самолете что-то разладилось и его отдали во власть суетливых людей в засаленных комбинезонах.
Наскоро позавтракав, мы отправились кататься на лодке. Я и Валя сели за весла, а Грачья Нерсесович, удобно устроившись на корме, стал раскуривать глиняную трубку. Трубку эту он купил перед самым вылетом в аэропорту у старушки-молдаванки. Забыв, по-видимому, что это произошло на наших глазах (или не придавая этому значения), Грачья Нерсесович невозмутимо утверждал, что трубку ему подарил старый араб, с которым они якобы встречались сорок лет назад в Алеппо, и который научил его удивительной песне.
Лодка бесшумно скользила по зеркальной глади залива. Нерсесян молча курил свою трубку и задумчиво глядел вдаль.
– А знаешь, Нерсесович, во-он там Константинополь! – прервал его невеселые думы Валя Подпомогов.
– Да, да…
– Хочешь, махнем туда, поглядим что там делается? – всерьез предложил Валя.
Грачья Нерсесович оживился:
– А на самолет мы не опоздаем?
Он поглядел в сторону аэродрома, словно и впрямь хотел удостовериться в том, успеем ли мы вернуться к вылету самолета.
… В тот день, как и следовало ожидать, из Сухуми нас не выпустили. Заночевали в небольшом абхазском домике на сваях. Всю ночь не переставая лил дождь. Мы долго не могли уснуть. Грачья Нерсесович рассказывал удивительные истории. Слушая его, трудно было угадать, где правда, а где вымысел, рожденный безудержной фантазией.
Потом Грачья Нерсесович запел песню – протяжную песню, полную неутешной грусти – добрую песню старого араба.
Закончив песню, мастер, не глядя на нас, сказал:
– Не верите… Ни во что не верите… Ни в старого ара-
ба, ни в его трубку… Ни в то, что он научил меня песне. А песня существует, понимаете, су-ше-ству-ет!. .
Нерсесян очень похоже передразнил Валю:
– «Махнем в Константинополь…» Не умеете мечтать по-человечески, фантазировать…
Он с минуту помолчал, а потом с улыбкой добавил:
– А я вот этой ночью побываю в Константинополе…
Грачья Нерсесович лег, повернулся к стене и ушел с головой под одеяло. Я невольно подумал – кто знает, может именно в этом нерсесяновском свойстве разгадка могущества его таланта.
* * *
В 1959 году работали мы над фильмом «Голоса нашего квартала» по сценарию Перча Зейтунцяна.
Обстоятельства помешали фильму сложиться. А жаль, фильм, думается мне, мог стать событием в жизни студии. Мог, но не стал. Но не об этом сейчас речь.
В тот вечер, о котором я хочу рассказать, снимали мы один из особенно важных для картины эпизодов. Сцена, казавшаяся нам безупречной в литературной записи, никак не находила своего экранного воплощения. И когда мы испробовали все, как нам казалось, возможные ее решения, Перч неожиданно предложил:
– Вот тут у меня небольшой рассказ… Может попробуем его снять вместо злополучного эпизода?.. Совсем небольшой,
всего четыре страницы… Послушайте!
Он прочитал нам трогательную новеллу об ученике ремесленного училища, получившем свою первую зарплату, и сварливом, черством на первый взгляд, а на самом деле добром и отзывчивом старике, сумевшем понять и оценить значительность этого события.
Новелла всем понравилась.
Но кто сыграет старика?. .
Несмотря на поздний час, мы отправились к Нерсесяну.
Грачья Нерсесович еще не спал. Выслушав нас, он охотно согласился сразу же поехать на студию, при этом незаметно, для домашних понимающе подмигнул нам – ловко,' мол, вы это придумали. Оказавшись в адашине, Грачья Нерсесович весело рассмеялся:
– Здорово мы разыграли наших. Все были в полной уверенности, что вы на самом деле увозите меня на съемку.
Он торжествующе потирал в ладонях четки:
– Куда мы едем? К кому?
– Как куда? Мы же сказали – на съемку!
Так снялся в одной из своих последних и, на мой взгляд, самых значительных ролей Грачья Нерсесян.
* * *
Как-то перед съемкой я спросил у Нерсесяна, что он думает об одном из эпизодов фильма, как ему представляется его решение.
Грачья Нерсесович неопределенно пожал плечами.
– И все-таки, что ты намереваешься делать в кадре?
Мастер улыбнулся:
– У сороконожки, говорят, спросили что происходит с ее тридцать второй ногой в то время, когда ее девятая нога делает шаг вперед. Сороконожка задумалась и…разучилась ходить.
* * *
Осенью сорок первого в театре Сундукяна состоялась премьера патриотической пьесы, не помню теперь, как она называлась. Роль немецкого офицера была поручена Грачья Нерсесяну.
В середине первого акта на сцену вышел Нерсесян в форме нациста. И тогда произошло невероятное. Зал взорвался аплодисментами. Зрители дружно приветствовали любимого артиста. И так каждый раз, на каждом спектакле. Лютая ненависть к фашистам не мешала зрителям встречать каждый выход Нерсесяна (пусть даже в эсэсовском мундире) бурными, долго несмолкающими аплодисментами.
Эта фанатичная любовь к артисту возымела свое действие – Нерсесяна сняли с роли.
* * *
Не помню как это случилось, то ли Грачья Нерсесович что-то недополучил по договору, то ли увеличился объем роли и ему причитался дополнительный гонорар. Словом, получил он деньги «неучтенные» Алван (так звали жену мастера).
– Есть предложение. Едем на вокзал, в хинкальную…
Спорить с Нерсесяном в подобных случаях было бесполезно.
В хинкальной Грачья Нерсесович обнаружил, что денег нет. Видимо, он выронил их в пути. Трудно было допустить, что деньги украли – популярность Нерсесяна была «общенародной» (в том числе и у карманников).
Потеря эта, впрочем, нисколько не огорчила Грачья Нерсесовича:
– Денег дома не ждут, значит скандал не предвидится. А что касается хинкали – какое имеет значение, кто за них заплатит…
Где-то за полночь Нерсесян добрался домой. Жена встретила его «подозрительно приветливо».
– Деньги получил?
Нерсесян насторожился:
– Помилуй, какие?. . До зарплаты десять дней…
– Деньги, говоришь, не получал?. . А это что?!
Алван швырнула на стол пачку ассигнаций. Этого никак не мог ждать Грачья Нерсесович.
И снова подвела популярность. Заботливые карманники, видимо, опасаясь, что и в их среде найдутся «нечестные», выкрали у Нерсесяна «плохо лежащие» деньги и… принесли жене.
* * *
Близились к концу съемки фильма «Второй караван».
На студии «Грузия-фильм» снимали мы эпизоды картины с участием Грачья Нерсесяна.
Бекназаров нервничал, спешил. Один за другим закрывались фильмы. Амо Иванович понимал, что этой участи не избежать и нашей картине.
И, как на грех, запил Нерсесян.
Бекназаров поручил мне, как он выразился, «негласный надзор» за Грачья Нерсесовичем. Поселил нас в одном номере. Я не сводил глаз с мастера.
Каждое утро, после «безалкогольной» ночи, мы с Грачья Нерсесовичем завтракали в буфете гостиницы и, не заходя в номер, отправлялись на студию. Где обнаруживалось, что… Нерсесян пьян. Каким образом он умудрялся напиться? Когда? Я ни на минуту не оставлял его одного, а при мне он не прикасался к спиртному.
Разгадка пришла сама собой. На следующее утро, во время завтрака, я заметил, что с моего стакана чая поднимается пар, а с нерсесяновского – нет.
Как выяснилось, Грачья Нерсесович договорился с официантом, чтобы тот приносил ему вместо чая коньяк.
Так дурачил меня Нерсесян в течение нескольких дней.
* * *
В 1957 году это было. В один из субботних вечеров в театре Сундукяна был объявлен спектакль «Живой труп» с участием Ваграма Камеровича Папазяна.
Но в седьмом часу вечера в кабинете директора раздался телефонный звонок. Взволнованный женский голос сообщил, что Папазян внезапно заболел.
До начала спектакля оставалось немногим больше часа, нужно было принимать срочные меры.
Правда, роль Протасова кроме Папазяна играли Вагаршян, Нерсесян и Джанибекян. Но кто из них согласится заменить Ваграма Камеровича Папазяна? Как отнесутся к этой замене зрители?..
Вагарш Богданович, как и следовало ожидать, отказался, сославшись на простуду.
Отказался и Джанибекян.
Нерсесяна разыскали на киностудии. Грачья Нерсесович только отснялся в сложном, трудоемком эпизоде. Снимали тогда «Песню первой любви».
Мастер очень устал, и…
Всю дорогу в театр Грачья Нерсесович ругал себя за «непозволительную мягкотелость», «идиотскую сговорчивость»…
Придя в театр он поспешно оделся, загримировался и включил репродуктор внутренней радиосети. Он заметно волновался. В репродукторе приглушенно и, как казалось Грачья Нерсесовичу, «подозрительно тревожно» гудел, переполненный до отказа зал.
И вот, знакомый бас Давида Мелкумовича Маляна сообщил о вынужденной замене.
Произошло непредвиденное. Во всяком случае то, чего никак не ждал Нерсесян.
Зал потряс грохот аплодисментов. Зрители долго, дружно скандировали – Нер-се-сян!.. Нер-се-сян!.. Нер-се-сян!..
Никогда не играл так Протасова Грачья Нерсесович, никогда – ни до, ни после того субботнего вечера осенью 1957 года.
* * *
В суровом военном сорок четвертом мне посчастливилось в течение года находиться в творческом соприкосновении с замечательным кинорежиссером Борисом Васильевичем Барнетом – быть в числе его учеников, единомышленников, друзей…
Снимал Борис Васильевич тогда, в сорок четвертом, фильм «Однажды ночью». Пожалуй, первым, нарушая сложившиеся традиции, Барнет попытался рассказать о войне, о нравственных особенностях советского патриотизма тихим, задумчивым, чуть грустным голосом. И, вероятно, поэтому фильм «Однажды ночью» не сразу был оценен по достоинству.
О Барнете в те годы в кинематографических кругах рассказывали легенды. Его считали режиссером исключительным, необыкновенным, даже гениальным…
Сергей Михайлович Эйзенштейн шутил:
– У нас на Руси три царя – Царь-Колокол, Царь-Пушка и… Царь-Режиссер – Борис Барнет.
Барнет был удивительно красив и гармоничен.
Гигантская, плотно сколоченная фигура атлета. Большая, красивая голова. Высокий лоб, правильный, с чуть раздутыми ноздрями, нос. Удивительные глаза – то задорно-сияющие, то лукавые, то печальные…
Барнет был человеком большой и сложной культуры – необыкновенной одаренности. Одаренности синтетической. Он был равно талантлив в литературе, живописи, актерском искусстве…
Барнет был неисправимым мечтателем. За ним незаслуженно утвердилась слава человека легкомысленного – репутация фантазера.
“Легкомыслие» Барнета заключалось в «неразборчивой» любви ко всему живому, броскому, неординарному – нарушающему сложившиеся представления о «солидности» и «добропорядочности» .
«Бесхарактерность» – в покорности «превратностям режиссерской судьбы», во «всеядности», которая порой приводила беспокойного художника к неудачам.
Барнет бесконечно любил жизнь. Любил страстно, активно – во всех ее проявлениях. Любил живопись и спорт, поэзию и женщин, кинематограф и скачки…
Все его картины были рождены жизнью.
Все они утверждают, прославляют жизнь.
* * *
…Встречали мы Барнета всей съемочной группой. Не терпелось увидеть прославленного режиссера.
Из обшарпанного, скрипучего «международного» вагона вышел высокий, широкоплечий, красивый человек средних лет. Он, как нам показалось, был не по времени франтоват. Весь в «кремово-белом», тщательно отутюженном. В руках держал небольшой фибровый чемодан с «заграничными» наклей-ка7-:и, трость.
Он по-дружески обнял каждого из нас и, не церемонясь, спросил:
– Друзья! Где можно выпить?. . И хорошо бы, без проволочки… А в гостиницу мы всегда успеем…
Мы – я, художник Эдуард Исабекян, журналист Сисон Мартиросян, водитель машины Спирт-Галуст (он должным образом оценил «мудрое» предложение режиссера) и… Барнет тут же отправились в «фирменную» забегаловку на улице Абовяна.
Неопрятный дощатый павильон был до отказа набит подвыпившими, громко галдящими, небритыми завсегдатаями заведения. Барнет в своем светлом плаще, фетровой шляпе с тростью в руках выглядел здесь «белой вороной».
С помощью локтей, мы протиснулись к стойке. Буфетчик, не глядя, протянул нам по пол-литровой банке мутного, горьковато-сладкого портвейна.
Барнет был в восторге, после «безалкогольной» Москвы
он вдруг оказался в «портвейновом раю».
… Опорожнив очередную банку портвейна, Эдик Исабе-кян заспорил с пьяным соседом. Сосед, недолго думая, «врезал» банкой Эдику в скулу. Эдик взвыл от боли. По лицу его растеклись струйки крови, смешиваясь с портвейном. Завязалась пьяная драка.
Барнет не спеша снял плащ, шляпу, отложил в сторону трость. В «боксерской стойке» нанес «смутьянам» нокаутные удары. Трое верзил, словно мешки набитые песком, грохнулись на грязный, прогнивший пол, перепуганные «дружки» кинулись врассыпную.
Борис Васильевич вышел на улицу, разыскал милиционера.
– Вот тут, эти… подонки… Пришлось утихомирить… – Барнет кивнул на верзил.
Блюститель порядка мгновенно проникся уважением к «мощному режиссеру», выволок парней и, с помощью восхищенных зевак, погрузил их на патрульный «Джипп».
* * *
Каждую неделю Борис Васильевич устраивал у себя «литературные пятницы». На этих «пятницах» мы впервые услышали о Гумилеве, Цветаевой, Мандельштаме. Услышали об Исааке Бабеле.
Долгие вечера Борис Васильевич читал нам, своим картавым басом, стихи удивительных поэтов, рукописи одесских
рассказов Бабеля. Рукописи замечательного писателя он свято хранил, в надежде на «лучшие времена»…
Читал нам Барнет эти откровения в годы, когда даже само упоминание этих имен могло навлечь беду.
Как-то, прощаясь, Борис Васильевич, не глядя на нас, сказал:
– Друзья, я понимаю, чем грозят эти чтения… стоит ко-му-либо из вас… из нас…
Барнет помолчал.
– Пусть будет, что будет… но вы должны знать… Обязаны знать, что существовало подобное чудо – оклеветанное, оплеванное, упрятанное за решетку…
* * *
На роль лейтенанта Христофорова Барнет пригласил Бориса Андреева. Снимался тогда Борис в Батуми, в фильме режиссера Мачерета – «Я – черноморец».
Несмотря на согласие Андреев все не приезжал. Не отвечал и на настойчивые телеграммы. Барнет стал подумывать о замене. И тогда, к всеобщей радости, от Андреева пришла телеграмма:
«Вылетаю сегодня тбилисским зпт встречайте тчк Борис».
Барнет, будучи хорошо знаком с «образом жизни» артиста, приволок в гостиницу бочонок с мутно-рыжим портвейном, запасся виноградным самогоном, которым бойко торговал швейцар «Интуриста» – «профессор Кероб».
Борис приехал не один, с женой Галей и дочкой Галишкой.
Против обыкновения он был мрачен и неразговорчив. Не прикоснулся ни к портвейну, ни к водке. Что вызывало крайнее удивление и «паническую озабоченность» Барнета.
На наши вопросы Борис не отвечал, упрямо отмалчивался. При этом бормотал себе под нос что-то невнятное, похожее на молитву…
На пятый день, уступив нашим уговорам, Борис рассказал, что приключилось с ним в Батуми:
– Встретили меня торжественно, всей подвыпившей съемочной группой. Сокрушались, что опоздал, съемки, мол, задерживаются …
Поселили в пустующей гостинице на окраине Батуми, вблизи городского кладбища. Снабдили водкой и… напрочь забыли о моем существовании. Поначалу я был рад этому. Отоспался. Потом… запил. Пил в одиночестве. Остервенело. Без закуски (откуда ей взяться?).
Три дня и три ночи блаженствовал. Дорвался до «бесконтрольности» (Галя осталась в Тбилиси) и… водки.
Четвертой ночью мне почудилось, что кто-то зовет о помощи. Крик, как мне показалось, доносился с кладбища.
Я тут же «догадался» – по ошибке похоронили живого. Заснул, несчастный, летаргическим сном, а родные решили – помер… А тот проснулся и, понятно, вопит благим матом…
Опрокинул я, для храбрости, стакан водки и на кладбище.
Бежал, как очумелый, разбрызгивая лужи, увязая в грязи – вторые сутки, не переставая, шел проливной дождь.
На кладбище я разыскал свежую могилу. Прижался ухом к мокрой насыпи и «услышал» сдавленный стон.
Разыскал кирку, лопату и стал лихорадочно откапывать «заживо погребенного». Копал, пока не свалился на откопанный краешек гроба и заснул тяжким, беспокойным сном.
Очнулся от ощущения, что тону, захлебываюсь.
В могилу, мутным потоком, устремились ливневые дожди, заполняя ее до краев. Отчаянно ныла грудь – меня придавило крышкой гроба. Рядом «плескалась» старушка-покойница.
Нечеловеческими усилиями я выбрался из могилы, и…
Утром меня, мечущегося в белой горячке, увезли в «психушку». К счастью, как это случалось и раньше, я скоро «отошел»…
Вот и вся история, грустно улыбнувшись, закончил свой невеселый рассказ Борис.
* * *
Ростов встретил нас зловещей тишинои комендантского часа, леденящим светом маскировок, отсутствием тепла, еды и… водки.
Последнее особенно огорчало Барнета.
И вот, однажды, к своей неописуемой радости, Борис Васильевич обнаружил в аптеке на Буденовском довоенные залежи «Пантокрина».
По утверждению инструкции, несколько капель этого чудодейственного препарата способны избавить «от половой слабости и сексуального безразличия».
Конечно же не эти свойства препарата привели в восторг Барнета, а то, что настоен он был на чистом спирту.
Борис Васильевич приволок в гостиницу несколко ящиков «Пантокрина». Пили мы, тогда молодые здоровые парни, эту дьявольскую микстуру по несколько флаконов в день.
Нетрудно представить, что следовало за этим…
* * *
Это была первая «забегаловка» в освобожденном Ростове. В ней согласно объявлению, нацарапанному на сером, с кусочками древесины, картоне, можно было получить «сто граммов в одни руки».
К наспех сколоченной будке, с небольшим, зияющим чернотой, отверстием тянулась длинная, раскачивающаяся из стороны в сторону, шумногалдяшая, пьяная очередь. Опрокинув стопку, очередной охотник «надраться» тут же пристраивался к концу очереди…
Как-то после съемки мы с Барнетом оказались у «забегаловки». Выпив положенные сто граммов, Барнет потянулся к карману. Под плащом блеснули «Железные кресты» (Барнет снимался в своем фильме в роли фашистского генерала – Бальца).
«Кресты» не ускользнули от внимания «бдительного» будочника. Он дружески подмигнул Борису Васильевичу и, бесцеремонно захлопнув дверцу отверстая перед самым носом очередного «жаждущего», пригласил нас в кишку-подсобку.
– Вижу вы люди хорошие, – сказал он, ставя на стол зеленую бутылку с невзрачной этикеткой и редкостную в те времена закуску – соленый, дурно пахнущий огурец.
Будочник выскользнул из подсобки и… запер нас на замок. Будучи в полной уверенности, что «застукал важную птицу» (тогда такое случалось нередко), он помчался в комендатуру-
Поняв, что будочник принял нас за «фрицев», мы громко рассмеялись.
Барнет раскупорил бутылку:
– Пей. Разберутся – отберут.
Не прошло и десяти минут, как будочник вернулся в сопровождении юного, безусого лейтенанта и двух автоматчиков. Скрываясь за их спинами, парень кивнул в нашу сторону:
– Вот они, братцы, хватайте!
Лейтенант подскочил к Барнету и резко распахнул плащ. «Кресты» на груди Барнета сверкнули эмалевым блеском.
Сопровождающие лейтенанта солдаты вздернули автоматы.
Обстановка становилась угрожающей. Пора было кончать комедию. Борис Васильевич протянул лейтенанту удостоверение личности. Взглянув на него с явным недоверием и, как мне показалось, с некоторым разочарованием, лейтенант, посоветовавшись с автоматчиками решил «для порядка» отвести нас в комендатуру, где и закончилась эта забавная история.
* * *
Шли заключительные съемки фильма «Однажды ночью». Снимали неделями не выходя из павильона. Как всегда бывает в кино, «поджимали» сроки. Группа изнемогала от усталости и, несмотря на дьявольские перегрузки, трудилась «в поте лица».
В ночь на новый, сорок пятый год силы окончательно покинули «барнетовцев». Съемочная группа в полном составе… уснула «на рабочем месте». Уснули у «пятисоток» осветители. У камеры – оператор Сергей Геворкян со своими ассистентами. Спали артиста – Ирина Радченко, Борис Андреев, Иван Кузнецов, Николай Дупак…
Спали гримеры, «звуковики», ассистенты режиссера…
Спал, прижав к груди винтовки, оружейник «лейтенант Вовочка».
Без пятнадцати двенадцать нас пулеметной очередью разбудил Барнет. Он умудрился один, без чьей-либо помощи, накрыть по тем временам роскошный стол.
Веселье длилось до самого рассвета. Произносились тосты «мирного времени». Пели «полублатные» песни, которым нас выучил Веня Кузнецов…
А утром снова прозвучала привычная «картавая» команда
– «Мотор!»
* * *
Массивные стенные часы (приданое Ларисы Орданской
– именно она в том году была женой Барнета) пробили полночь.
Все, что можно было выпить, еще час назад было выпито. Кто-то сбегал на Киевский вокзал, но, как и следовало ожидать, вернулся без водки.
Воцарилось тягостное молчание.
За стеклом буфета маячила, дразнила своим ослепительным спиртным блеском огромная бутыль, в которой плавали рыжие ветвистые корни.
Взоры всех присутствующих были прикованы к буфету.
– Женьшень, сами понимаете, корень жизни… Ларискина затея… – неуверенно сопротивлялся Борис Васильевич.
Все обреченно молчали. Ждали.
Удручающую неловкость нарушил Алексей Денисович Дикий:
– Так что, Боря?. . Мы пошли, или как?. . – кивнул он на бутыль.
– По-о-жалуй, по-ойдем… – вздохнул Игорь Савченко.
Барнет прошелся по комнате. Поглядел в окно на гололед
мостовой. Потом решительно направился к буфету. Разлил содержимое бутыли по рюмкам. Извлек корень женьшеня.
– Отличная закуска, – подмигнул он повеселевшим друзьям. – Представляю, как разозлится Лариса… И поделом – пусть не занимается глупостями.
* * *
Новый 1948 год я и писатель Михаил Шатирян встречали в Москве, в доме Бориса Васильевича. В ту памятную ночь было произнесено множество достойных тостов. Выпито огромное количество коньяка. И, когда были исчерпаны все тосты и выпит весь коньяк, Барнет запальчиво заспорил с Ша-тиряном. Тот пытался отстаивать сюжетные ходы нашего сценария. Борис Васильевич громил их со страшной силой, рушил, как карточные домики. Умел он это делать с необыкновенной «доказательностью» даже тогда, когда был неправ (как мне кажется, и в этом случае – сценарий явно этого не заслуживал).
В третьем часу Алла Александровна (супруга Барнета) собралась спать:
– Боря, не забудь утром купить молоко Ленке, мне не проснуться.
Барнет молча кивнул ей и, когда жена скрылась за дверью, облегченно вздохнул. Извлек из-за томиков Чехова «заначенную» бутылку. Разлил коньяк по рюмкам с аптекарской точностью (это, пожалуй, единственное, что делал он с подобной дотошностью).
А потом… выяснилось, что «заначена» не одна бутылка…
На рассвете Борис Васильевич пошел провожать нас к Киевскому метро.
– Я, это… за молоком… Алла велела, тут ничего не поделаешь… – словно оправдываясь, сказал он. И надо же было случиться такому.
Навстречу нам в предутреннем тумане ползла тучная кривоногая корова. За ней еле поспевал большеголовый теленок.
Барнет, не раздумывая, устремился к хозяину коровы, который, спешил на новогоднюю ярмарку.
– Сколько пол-литров дает эта особа? (излюбленная емкость Барнета) Почем корова?. . Без теленка, конечно, им обоим в ванной не хватит места, – скороговоркой выпалил Борис Васильевич тщедушному человеку в ватнике.
Тот затянулся самокруткой и промычал сквозь зубы:
– Ни-и… Без теленка не пойдеть… Как это без его можно?. . Без его нельзя…
Мы молча наблюдали за этим неожиданным торгом. Спорить с Барнетом в подобных случаях (впрочем, как и во всех других) было бесполезно.
… К тому времени, когда Борис Васильевич приволок корову к себе на Можайку, огромный, многоэтажный дом кинематографистов еще не спал.
На балконы своих квартир высыпали соседи, друзья – Галя и Борис Андреевы, Игорь Савченко, Столперы, Алексей Дикий, Иван Пырьев и Марина Ладынина…
Приученные к «художествам» Барнета, они шумно галдели
– советовали, как сподручнее втолкнуть корову в лифт.
– Ты, пле-е-чом… Плечом подто-олкни… Коро-ову, а по-о-том телку… – по пояс свесившись с балкона, заикался Савченко.
Почти час потребовался на то, чтобы Барнет убедился в том, что корову (даже ему – Барнету) на седьмой этаж не поднять.
Борис Васильевич махнул рукой и, сопровождаемый шутками и смехом окружающих, отправился к себе отсыпаться, оставив корову и теленка на наше попечение.
Злополучную корову и ее пучеглазого отпрыска в тот же день за полцены сбыл на «Скотном базаре» друг наш, кинорежиссер Генрих Оганесян – по самоличному признанию «понимающий толк в подобных деликатных акциях». К ним он, мол, «с детства приучен»…
* * *
В сорок девятом это было. Мне поручили самостоятельную постановку полнометражного художественного фильма. Нетрудно представить мое воодушевление и радость. В те годы дебют молодого режиссера в «большом кинематографе» был событием почти невероятным.
Барнет охотно согласился прочитать сценарий. Обещал с помощью «могучих связей» утвердить его в министерстве кинематографии.
Спустя два дня я позвонил Борису Васильевичу.
– Могу тебя обрадовать, я все уладил, – картаво пробасил в трубку Барнет.
Я тут же помчался в министерство.
Большаков принял меня сразу (видимо, сработали «могучие связи»).
– Барнет прав, сценарий никудышный. Он решительно непригоден для вашего дебюта, – сказал Иван Григорьевич…
По-своему истолковав мою растерянность, министр добавил: |
– Не волнуйтесь. Сценарий мы отклоним – это избавит вас от неприятных объяснений с вашим руководством.
* * *
… Пил Барнет всю ночь напролет. Пил «по-черному». В мрачном одиночестве. Не оказалось рядом даже Михеича, неизменного свидетеля пьяных, бессонных ночей.
Сохранилась запись-до боли знакомые слова – «Не пей!»
… Строки разных лет – фразы из писем, подписи под рисунками, дарственные надписи на фотографиях.
Рисунок, сделанный в сорок четвертом, в Ереване. Мой портрет. Текст на лицевой и оборотной стороне листа:
«Дорогой, хороший Юрик! Этот плохой рисунок (см. на обороте) является доказательством необходимости работать и работать.
Вот результат того, что я не работаю. Вы не похожи и рисунок ГО….Й.
Нарушайте все заповеди, кроме одной – НЕ ПЕЙ!!!
Б.Барнет. 27 V 44г.»
Другой рисунок. Автопортрет мастера. И снова:
«ЕЩЕ РАЗ НЕ ПЕЙ!
Б.Б. 7 VII 44г.»
О художнике Валентине Подпомогове:
«Этот курносый армянин с русской православной фамилией, станет выдающимся художником (если не сопьется, конечно). Он обладает уникальным, врожденным даром рисовальщика-виртуоза .
ВАЛЯ – НЕ ПЕЙ!»
* * *
В Москве, в начале сорок пятого завершались съемки фильма «Однажды ночью». Строили последнюю декорацию в пустом неотопленном павильоне «Мосфильма».
Случилось так, что я, по мнению Барнета, в чем-то провинился – «сморозил такое, что…»
Барнет обрушился на меня всей своей «матерной» мощью. Я, тогда, бросил все – картину, незавершенную декорацию и… махнул в Ереван.
Борис Васильевич был вне себя от моей «чудовищной неблагодарности».
А затем… написал мне «покаянное» письмо. Только удивительной, барнетовской добротой и отходчивостью могли быть продиктованы эти строки:
«Дорогой Юра! Пишу вам, пишу, телеграфирую – как в пропасть. Если рассердились на меня, то прошу вас – простите. Если бы меньше любил Вас – меньше и разозлился…»
Письмо завершалось все тем же заклинанием – «ЮРА НЕ ПЕЙ!!!»
… Та, последняя ночь Мастера была тяжкой, муторной, беспросветной. И оборвалась она нелепо, не достойно «одержимого жаждою творить».
– Э-эх… Не сладил Василич с бедой… – размазывая по сухим, морщинистым щекам кулаком слезы, причитал Михеич, ночной сторож, отставной майор (жил Барнет в Риге в правительственном охраняемом доме).
– Как же это так… За что бога позлобил, мил человек… Жить тебе да жить…
Так нелепо, недостойно ушел из жизни могучий художник. Ушел «не сладив с бедой».
Прожил Барнет свою бурную, неоднозначную жизнь неисправимым бунтарем и закончил ее «бунтом».
Хоронили Мастера «буднично», без почестей.
Бунтарей на Руси издавна не миловали…
* * *
Страшно ВСПОМНИТЬ» – так, обычно, начинали свой рассказ о встречах со Сталиным:
Михаил Чиаурели:
… Случилось это осенью сорок седьмого. Впрочем все по порядку.
Семьи Джугашвили и Чиаурели дружили многими поколениями. Это, собственно, и определило отношение ко мне Иосифа Виссарионовича. Сталин не скрывал своего расположения ко мне, интереса к моему творчеству…
Приезжая в Москву (жил я тогда в Тбилиси), я бывал в Кремле, на «Ближней даче» – участвовал в застольях вождя, пил с ним «Напареули», играл в шахматы…
Так продолжалось несколько лет.
В сорок пятом Сталин подарил мне свой портрет, выполненный известным фотографом Моисеем Напельбаумом с дарственной надписью:
«Мише. Верю тебе. Ценю твой талант. И. Сталин.»
Были, правда, и «омрачающие» наши отношения ситуации:
Я все еще жил в Тбилиси. Как-то оказавшись в Москве я позвонил Поскребышеву и попросил организовать мне встречу со Сталиным. Работал я тогда над сценарием «Клятвы» и частенько пользовался «директивными» советами вождя.
Сталин пригласил меня отобедать с ним на «Ближней». Приглашение на дачу считалось проявлением особого расположения хозяина к гостю.
Встретил меня Иосиф Виссарионович в саду:
– Почему ты один? А где Верико?
Сталин имел ввиду жену мою – артистку Верико Анджапаридзе. Я решил отшутиться (как выяснилось – неудачно).
– Иосиф Виссарионович, какой дурак ездит в Тулу со своим самоваром.
Сталин нахмурился:
– Мой дом не Тула, Верико – не самовар… Приедет жена, тогда и приходите.
Сталин резко развернулся и быстрыми шагами направился к даче.
Или, вот еще:
После премьеры «Клятвы» Сталин пригласил меня и Михаила Геловани к себе.
У Геловани возникла «идея»:
– А что если я поеду к Иосифу Виссарионовну в его костюме и гриме?. . Это, пожалуй, позабавит вождя.
Сказано-сделано.
Увидев этот маскарад, Сталин помрачнел:
– За одним столом вполне достаточно одного Сталина,
– и обращаясь к генералу Власику, резко сказал. – Отвезите этого шутника в гостиницу и хорошенько отмойте. Чиаурели вам поможет.








