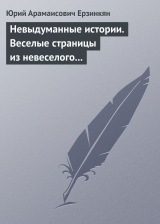
Текст книги "Невыдуманные истории. Веселые страницы из невеселого дневника кинорежиссера"
Автор книги: Юрий Ерзинкян
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
Расчет этот, однако, не оправдался.
Так «прочитал» этот эпизод один весьма уважаемый московский критик:
«… Судакова проявила умение неодносложно решать предложенную сценарием тривиальную сюжетную ситуацию. Рузан приняла решение – Арсен должен вернуться. Она грустна, задумчива, все в ней сопротивляется этому вынужденному решению. Все, и прежде всего оскорбленное женское достоинство.
– Ла, да, конечно… Это ведь его дом… – говорит она, и лишь нервное подергивание плеч, едва заметное движение головы, непрошеная слеза выдают душевное смятение, напоминают о долгих мучительных раздумьях».
А мы-то думали – не заметят.
* * *
Если мне не изменяет память, в 1963 году это было, снимали на нашей студии фильм о Викторе Амбарцумяне.
Приехал как-то смотреть отснятый материал Виктор Ама-заспович со своими коллегами-астрономами.
… На экране сменялись, вызывающие снисходительные улыбки ученых «научные» эпизоды, а затем фотографии созвездий, звездных ассоциаций, (не убежден, я их правильно называю), словом, фотографии звезд.
Отмигали кадры. В зале зажегся свет.
Ученые чем-то смущены. Переглядываются…
Виктор Амазаспович нарушает неловкое молчание:
– Можно, если это вас не затруднит, еще раз прокрутить материал?
И опять на экране Бюракан, ученые за телескопами и… фотографии.
Зажегся свет. И снова, неловкое молчание.
Виктор Амазаспович шепчется с академиком Маркаряном. Тот пожимает плечами, распускает нижнюю губу…
Присутствующий на просмотре художник Валентин Подпомогов, кажется, догадывается, что смущает ученых.
– Виктор Амазаспович, – обращается он к Амбарцумяну, – не новую ли звезду вы обнаружили на фотографии?
– Вот именно, как вы догадались?
– Кино-спе-ци-фика! -улыбнулся Подпомогов. – Фотографии ваши, простите, были плохонькие, серые… Вот мы и решили скопировать их… Прокололи на черной бумаге иглой
дырочки, видно, перестарались, вот и появилась лишняя звезда. Выходит, звезда Подпомогова…
Смеются ученые. А громче всех Амбарцумян.
– А вы знаете, не исключено, что такая звезда существует… И если она обнаружится, обещаем ее так и назвать – звезда, как вы сказали, Подпомогова?
– Валентина, – в тон ему отвечает Подпомогов.
– Пусть Валентина Подпомогова… Вы это несомненно заслужили г– каждому сколько-нибудь значительному открытию, как правило, предшествует толковая гипотеза.
* * *
Екатерина Фурцева – тогда министр культуры СССР – на совещании руководителей республиканских киностудий, обращаясь к директору «Арменфильма» Мхитару Давтяну, сказала:
– Политбюро одобрило вашу задумку снять фильм о славных нефтяниках Армении.
Давтян попытался возразить:
– Нефть не у нас… В Азербайджане… И, следовательно, нет у нас «славных нефтяников».
– Теперь уже ничего не изменишь. Я доложила Никите Сергеевичу. Ему эта идея очень понравилась. Придется вам, у себя в Армении налаживать добычу нефти… В широких масштабах, и… снимать фильм. Я договорюсь с руководством республики.
* * *
… Это были первые слова, которые произнес Никита Сергеевич Хрущев на армянской земле. Обращаясь к Якову Заробяну, тогдашнему первому секретарю ЦК КПА, Никита Сергеевич сказал:
– Ты, Яков, не забудь показать мне своих красавцев-коней.
Заробян не понял, о чем говорил Хрущев, но переспрашивать не стал
За обедом Никита Сергеевич вспомнил о своей просьбе:
– Яша, про коней не забудь.
Просьба эта крайне озадачила руководителей республики. Каких коней?. . Где взять этих красавцев?. .
Кто-то вспомнил о «лошадях-пятиборцах». О них давно забыли – в республике стих бум пятиборья. Ютились эти животные в жалкой, неприглядной конюшне. Да и сами лошади не могли сойти за «красавцев», которых рассчитывал увидеть Хрущев.
И, когда Никита Сергеевич в третий, а затем и четвертый раз вспомнил о злополучных конях, Заробян распорядился привести в порядок конюшню. Отмыть и «причесать» кобыл на случай, если о них не забудет Хрущев.
В конюшню направили мощную технику. Отремонтировали «подъездные пути». Вывесили «патриотические» лозунги. Привели «в порядок» конюшню. Настелили, поверх многолетнего слоя навоза, асфальт…
Удивленных, вниманием к себе, лошадей отмыли, причесали.
О конях Никита Сергеевич, к всеобщему удовольствию, забыл. Вспомнил о них перед самым отъездом. Дружески похлопав Заробяна по плечу, Хрущев сказал:
– И опять я все напутал. Кони-то не у тебя, а в Киргизии…
* * *
Обедали в «Астории». Выпили больше обыкновенного.
В тот вечер мы были приглашены к друзьям – Вануниам.
… Таксист никак не соглашался посадить в машину больше положенного:
– Четыре! И ни одного больше.
После долгих уговоров, просьб и перебранок, нам удалось всем втиснуться в машину.
Таксист все еще бушевал.
Тиграну Мансуряну, который выпил больше других, пришла в голову «гениальная мысль». Он решил, чтобы досадить таксисту, всю дорогу петь «без слуха»… Рахманинова.
– Пусть подохнет, прохвост, от невыносимых мук…
Тигран, как мог, коверкал рахманиновский фортепьянный концерт. Стоило это ему немалых усилий – концерт «отчаянно сопротивлялся».
Таксист вдруг притих, весь превратился в слух. Он в такт пению Тиграна, барабанил по рулю машины.
Прощаясь с нами, водитель сказал:
– Зря я это базарил… Очкарик ваш здорово поет… Песня его за душу берет…
Он пожал Тиграну руку.
– Спасибо, друг, уважил. Порадовал хорошей песней…
А Тигран, по душевной простоте, думал что…
* * *
В 1978 году это было, в Москве.
Нам предстояло записать музыку к фильму «Снег в трауре».
Партию виолончели – ведущую в музыке к картине – Тигран Мансурян намеревался поручить Карине Георгиян. Карине, несмотря на занятость, согласилась – музыка Мансуря-на привела ее в восторг.
На Лиховом, инспектор оркестра назвал нам ничего не говорящую фамилию «назначенного» на запись солиста.
Тигран попытался возразить:
– Но, нам нужен мастер… Талантливый музыкант…
Инспектор-одессит не дал ему договорить:
– Ну если талантливый, да еще мастер… Езжайте в Израиль. Нынче все талантливые туда перебрались… Здесь одни русские остались…
Мы наотрез отказались от записи неизвестного нам музыканта.
– Смена отменяется, – бросил инспектор оркестру, за-
тем, обращаясь к нам, сказал. – Ждать новую смену придется две-три недели. Оркестр, сами понимаете, дьявольски перегружен.
Мы, конечно же, не стали ждать «две-три недели», а туг же позвонили Ермашу, тогдашнему председателю Госкино, и во всех подробностях рассказали о случившемся на Лиховом.
… На следующее утро оркестр в полном составе (сработала «комитетовская взбучка») ждал нас за пультами.
Играл оркестр отлично. Музыка понравилась.
После записи оркестранты долго, восторженно аплодировали Карине Георгиян, стучали смычками о пульты…
* * *
После премьеры пьесы Энтони Шеффера «Игра» в театре Станиславского долго не смолкали аплодисменты. Зрители шумно приветствовали режиссера-дебютанта, воспитанника Ереванского театрального института Юрия Рычкова.
По этому торжественному случаю в репетиционной театра был накрыт стол. Обилие водки красноречиво свидетельствовало о привязанностях станиславцев.
С напутственным словом к своему подопечному обратился режиссер Арташес Григорьевич Осепян.
– Запомни, Юра, – сказал он доверительно, – театр начинается с вешалки, понимаешь, с ве-шал-ки!..
Арташес Григорьевич выдержал долгую паузу. Затем его словно осдиипо:
– Советую тебе от всего сердца: Люби искусство в себе а не себя в искусстве…
Раздались жидкие аплодисменты. Голоса одобрения.
– Это ты здорово сказал, отец, с ве-шал-ки!..
– Именно, с вешалки.
– И надо же: люби искусство в себе… Браво!.. Браво!.. Все вдруг одновременно заговорили. И в этом месиве нестройных голосов, отчетливо слышалось:
– Ты меня уважаешь?. . Нет, нет, т-ты скажи…
* * *
В середине шестидесятых в Ереван на гастроли приехала известная французская эстрадная певица Рози Армен.
Как-то на съемке спросили у певицы:
– Как к вам обращаться, мадам или мадемуазель?
– Как вам будет угодно, – лукаво улыбнулась Рози. – И что за обыкновение у вас, ереванцев, задавать этот нелепый вопрос.
И, действительно, где бы мы ни появлялись с певицей, ее повсюду об этом спрашивали.
… Сарьян встретил нас в гостиной, стены которой были увешаны полотнами, излучающими (как и сам хозяин) тепло и доброту.
К столу подали фрукты.
Рози захлопала в ладоши:
– Натюрморт этот сошел с ваших полотен?
– Конечно, по случаю вашего приезда.
После небольшой паузы Сарьян спросил:
– Как к вам обращаться…
Рози еле сдержала смех.
Спустя неделю певицу принимал католикос Вазген Первый.
И опять:
– Как к тебе обращаться, дочь моя, мадам или мадемуазель?
Рози смиренно опустила глаза:
– Перед вами, как перед Богом… Я не замужем, но и, конечно же, не девушка… Так что, обращайтесь, как соблагоиз-волите…
* * *
Было это летом шестьдесят девятого. Мы – художники Минае Аветисян и Роберт Элибекян, кинооператор Сергей Исраелян, писатель Агаси Айвазян и я – отправились в Тбилиси на выбор натуры картины «Хатабала».
Всю дорогу Минае рассказывал удивительные истории, окрашенные обаятельным, изящным «аветисянским» юмором.
На Севанском перевале забарахлил мотор нашего «Рафика». И мы вынужденно остановились вблизи «пасеки на колесах».
Предприимчивый пасечник, воровато поглядывая по сторонам, подсыпал в ульи сахарный песок, избавляя тем самым
своих «подопечных» от «хлопотливых» обязанностей.
Минае улыбнулся:
– Большевики всесильны… Лаже пчел умудрились превратить в бездельников, тунеядцев.
Спустя час мы ехали по пустынной, выжженной солнцем Казахской равнине.
Минае предложил нам сыграть в «Ослов». Он объяснил нам «правила игры» – двое играющих выбирают по одной из сторон дороги – один -правую, другой – левую, и… считают встречающихся на «своей» стороне ослов. Выигрывает тот, на чьей стороне повстречается больше четвероногих.
Неизменно выигрывал Минае:
– Пусть это вас не удивляет. Мне всегда везло на ослов.
* * *
В тот день нам предстояло отснять заключительную сцену фильма «Хатабала».
Ждали Минаса. Он еще утром должен был приехать из Джаджура – «благословить декорацию». Как всегда «приложить руку», нанести последние мазки (в самом прямом смысле
– Минае сам, собственноручно расписывал декорации).
Шли часы, а Минае все не приезжал. Съемку начали, не дожидаясь художника.
В полночь в ателье появился Минае. Мрачный, озабоченный.
Он сбивчиво рассказал, что приключилось с ним в пути.
В Джаджуре долго стоял он у обочины шоссе, пытаясь остановить попутную машину. И когда он окончательно отчаялся, к нему подполз огромный автокран. Водитель взялся довезти его до Еревана.
Не проехали они и двадцати километров, как огромная, многотонная стрела сорвалась с крепления и повалилась на кабину, где находились Минае и водитель, и рассекла ее на две равные части. Стрела «проскочила» в двух-трех сантиметрах от Минаса и крановшика. Обе половинки кабины с грохотом повалились на асфальт, «подмяв» насмерть перепуганных Минаса и Геворка (так звали крановщика).
«Потерпевшие» с огромным трудом выбрались из-под обломков кабины.
В кромешной тьме, под проливным дождем, прождали они несколько часов, пока их не подобрала попутная машина…
* * *
…"Боинг", принадлежащий японской авиакомпании, пробежав по взлетной полосе аэропорта в Бомбее, плавно взмыл в бархатно-черное небо и взял курс на Калькутту.
Мы – группа советских кинематографистов, летевших в Токио, дремали в глубоких креслах, под неусыпным, «бдительным» оком Ивана Ивановича – «киноведа в штатском».
Поздно ночью, в наш отсек шумно ввалились из салона первого класса (мы, естественно, летели во втором) два подвыпивших широкоплечих блондина. Размахивая бутылкой «Мар-
теля», молодые люди, как показалось Ивану Ивановичу, «подозрительно» обрадовались нам.
– Братцы!. . Вот здорово… Мы из торгового представительства… Миша Дворецкий, а это мой коллега – Слава Ко-роблев… Мы оба питерские… Есть среди вас земляки?. .
Иван Иванович прошипел мне на ухо:
– Провокаторы. Типичная «подсадка». Советский человек не скажет – «торговое представительство». Торгпредство
– и все всем понятно. «Оба мы питерские», заметь – не ленинградские… Да и фамилии, какие-то несоветские, старорежимные… «Дворецкий»… С такой фамилией наши за границу не пошлют…
А тем временем, ребята со «старорежимными» фамилиями откупорили бутылку коньяка.
– Это чему вы так обрадовались? Проваливайте… Катитесь к тому, кто послал… – прорычал Иван Иванович и «командно» подмигнул Леониду Лукову. Тот, с удивительной легкостью, вскочил с кресла и, всей своей мошной тушей, навалился на «провокатора» Дворецкого и стал его дубасить. Мы последовали его примеру. «Операцией выдворения» командовал" Иван Иванович:
– Так их, братцы… чтобы другим неповадно было…
– Вы что это?. . С ума сошли… Вы что? – отбивались от подзатыльников, пинков в зад «торгпредовцы».
… На обратном пути из Японии группа наша три дня провела в Дели. На приеме в Советском посольстве мы встрети-
лись с Дворецким и Короблевым.
Голубоглазые парни со «старорежимными» фамилиями, широко улыбаясь, шли нам навстречу:
– Рады вас видеть, друзья… Здорово вы тогда нас… Завидная бдительность…
Миша Дворецкий провел рукой по скуле, той самой, по которой тогда, в самолете, «съездил» Дуков.
* * *
На приеме в обществе «Япония – СССР» нас угощали традиционным саке. На небольших декоративных столиках с ажурными ножками – трехсотграммовые бутылочки слабой (по нашим меркам) рисовой водки. Обычно на приемах дегустация ограничивается одной бутылкой «на четверых». Но стоит гостям допить ее до дна, как тут же появляется другая. Но такое случается редко. Четыре японца, как правило, «косеют» после первой.
… Когда Валя Подпомогов, без особого труда, опорожнил… восьмую бутылку, у нашего столика замигали «блицы», защелкали затворами фотокамеры. Нас плотным кольцом окружили изумленные японцы. Валя же невозмутимо принялся за девятую…
Утром нас разбудил телефонный звонок. Звонили от Без-рукавникова, просили срочно приехать в консульство.
Борис Васильевич Безрукавников, генеральный консул, человек огромного телосложения и столь же огромного обая-
ния, швырнул перед нами на стол кипу газет.
С первых страниц улыбался читателям Валя Подпомогов. Он сжимал в руке фужер с очередной порцией саке. Перед ним выстроилась батарея пустых бутылок.
Газеты на разный лад прославляли жирными заголовками «Чудо-русского», который «один выпил столько саке, сколько не в состоянии осилить пятьдесят японцев».
Увидев наше смущение, Борис Васильевич отобрал из кипы газет «выездные» и протянул их Вале:
– Дома похвастаешься… Чего скис? Все нормально… Пусть знают, что «мы все можем». Куда им до нас – кишка тонка.
* * *
Отель «Дели» поразил нас своим «пятизвездочным великолепием».
Однако в баре нас ожидало первое разочарование. Спиртное продавалось только по вторникам и пятницам. В остальные же дни недели строго соблюдался «сухой закон». Бармен-индус в ярко-красной чалме с холеной бородой, обрамляющей матово-смуглое лицо, жестами дал нам понять, что нарушение установленного в стране порядка исключено.
Валя не сдавался. На огромном зеркальном стекле стойки он изобразил фломастером «рассказ» (на подобие сюжетов Битструпа) о том, как получив виски, незаметно для стражей общественного порядка, проникнем в свой номер, «втихую»,
без свидетелей, при опущенных шторах, «раздавим» бутылку, а затем… на боковую…
Рисовал Валя «историю» во всех подробностях. С удивительной изобретательностью и юмором. Вокруг нас столпились «разноплеменные» и разноязычные посетители бара. Они громко смеялись. Наперебой комментировали рисунки. Щелкали затворами камер…
Бармен хитро подмигнул нам, отвел в сторону и, подумать только, вручил три бутылки отличного шотландского виски. Он наотрез отказался от нашей «складчины».
Три дня мы «нашармака» пили виски у гостеприимного индуса. На второй день к нам присоединился и Иван Иванович. То ли кончились у него запасы «отечественного коньяка», то ли он не хотел оставлять нас одних с потенциальными «врагами нашего государства», с «провокаторами и шпионами».
* * *
Ахпат. Полдень.
Монастырский двор залит ярким солнцем. По краю неба медленно ползут вздыбленные облака.
Гегам-бидза, монастырский сторож, косит рыжую упругую траву, буйно растущую на кровле храма Сурб-Ншан.
Старик замечает нас, расправляет спину, отбрасывает в сторону серп. Не спеша мнет сигарету и принимается за свой, словно только что прерванный рассказ.
– Как-то к нам в Ахпат приехал католикос Вазген Первый со своими, как их, епископами… Ходят по монастырю в черных рясах, качают колпаками, шепчутся, ахают – нравится, выходит, наш красавец… Я им рассказываю, так, мол, и так, о монастыре, значит, рассказываю. Не так, конечно, как вам – с религиозным уклоном. Довольны – кивают, улыбаются.
Задумал католикос у нас службу отслужить. Собрался народ. Все село пришло – от мала до велика. Запел католикос. Те, что в рясах, подпевают. Кончил петь – захлопали ахпатцы. Смутились епископы, растерянно переглядываются… Ты что это? – говорю я Рафику, бригадиру, здоровенному детине, что хлопает громче всех, – не в театре небось… А что? – смеется бригадир. – Очень даже здорово поет старик, и песня хорошая…
Гегам-бидза улыбается:
– Вот так, значит, было дело… Запамятовали ахпатцы – что церковь, что патарак…
* * *
– Что ни говори, а человек существо тщеславное. Вот взгляните на эти могильные плиты – еще подобие свое толком изображать не научился, а туда же… Высечь себя на камне норовит. Личность сводз увековечить. Пусть потомки, мол, узнают, какой я был, как выглядел, какая у меня была физиономия… А выглядел он, если верить камню, скажем прямо – не ахти как, и физиономия у него была препротивная…
С этой, весьма своеобразной, оценкой средневековых надгробий согласиться трудно. Но спорить со стариком бесполезно. Да и говорит все это Гегам-бидза больше из озорства, желая позабавить нас.
– И что это я о могильных плитах разболтался? Да…
Гегам-бидза хитро щурит глаз, щетинит усы:
– Видите, вон ту могилу… Ту, у гробницы Курд-Ишха-на… Три года назад это было, заметил я как-то краешек могильной плиты. Принес кирку, лопату, раскопал. Читаю -
«Здесь покоится Арутин…» Дальше не разобрать, и год – «1787». Ай-та! Да это могила нашего Саяда, Саят-Нова, значит… Ну и отписал в Ереван, в охрану памятников – Котику, как его по фамилии?. . Начальником он у них… Так, мол, и так… приезжайте… Приехали – разобрались. Смеются. Напутал, говорят, старик – твой Арутин в 1787 году похоронен, а Саят-Нова, по всем законам науки, в 97 умер… Опередил, выходит, этот нашего… Эх, говорю, знал бы – принес зубило, молоток – исправил бы восьмерку на девятку, да еше в придачу кяманчу высек… Избавил бы вас от хлопот. А то все ищете, без толку ищете… Деньги казенные переводите…
* * *
… Было это дело, дай бог памяти, осенью шестьдесят девятого. В Ахпат к нам приехали ученые люди. Специалисты по старым карпетам, прялкам деревянным, битым глиняным горшкам, прочей рухляди – рассказывает Гегам-бидза.
Слоняются по домам, высматривают медные позеленевшие сини, кувшины разные… Скупают весь этот хлам, не торгуясь… Что им скупиться – деньги казенные, не из собственного кармана.
– Вижу, вы люди ученые, – говорю я им. – Только вот в толк не возьму, что за наука ваша такая?. . Вот, к примеру, земляк наш Ашхарбек Калантар (мудрый был человек, не много теперь таких), здесь неподалеку разные там кувшины, монеты бронзовые из земли выковыривал. Так то была археология,
где
а ваша как называется?
– Эт-но-гра-фия! – поясняет лохматая девчушка в штанах.
Невестку мне такую, бедовая… Враз бы в хозяйстве навела порядок.
– Значит, кувшины старинные понадобились. Есть у меня таАэй, в сарае без толку валяется.
Принес я им кувшин. Обрадовались – аж глаза разгорелись:
– Откуда он у вас, дедушка?
– Женино приданое, – смеюсь я, – дед ее вылепил, мастер Аракел, отменный был гончар, один на все село.
– Какой еще там дед. Этому кувшину по меньшей мере две тысячи лет.
Тут подошла жена – не соглашается. Они – кувшину две тысячи лет. Она – дед вылепил, и дело с концом, весь тут разговор…
– А я молчу и думаю про себя – не могут ученые ошибиться. А что до моей старухи… Ну где ей помнить, откуда в дедовском доме кувшин этот взялся. Тут меня и осенило. Много лет назад археологи в наших краях вели раскопки. Кривой Енок, родной дядюшка моей нареченной, воду им на осле возил. Говорят, парень был нечист на руку. Вот и выходит… Словом, все могло случиться…
Я конечно об этом никому ни слова. Отвел старуху в сторонку и говорю ей:
– Постыдилась бы. Люди они ученые, им виднее.
– Это им-то виднее?! На моих глазах дед этот кувшин мастерил.
Старуха кивает на каменных ктиторов, что на фронтоне храма Сурб-Ншан:
– Ни Смбат, ни тем более Кюрике не дадут мне соврать.
– Ну ладно, ладно, какая тебе разница, – говорю я ей, дед твой вылепил этот кувшин, или две тысячи лет назад такой же добрый армянин – гончар, как дед твой, уста Аракел, вечная ему память.
Смотрю, Смбат и Кюрике вроде улыбаются. Одобряют, выходит, слова мои. Я и осмелел:
– Берите, – говорю, – кувшин, если нужен для науки, вот и дело с концом.
Глянул на жену – на ней лица нет.
Подмигнул я людям – для старухи, мол, говорю, всерьез не принимайте:
– Есть у нас с женой нижайшая к вам просьба: беспременно напишите в ваших ученых книгах, что кувшин этот вылепил мастер Аракел, гончар из Ахпата.
Поняли меня, улыбаются:
– Можете не сомневаться, мамаша, обязательно напишем.
Старуха от радости раскисла. Передником слезы утирает. Благодарит обманщиков бесстыжих.
А я думаю про себя, ловко с кувшином обошлось… И еше думаю о том, что правда, а что неправда… Выходит, как на нее посмотреть, на правду эту самую… С какого бока… Если, к примеру, по-научному…
Гегам-бидза махнул рукой и стал усердно мять сигарету. Мял долго, сосредоточенно. Потом закурил. Улыбнулся:
– А вот еще один случай, тоже по научной линии. Снимал в наших краях картину про Саят-Нову Сергей Параджанов, знаете наверное, шумный такой, непутевый… С бородой, как у покойного попа нашего, царство ему небесное. Это попу, конечно, царство… А Параджанову сто лет жизни.
Так вот, говорит он мне как-то:
– Гегам-бидза, может у кого в селе, что от Саят-Новы сохранилось. Утварь какая, что из одежды…
– Как нет, – говорю, – у меня самого его мангал припрятан, да еще в придачу три шампура. Особенные, кованые, с кольцами.
Параджанов оживился:
– Тащи, старик, мангал свой.
– Не мой, – говорю, – а великого поэта.
Завернул мангал, для пущей важности, в потертый кар-пет, повязал лентой. Понес.
Распаковали мангал параджановские бездельники (ассистентами они у них называются). Разглядывают, щупают шампуры – проверяют на прочность. Щурятся…
Параджанов смеется, показывает клеймо:
– А ты, старик, силен. Посмотри, что тут написано.
Глянул – мать честная! На лонышке мангала едва заметная блямба, а на ней надпись -«Алавердская артель бытовых изделий» (читается проклятая) и год указан – 1949-й.
Сами понимаете, неподходящий год для нашего Саяда. Кому не известно, что родился Саят-Нова в тысяча…
– Словом, подвела на этот раз наука, – смеется старик, – та самая, как ее, эт-но-гра-фия…








