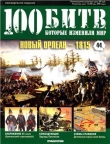Текст книги "Орлеан"
Автор книги: Юрий Арабов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Клиентка кивнула.
– Твоя головка станет после сассуна как у курицы. Никакой неоплатонизм уже не поможет. Может, сделать тебе ирокез? Он как раз увеличивает объем головы.
– Видал сассун… – настояла та еле слышно.
– Двести рублей, – выдохнула Лидка то, что приберегала напоследок.
Сердце клиентки разорвалось на части. Кровь перестала течь, глаза от напряжения вылезли из орбит. Но это произошло с внутренней эфирной девушкой. Внешняя же, материальная, только кивнула с деланым равнодушием, услышав для Орлеана несуразную цифру. Села в кресло и закинула ногу на ногу.
Лидка включила электрическую машинку для стрижки баранов, так она про себя называла своих клиентов, дезинфицированную тем, что ей не стригли целых три дня. Надломленный провод слегка коротнул, заискрил, заиграл новогодним бенгальским огнем, но машинка, тем не менее, заработала и даже не убила мастера, который держал ее в руках.
Лида безжалостно стала брить шею поклонницы неоплатонизма, скрывая свое отвращение к философии, так как шея ей показалась не совсем чистой.
– Учишься где или так… прости господи? – спросила она, чтобы скрасить разговором свой рутинный труд.
– Много думаю, – уклончиво сообщила клиентка тоненьким голоском.
– Ты чего? Совсем, что ли?.. – вспылила Лидка, брея ее за ухом. – Гуляй побольше, а думать забудь. Поняла?
– Поняла. Я и так гуляю, вы не беспокойтесь.
– А я и не беспокоюсь. Я вообще спокойная, как жесть. А зачем гуляешь?
– Чтобы набраться впечатлений, – ответила девушка.
– А вот этого не нужно. – В голосе Лиды неожиданно проснулась мать, которую она долго в себе уничтожала и которая начала противоречить ей самой. – Мужики все одинаковые. Какие тут впечатления?
– А вдруг попадется что-нибудь такое… необыкновенное?..
Лидка вздохнула, припоминая из своей многотрудной жизни, попадалось ли ей что-то такое, о чем говорила клиентка. С одной стороны, вроде бы попадалось, но с другой… С другой все было фиолетово. Она открыла кран над раковиной, смочила расческу и слегка прилизала клиентке оставшиеся волосы.
– Ничего необыкновенного на свете нет. И мужиков это точно не касается.
– Но ведь без новых впечатлений нет процесса познания, – возразила клиентка.
– Это ты опять об этом своем? – взорвалась Лидка, потому что потеряла терпение. – Скажи, что тебя не устраивает?
– Меня не устраивает в гностицизме дуализм всего сущего. Когда у одного и того же метафизического начала есть добрая и злая составляющие. Получается, что Господь наш добр и зол одновременно. Разве это не ересь?
Услышанное показалось Лидке настолько странным, что она даже перестала стричь своего барана. Более того, из последнего вдруг выплыл этот самый дуализм, против которого баран, сидящий под ее машинкой, как раз яростно и восставал.
– Чего?.. Чего ты плетешь? Под спидами сюда пришла, что ли? – попыталась разрядить атмосферу благоразумная парикмахерша.
– Отсюда происходит теория, что у демонов мрака в нашем мире есть созидательная функция. Они своим злом уничтожают зло… Зло против зла. Эту формулу знали еще шумеры. А гностики и близкий к ним учитель церкви Ориген косвенно подвели под нее теоретическую базу. Вы знаете, например, что такое плерома?
– Плерома, – страшно повторила себе под нос Лидка. – Плевра… я не знаю, я знаю, что такое стерва… – зачем-то добавила она.
Это было похоже на толчок землетрясения – еще ничего кругом не происходит, дома не рушатся, и даже люстра не качается как метроном. Только внутри человека под ребрами в области живота что-то сдвинулось, словно зимний сугроб съехал с крыши под напором первого весеннего солнца.
– Однако сила больше, чем любое познание, пусть даже у гностиков и неоплатоников, – сообщила девушка. – Ведь один сильный приводит в трепет сто познающих. Если кто-либо становится сильным, он становится поднимающимся. Поднимающийся становится странствующим. Странствующий становится садящимся. Садящийся становится познающим…
Лидка повнимательнее вгляделась в ее лицо. И вдруг обнаружила на нем отвратительно-циничные усики. На глазах у клиентки медленно расплывалась масляная поволока, говорящая о том, что она сильно любит и презирает одновременно. Губы с чувственной припухлостью изогнулись от желания сказать гадость, а от волос вдруг пахнуло сладким дымом отвратительного аристократического табака.
Лидка положила расческу в раковину и, ничего не объясняя, быстро вышла из парикмахерской вон.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
1
Рудольф Валентинович Белецкий медленно поднимался к себе на пятый этаж после напряженного рабочего дня, в котором он, правда, не напрягался, а просто плыл вниз по течению как человекообразное бревно.
Лифта в доме не было, и приходилось идти пешком под самую крышу. В распахнутые окна на лестничных площадках хотело влезть заходящее солнце, как влезало когда-то к поэту Маяковскому, но он давно не принимал, и поговорить было не с кем. На стенах сидела многочисленная мошкара.
Хирург подумал, что когда-нибудь, через две тысячи лет, сумасшедшие археологи обновленного человечества обнаружат в песках эту забытую Богом лестницу, примут ее за лестницу Пилата, потащат в полуразрушенный Рим и сделают объектом поклонения для тысячи паломников. И никто не будет знать о том, что исторический Христос никогда не стоял на этой замызганной коммунальной лестнице, а стоял он – несчастный страдалец Рудик, стоял, поднимался, алкал и любил, держа на плечах все человечество, которому он еще в юности легкомысленно поклялся служить своим равнодушным скальпелем.
Белецкому вдруг стало себя нестерпимо жалко. Он вспомнил про один странный случай, происшедший с ним в Израиле. Туристическую группу повезли в Назарет и на Тивериадское озеро, но гид категорически отказался показывать места, связанные с жизнью Христа. «Он был таким же евреем, как я, – сказал гид ровным голосом. – Вы же не будете смотреть места, связанные с моей жизнью. Тогда почему вам понадобились места, связанные с жизнью Христа?..» Никто не нашелся, чем возразить. Только двое самых отпетых залезли наскоро в мутный Иордан, когда гид отвернулся. И последний, увидев на них мокрые шорты, только сокрушенно цокнул языком…
А его места, связанные с ним, с Рудиком, будут ли когда-нибудь показывать туристам, приехавшим в Кулунду и на Яровое? Кто-нибудь замолвит доброе словечко о его тленных мощах, зарытых на местном кладбище в солончак, кто-нибудь пригреет его учеников и адептов у себя под крылом или будет гнать каленой метлой за пределы области? Кто-нибудь вспомнит о его незаурядном уме, начитанности и интеллекте?
Белецкий, обливаясь потом, одолел, наконец, последний лестничный пролет и вспомнил, что никаких учеников и адептов у него нет. Он обнаружил на выщербленной ступеньке кем-то брошенный огрызок яблока и положил его в ведро с надписью: «Пищевые отходы». Он знал, что подобных ведер уже нет в больших городах России, далекая Москва забыла о них еще в конце 60-х, но здесь, в Орлеане, они еще водились, потому что кое-где, особенно в немецких селах, хрюкала и мычала скотина. Там же выпускались сосиски «Бюргерские» производства ООО «Брюгге» без белкового наполнителя; сливочное масло «Столыпинское» Гальбштадтского района клало на лопатки всякого рода патентованную «Вологду», а сыр «Фатерланд» был одним из лучших в своем классе в Европе. Как это совмещалось с советской властью и позже с новой свободной Россией, никто не знал и понимать отказывался. Злые языки утверждали, что в такой безобразной ко всему хозяйству РФ альтернативе была виновата Бавария, взявшая шефство над всем Гальбштадтским районом и прилегающими к нему селами. В них жили немцы, получившие во времена столыпинских реформ в свое распоряжение хоть и бросовые земли, но зато в огромных количествах. Рудик любил сосиски «Бюргерские», а также пиво «Гибель богов», которое намного превосходило «Красный Восток» и всякого рода пивную бурду, наваренную из риса, но немцем, тем не менее, себя не чувствовал. Он понимал, что живет в странном месте, где из-за жары на улице не было даже мусорных контейнеров и жители выносили всякий сор из домов в строго назначенное время – за ним приезжала суровая лязгающая машина, которая и отвозила все на свалку в степь, подальше от города… Другой бы жил здесь и радовался, но Рудик находился в привычном смятении, ибо понимал, что предназначение его было иное. Но какого рода предназначение у него было, он сам в точности не понимал.
На своей площадке под самой крышей он вдруг увидел короткие пальцы с фиолетовым педикюром, которые вывели его из состояния философской прострации. Пальцы принадлежали сдобной дебелой девице с большой грудью то ли третьего, то ли четвертого размера, и, поглядев на нее, Рудольф Валентинович почувствовал своим инстинктом выходящего в тираж мужчины, что это будет ему наградой за бессмысленно прожитый день.
– Вы ко мне? – спросил он на всякий случай.
– Я от Эрнеста Аркадьевича, – сказала девица, отчего-то закрасневшись, будто сделала неприличность.
– Что ж. Знаю. Всегда готов помочь Эрнесту Аркадьевичу. – Он полез в карман коротких пляжных штанов и вытащил оттуда связку ключей. – А кто такой Эрнест Аркадьевич?
– Он ваш учитель.
– Возможно, – согласился Рудик, отключив внутри все эмоции. – Но, по-моему, его звали Эраст. Впрочем, это не принципиально. На что жалуетесь?
– Грудь дергает… – прошептала интимно девица.
Чувствовалось, что ей очень стыдно за то, что ей попалась такая грудь, доставляющая неприятности не только ее носителю, но и совершенно посторонним людям. А что им до ее груди и, особенно, до какого-то дерганья? Конечно, им все равно, все равно…
– УЗИ делали?
– Нет.
– Надо сделать. Но вы не волнуйтесь, это сейчас у многих. Время такое. У всех что-то дергает. В голове, в сердце… Проходите. – Он широко распахнул перед нею входную дверь, обитую дерматином. – Только извините за бардак. У меня – вялотекущий ремонт. Он течет вперед только по мере поступления денег, а они текут мимо и не всегда.
На полу были разложены прошлогодние газеты. В большой комнате стояла у стены стремянка, ступени которой были измазаны побелкой, а рядом находился большой таз с облупленной эмалью и погнутыми краями.
– Раздевайтесь до пояса, – бесцветно сообщил Рудик, сам поражаясь своему ледяному спокойствию.
Вышел в коридор и заглянул в маленькую комнату, где на кушетке лежал парализованный отец.
Увидев его, старик бессмысленно заблеял и затряс небритым заостренным подбородком человека, которому нечего терять.
– Чего ворчишь? Описался, что ли?.. – пожурил его сын и потрогал руками несвежую простыню. – Ну да, описался… Потерпи. Девицу только осмотрю и сразу к тебе…
Прошел в шестиметровую кухню. Там на стене висела выцветшая открытка Одигитрии, прикрепленная к обоям гвоздем, правой рукой она указывала на своего сына, как на единственно возможный путь, но Рудольф Валентинович не знал этих тонкостей, а если бы знал, то не согласился, потому что путей было множество, хотя бы тот, чтобы сейчас же ощупать наивную посетительницу, а потом посмотреть, что из этого получится.
Поскольку в ванной вода давно уже не текла, он помыл руки на кухне и возвратился в большую комнату, с удовольствием отметив про себя, что разор, связанный с ремонтом, как-то преобразился, потому что в середине этого разора появилось женское начало, которое можно было принять за прекрасное, особенно с закрытыми глазами.
Она стояла перед ним, внешне беззащитная, бессильно опустив руки, на которых были заметны бледные веснушки божьей коровки, и от этого вынужденного смирения посетительницы на Рудика накатил полузабытый юношеский азарт, заставлявший говорить глупости и делать безобразные во всех смыслах поступки.
– Так, так… – пробормотал он как можно более равнодушно. – Какая именно болит?
– Вот эта, – глухо сказала красавица, слегка зардевшись.
– Здесь? – он бережно нащупал одну из желез.
– Да.
– Характер боли?
– Тянущая.
– Давно?
– Не знаю. Может быть, с год уже.
– К врачам до меня обращались?
– Нет.
– Ну это все пустяки. Болит и ладно. Это мы поправим. Это…
Он не договорил, потому что некстати зазвонил телефон. Рудольф только отметил про себя, что ее грудь еще не потеряла форму молодости, и только вошел во вкус анатомических изысканий, как вдруг этот проклятый тревожный звонок… Зачеркнувший очарование возвышенного и указывающий на то, что внешний мир этому очарованию всячески препятствует.
Рудик огляделся и телефона не увидел. Звонок был, а аппарат безнадежно отсутствовал. Свой мобильный он положил под автобус с неделю назад, поспорив с нетрезвым другом, что скорее автобус перевернется, чем эта мыльница перестанет звонить…
– Одну минуточку, прошу извинить… – пробормотал он и пошел, как собака идет по нюху, на сигнал, наконец-то обнаружив источник беспокойства под подушкой кушетки-оттоманки, взлохмаченной и неприбранной, словно долина после селевого потока.
– Алло…
– Меня преследуют!.. – раздался в трубке истеричный надрыв знакомого, к сожалению, человека.
– Это ты, Люд, что ли?
– Я уж и сама не знаю, Люда я или нет.
– Успокойся. Кто тебя преследует?
– Неоплатоники, – ответила она, рыдая.
– Неоплатоники… – задумчиво повторил Рудольф Валентинович. – Их много?
– Для меня достаточно.
– Так, – пробормотал он. – Погоди, дай сосредоточиться.
– Мне холодно, – сообщила девица, застывшая посередине комнаты. – Можно одеться?
– Можно, – разрешил Рудик, но тут же поправился: – Чего одеваться, если скоро опять раздеваться?
– Ты не один? – спросила с подозрением Лидка в трубке.
– Почему не один… Один, – соврал Рудольф Валентинович. – Просто фильм смотрю… По кабельному каналу.
– Порнографический?
– Эзотерический. А в конце все выходят замуж.
– Я не могу… Я свихнусь в этом проклятом городе! – прокричал телефон.
– Проверь свою адекватность, – посоветовал Белецкий. – Скажи громко: «Мама мыла раму».
– Это ты скажи! – отрезала Лидка.
– Я уже сказал, – терпеливо заметил врач. – Наверное, опять этот тип? – предположил он по возможности спокойно, ибо являлся в этой ситуации психотерапевтом.
– Конечно! Прикинулся какой-то бледной девкой и сел в мое рабочее кресло!
– Ты, случайно, не спятила?..
– Если ты ко мне сейчас не придешь, я руки на себя наложу!
– Накладывай, – разрешил он. – Но если через час не наложишь, я буду у тебя. Потерпи. – Он посмотрел на свою клиентку, которая по-прежнему стояла как солдат, навытяжку. – А может быть, через два…
Бросил трубку на рычаг. Выдернул телефон из розетки и зачем-то накрыл его подушкой, по-видимому, из-за мрачного мистического чувства, которое к нему подступало.
– Теперь нам никто не помешает.
Бессмысленно уставился на розовый плоский сосок. Ему пришло в голову, что он похож на маленькую пробку.
– А-а-а… – раздалось из соседней комнаты.
– Это мой отец… Не пугайтесь. Так о чем мы говорили?
– Грудь… Дергает, – напомнила ему девица, отчего-то двусмысленно улыбнувшись. Ее стыд и замешательство прошли.
– Да… Грудь, – повторил Рудик, чувствуя, что мысли разбегаются, словно лягушки из-под сапога лесника. – Это мастопатия, девочка. Только и всего.
– А это опасно?.. – Она запнулась, подбирая слова. – От этого умирают?
– Конечно, – горячо согласился Рудольф Валентинович. – Я вам помогу. – Он приблизился к ней вплотную.
– Умереть поможете? – уточнила она как человек аккуратный и не терпящий двусмысленности.
– Да. И воскреснуть тоже помогу. Главное – быть адекватной и политкорректной. Адекватность превыше всего. Принимайте мастодинон, и все будет отлично.
Он вдруг порывисто поцеловал ей ключицу. Его язык почувствовал легкий привкус соли.
– Ай, – сказала она. – Чего это вы колетесь?
– Потому что я не брился сегодня, – объяснил врач, слегка задыхаясь.
В доказательство своих серьезных намерений он слегка укусил ее за плоский сосок. Девица на это уже ничего не сказала и чувств своих не обнаружила. Ее тело окаменело. Тогда он нехотя и без страсти повалил ее на диван, потому что так было принято, и если бы он этого не сделал, то возникли бы недоумевающие вопросы со стороны друзей и знакомых.
Но здесь случилось нечто странное. Какая-то тень возникла за его спиной и навалилась как туча. Кто-то цепкий впился в его плечи изможденными руками и начал стаскивать с пациентки на пол. Рудик только заметил желтую пергаментную кожу с нестрижеными ногтями и понял, что это, по-видимому, его отец…
Безумие разорвалось внутри головы как боевая граната. Старик не ходил уже два месяца, и его клиническое состояние не внушало никаких благоприятных надежд.
Рудольф Валентинович сильно сдрейфил, сполз с девицы вниз, как ледник, задымился от ужаса и начал хватать воздух ртом. Девица сжала ноги, закрыв свою грудь голыми руками.
Потом, опомнившись, быстро накинула на себя блузку и кинулась опрометью из неадекватной квартиры. Врач услышал, как гремят по лестнице ее турецкие каблуки.
Через минуту в комнате зазвенела навязчивая тишина, даже отец не стонал и не просил пописать.
Рудик стянул с себя рубашку. На левом плече были заметны красные царапины от ногтей.
В замешательстве Белецкий встал с пола и заглянул в комнату отца. Тот по-прежнему лежал в той же позе, в которой его оставил сын, когда щупал простыни.
Все было очень странно. Рудик почесал свой рыжий затылок. Пошел на кухню, чтобы умыться и сбросить с себя нервный стресс.
Но здесь его ждала новая неудача: кран, только открывшись, сорвался с резьбы и в раковину хлестанула желтая вода какой-нибудь реки Хуанхэ, не знающая преград и не умеющая бороться с собственными страстями.
– Вот черт, – пробормотал Рудик, обращаясь к чему-то невидимому, что было вокруг. – Вот дьявол!
Он почувствовал, что из него вынули стержень. Вернее, он выпал сам, когда производились исследования по мастопатии.
Белецкий поплелся в уборную, отворил над унитазом деревянную панель, за которой скрывались канализационные коммуникации. Завертел кран, что перекрывал подачу воды в квартире.
Вода, хлеставшая на кухне, умерила свой пыл, стала ласковой, как домашняя кошка, а потом вообще иссякла, пошла вспять и укрылась в своей железной норе, ворча и царапаясь там когтями.
Рудик обтер полотенцем мокрое лицо.
Он сталкивался с этим и раньше: когда неосмотрительно поступаешь, то этот поступок, словно тяжелый камень, летит в воду действительности, и поднимаются волны, круги бегут врассыпную в виде ненужных встреч, и клубок разматывается, запутывая руки…
Нужно было сбить этот стихийный порыв с окружающего мира и для этого успокоиться самому.
Он начал дышать по-собачьи, высунул язык и выкатил из орбит глаза, которые в последнее время были повернуты вовнутрь и видели лишь химеры своего неудачливого эго. Но это упражнение ни к чему не привело, нервы были расстроены, стихия внутри не смирялась, жизнь представлялась загадкой, а отгадчик ее был явно несчастлив.
Рудик бросил упражнение через минуту.
Вышел из квартиры и запер дверь на два замка.
2
Лидка жила в небольшом частном секторе, расположенном на окраине Орлеана, где еще сохранились глинобитные дома, обмазанные конским навозом, перемешанным с песком и соломой. Но ее дом был деревянным, среднерусским, и она гордилась этим, так как в Орлеане была своя иерархия: жители первого сорта жили в панельных домах из шлакобетона, жители третьего сорта – в глинобитных, монгольских и степных, а она, Лидия Павловна, находилась посередине, следовательно, наверх, к звездам, требовался только один шаг. Правда и вниз, к глинобитным, нужен был тоже один шаг-падение, но парикмахерша об этом не думала, уповая на свою удачу и умение выходить сухой из воды.
К ее дому можно было пройти через центр с небольшим базарчиком, который закрывался в два часа дня, и двумя супермаркетами уездного значения с одними и теми же дешевыми продуктами, оттого что часть из них была просрочена. Но можно было сократить путь и дать берегом, через соленое озеро по крупной гальке, наваленной еще в советское время, когда здесь решили сделать курорт, учитывая полезные свойства соленой воды и местной грязи. Технику пригнали, гальку навалили, но курорт не доделали, оставив это надвигавшемуся как туча капитализму, легкому на подъем, но тяжелому по приземлению на головы зрителей. Рудик и пошел по этой советской гальке сочинского формата, справедливо предполагая, что он будет у Лидки минут через пятнадцать-двадцать.
На горизонте в бликах отгоревшего светила были видны трубы химического комбината, напоминавшие бинокль откинувшегося навзничь человека. За спиной остался брезентовый шатер цирка шапито. Вода после несостоявшейся бури была спокойной, как уснувший новорожденный. В ней никто не купался, и на пляже никто не сидел.
Рудик наклонился к озеру, набрав его в руки. Вода была похожей на холодец – тяжелой, липкой.
– Плыви себе, Артемия салина, – сказал Рудик на всякий случай, хотя никаких рачков в своих руках не увидел. – Бог с тобой.
Он выпустил воду обратно в озеро.
Поднялся по крутому склону, цепляясь за сухие пучки травы и набирая песок в сандалии.
Над самым обрывом навис забор-ветеран, он не знал, что ему делать: то ли съезжать к воде, то ли, пусть качаясь и неустойчиво, но все-таки на своих ногах наблюдать за равнодушной действительностью.
Можно было пройти через дыру, но Рудольф Валентинович решил поступить цивильно, он отворил незапертую калитку и тем самым разбудил истеричный лай собаки. Из огромной будки, в которой мог бы жить человек, на него бросилась маленькая шавочка, плешивая и в блохах, компенсировавшая свою субтильность драчливым нравом, ибо в противном случае ее бы выбросили на помойку и вообще бы отдали приветливым живодерам.
Рудик порылся в карманах, вытащил из них пластинку жвачки и, стянув обертку, отдал цацку глупой собаке. Та, сразу же перестав лаять, начала жадно нюхать и лизать пластинку, лежавшую в пыли.
Он, не стучась, вошел в деревянный дом.
Навстречу ему выехал мальчик лет четырех на маленьком трехколесном велосипеде. Щечки у мальчика были толстыми, как у хомяка. Из-под коротких штанишек высовывались подгузники.
Рудольф Валентинович снова порылся в карманах и, ощущая в груди непознанную доброту, вытащил малышу очередную пластинку жевательной резинки. Увидев ее, малыш отчего-то сдрейфил, очень внимательно посмотрел в лицо вошедшего и укатил на своем велосипеде в глубину коридора.
Белецкий открыл дверь комнаты. Лидка сидела на раскладушке, подперев голову рукою.
– …И чего? – спросил ее Рудольф. – Чего ты меня звала?
– Он меня достал, Рудик!
– Чем тебя можно достать? Каким кайлом? – Он сел на раскладушку рядом и прислонился затылком к стене с ковром, на котором было изображено утро в сосновом лесу.
– Какой же ты все-таки мерзкий, – не сдержалась она.
– Я не мерзкий, у меня просто повышенная кислотность. Так в чем проблема?
– Он слова говорит.
– Кто? Кларк Гейбл?
– Скорее всего, он, – задумчиво согласилась Лидка.
– Какие слова?
– Разные. Я даже не могу тебе передать.
– А все-таки?
– Философию гонит. Дуализм неоплатоников… – пробормотала Лидка. – Вроде загадок.
– Но у неоплатоников, насколько я помню, нет никакого дуализма. Они разрабатывали идею триады, которая преобразовалась у христиан в идею Святой Троицы. – Белецкий сладко потянулся, да так, что кости затрещали. – И я тоже могу загадать тебе загадку. Отчего в Африке выбирают больших жен? – Рудик сделал паузу. – Оттого, что они больше отбрасывают тень.
Лидка с сомнением посмотрела на своего гостя.
– Ты не мерзкий, – сказала она. – Ты просто идиот.
– Идиот, – согласился врач. – Но я раньше не был таким. Мне предназначалось поприще необыкновенное, высокое. От этого трепетало юношеское сердце, и добрый гений смеялся в вышине.
– И когда же у тебя все кончилось? – с интересом спросила парикмахерша, не принимая в расчет его ернического тона. – Когда добрый гений перестал смеяться в вышине?
– Когда я встретил тебя, – ответил Рудольф Валентинович, – и стал делать по три операции в день. Тогда добрый гений призадумался и вскоре ушел куда-то.
– У меня тоже что-то было, – призналась Лидка. – Кто-то дышал мне в закрытые глаза, когда я спала.
– Любовник, – предположил Рудольф.
– Какой, на фиг, любовник? Я девочкой еще была, ты понял?
– Ты разве была когда-нибудь девочкой? Не верю, – буркнул Белецкий. – И когда он перестал дышать?
– Когда я встала у парикмахерского кресла.
– Не грузись ты этим. Не дышит, и ладно, – успокоил ее хирург. – Я тебе дам книгу, чтобы ты отвлеклась, – «Дао и женская сексуальная энергия».
– Кто автор?
– Не помню. Какой-то китаец. Но не Мао Цзедун.
– А что я буду делать с этой книгой?
– Читать, – объяснил он. – Там есть глава, которая тебя заинтересует, – «Тяжелая атлетика для разработанного влагалища».
– Дать бы этой книгой тебе по башке, – мечтательно произнесла Лидка, – чтобы твои мерзкие мозги вытекли бы наружу.
– А кто тогда будет слушать твой бред про Кларка Гейбла?
– Для этого мозги не нужны. Для этого нужно сердце. И попомни мое слово: он скоро всех нас достанет. Никто не уйдет.
В комнату въехал мальчик на велосипеде:
– Мама, я писать хочу!
– Писай в штаны, – разрешила ему Лидка. – Ты в подгузниках… Только не здесь, не при нас, – прикрикнула она, видя, что мальчик начал тужиться и пыхтеть. – Езжай в коридор и писай!
Мальчик послушно завертел педалями и со скрипом выехал в коридор.
– Это очень вредно, моя дорогая, – вкрадчиво объяснил ей Рудик. – То, что ты не приучаешь малыша к горшку.
– А у меня есть время приучать? – окрысилась Лидка. – Может, ты станешь у нас жить и сажать его на горшок?
– У меня же отец на руках, – напомнил ей врач. – И то я его на горшок не сажаю. И твоего малыша тем более не буду.
Лидка хотела ответить что-то резкое, но осеклась. В комнату вошел молодой человек с бритой головой и разными глазами. В руках он держал два ведра с пресной водой, которую накачал из колонки рядом с домом. Это был Игорек, тот самый парень, который прислуживал ей в парикмахерской и говорил с озером в начале нашей истории.
Увидев хирурга, он застеснялся, словно на медкомиссии, и покраснел всеми своими прыщами.
– Еще один малыш, – заметил Рудольф Валентинович философически.
– Не обращай внимания… Это чучело мне помогает, – сказала Лидка.
– Да я так… Чисто онтологический интерес, – пояснил свою позицию Белецкий.
– Ставь на табуретки и иди, – грозно распорядилась Лидка по поводу воды.
Игорь водрузил ведра на табуретки, как просила хозяйка, и начал топтаться, переминаясь с ноги на ногу, силясь сказать что-то, выдохнуть и объяснить.
– Еще работы хочешь? Держи. – Она вручила ему лопату. – Вскопай грядку. Рядом с теплицей. – И неопределенно махнула рукой в сторону окна.
Игорь проследил направление взмаха и увидел за стеклом пролетевшую ворону. Кинув боязливый взгляд на Белецкого, ушел.
– И откуда этот малыш? – спросил Рудик с теплотой проснувшегося отцовства.
– Из парикмахерской.
– Ты его стригла?
– Вот уж нет. У него волосы не растут.
– Значит, они растут вовнутрь головы, – философически заметил врач. – Зачем звала меня? Он бы тебя и защитил.
– Этот малыш хуже, чем взрослый. Вообще во! – И Лидка покрутила пальцем у своего виска. – Прицепился… Ходит по пятам. Ну я и нагрузила его работой.
– Ладно, – успокоился врач. – Аллах ему судья. Покажи мне еще раз визитку своего маньяка.
Лидка полезла в сумочку, начала в ней нервно шарить, наконец в сердцах вытряхнула ее целиком. Из нее вывалились губная помада, тушь для ресниц, какой-то окислившийся ключ и несколько канцелярских скрепок.
– Вот он! – В руках у Лидки был зажат кусочек картона.
– Да, – согласился Рудик, заглянув в него. – Действительно, есть странности. Я поначалу и не оценил.
– Именно!
– Пошли, – сказал он, вставая с дивана. – Найдем его контору и раскрутим это безнадежное дело.
– Спорим, что никакой конторы нет в помине?
– Спорим, что я сейчас засну?
И хирург действительно широко зевнул, демонстрируя свои желтоватые клыки, которые могли перегрызть любого, если бы Белецкий водился в саванне и выслеживал бы в кустах заблудившегося натуралиста.
– Погоди… Я только Лешку поймаю, – выдохнула Лидка, как если бы речь шла о бабочке.
Выбежала в коридор. Ее малыш боязливо сидел на велосипедике у входной двери в дом, втянув голову в плечи, будто опасался немедленной жестокой расправы. Лидка подошла к нему и тепло, по-матерински пощупала рукой его штанишки.
– Пойдем со мной, сынуля. Дядя Рудя хочет угостить тебя конфеткой.
– Я не хочу дядю Рудю, – сказал мальчик.
– Но конфетку ты хочешь?
Лешка не сдержался и кивнул головой.
Тогда она властно взяла его за руку.
– А конфетка сладкая? – поинтересовался малыш.
– Слаще пареной репы.
Лидка стянула его с велосипеда и поволокла за руку в комнату. Малыш, подозревая неладное, слегка упирался и тормозил своими желтыми сандаликами, как тормозит лыжник, когда спускается с горы.
Она втолкнула его в комнату. Рудик равнодушно окинул малыша взглядом, потому что не любил детей чисто онтологически: они напоминали ему о хрупкости всего сущего.
– У тебя есть конфетка? – спросила мать гостя на всякий случай.
Тот пожал плечами и отрицательно покачал головой.
И здесь вдруг Лидка сгребла своего сына в охапку. Истошно заорала, да так, что ветер пролетел по избе:
– Открывай шкаф, идиот!
Рудик вздрогнул от неожиданности. Но все-таки догадался, о чем идет речь. Отворил настежь платяной шкаф… Лидка запихнул туда сына, который уже кричал и кусался, как дикий зверек.
– Придержи дверцу!
Нашла навесной замок, всунула его в специально сделанные на шкафу петли и повернула ключом два раза.
Из запертого шкафа раздался сначала плач, а потом вой и стенание, как у заживо погребенных из рассказов Эдгара По.
– Ты сделаешь из него ницшеанца, – сказал Рудольф, с интересом наблюдая за этой сценой. – Темный шкаф воплотится в тяжелый комплекс. Твой сын будет всю жизнь сидеть в сумасшедшем доме или управлять Россией в ручном режиме.
– Пусть управляет, – разрешила Лидка. – Нас-то тогда в живых не будет, верно?
– Как знать, моя милая, как знать, – не согласился с нею врач. – Я, например, собираюсь дожить до ста двадцати лет.
В доказательство своих слов Белецкий надул во рту пузырь из чуингама, и тот громко прорвался, как лопается воздушный шар.
Изнутри запертого шкафа послышались глухие удары. Лидка взяла в руки швабру и, в свою очередь, дважды ударила ею изо всех сил по дверце. Внутри шкафа все стихло.
– Совершенно потерянное поколение, – вздохнул Рудик. – Как с ними можно иметь дело?