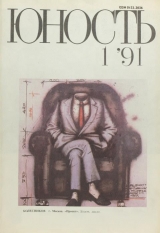
Текст книги "Записки из рукава"
Автор книги: Юлия Вознесенская
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 5 страниц)
Олег и Юлий
Свирепый демон государственности царит в этом мире и даже делает чудеса. Как они умеют «раскручивать» людей, решившихся на разговор с ними! Юл и Олег хотели заслонить, спасти других, и вот…
Нет, с первой секунды и до последней – «ответ один – отказ!».
Многие вступали в игру с ними, но не победил еще никто. Кое-кто выиграл толику малых радостей: получил на пару лет меньше, отделался условным сроком, выехал за границу и даже вывез архивы и коллекции картин. Но какой ценой? Кто знает об этом? И кто теперь эти люди?
– Солнце высоко, колодец далеко. Сестрица Аленушка, я напьюсь из колеи?
– Не пей, братец Иванушка, грузовичком станешь!
Друзья, от которых я, как говорят добрые люди, «высокомерно отвернулась», мне дороже братьев. Но видеть их слабыми я не могла и не хотела. Линия их поведения до сих пор мне не ясна, я не понимаю, в чем тут дело.
Никому, кроме самих себя, они ни малейшего зла не причинили. Дело пострадало от их слабости – это да. Но люди, нет. А мне всего дороже люди. Они и мне с Натальей помогли отбиться. Может быть, они заслоняли не только нас?
И все-таки я против даже самых выгодных сделок с ГБ! Мне будет трудно забыть эту их слабость. Но жизнь продолжается. 6 и 7 лет лагерей – это страшно. Наши лагеря только называются так невинно, почти по-пионерски. Если называть вещи своими именами, то их отправили на каторгу – так это несколько веков называлось! Но и каторга одних убивает, а других закаливает. Они обманули мои ожидания во время следствия и на суде, но главное-то впереди!
И потому я все еще люблю их, как братьев…
6 и 7 лет – уму непостижимо! Ущерб – 10 000 рублей. Что за чушь, если для ликвидации лозунгов властям понадобилось всего несколько часов, а самая большая надпись на Петропавловке была сделана на Государевом бастионе, который уже был предназначен к пескоструйной очистке. Теперь они представляют дело так, что чуть ли не из-за надписи началась реставрация стен крепости; на самом деле она началась еще в мае. И ни слова нигде не было сказано о том, какого рода были надписи. Только борзописец Викторов в своей статье «Пачкуны» назвал эти лозунги «сквернословием». Ну что ж, если слова «партия», «СССР», «КПСС» – сквернословие, то уж я-то спорить с этим не стану!
В 1973 году новгородский житель облил кислотой из огнетушителя фреску Феофана Грека. Ему, видите ли, туристы надоели! Идиотом его не признали. Ущерб был определен в 300–400 рублей. Приговор – два года.
Последовательность и законность нашего судопроизводства умилительны!
Чудо
Сегодня на улице меня окликнули: «Юлия!» Гостиничная знакомая. Постояли, потрепались и разошлись. Но какое это чудо – услышать, как тебя окликает знакомый голос.
Глазами Артура Миллера
А мы потеряли еще одного переводимого западного писателя! По сценарию А. Миллера поставлен фильм «Потолок архиепископа». Гвоздь сюжета в том, что в лепном потолке бывшего кабинета архиепископа, а ныне – кабинета героя (чеха или поляка, не помню), спрятано подслушивающее устройство. Герои произносят правоверные речи, обращаясь непосредственно к потолку, с глазами, возведенными горе. Это еще семечки!
Я иногда казалась себе подопытной собакой, которую опутали проводами и зондами, а в череп ей понатыкали электродов. Собака пытается жить нормальной собачьей жизнью, а вокруг толпа белоглазых вивисекторов обрабатывает полученные данные: столько раз вздохнула, столько-то выработала желудочного сока, тогда-то уснула, тогда-то проснулась.
Удивительно ли будет, если однажды в бедной собаке проснется волк и бросится на своих мучителей? А ведь таких собак много.
Почтовые радости
Утром я встаю и сразу бегу на почту.
– Вам ничего нет.
Второй раз иду после двенадцати.
– Вам ничего нет.
Третий и последний заход – вечером, перед самым закрытием.
– Я уже говорила, что для вас ничего нет. Что вы бегаете целый день, работать мешаете?
Однажды я зашла утром на почту, а потом целый день держала себя на привязи и больше туда не заглядывала.
Прихожу на следующий день утром. Телеграмма!
«31 и 1 буду ждать звонка дома. Целую».
И подпись.
Смотрю на время – телеграмма получена еще вчера днем! И так мне стало жаль себя вчерашнюю, дневную и вечернюю, что я решила плевать на недовольство почтовых девиц и не пропускать больше ни одного захода.
В июне Наташка приезжает свидетелем на мой суд. Готовимся мы к нему, копаясь в моих рукописях. Переписываем эту книгу. Когда я прочла ей эту главу, она схватила письма, с которыми я не расставалась, и, тряся пачкой оных, возмущается: «Мало ей писали? Мало ей писали?!» Гляжу и удивляюсь – а ведь и вправду много!
Страстная неделя
Перед Страстной у меня кончились деньги. Я сказала об этом по телефону друзьям. Но они что-то там замешкались, перепоручили это один другому. Остались у меня только чай и сигареты. И тут я узнаю – Страстная неделя!
Всю неделю постилась и читала Евангелие. Соседки по комнате заметили, что я ничего не ем, и предложили мне денег в долг. Я отказалась и объяснила, почему. Они попросили читать Евангелие вслух. Это было хорошо.
Перед самой Пасхой денег прислали много и со всех сторон. И мы справили Пасху. Все было чудесно. Но больше всего я радовалась тому, что мне удалось соблюсти хотя бы неделю поста. Всего неделю, но зато уж полного! А друзья мои расстраивались и никак не могли понять, за что я их благодарю.
Для меня самое страшное – в Страстях Христовых – ночь в Гефсиманском саду. «Симон! Ты спишь? Не мог ты один час бодрствовать?»
Я жалею, что меня не было в ту ночь в Гефсиманском саду, – я бы не уснула! Я и теперь не сплю эту ночь на Страстной – в память о Нем. А у меня какая длинная ночь спящих друзей!
Я потому не плачу.
Что горше слез моих
Раскрытый наудачу
Новозаветный стих.
Я потому прощаю
Изменникам моим
Что горшие печали
Стояли перед Ним.
Как Он рыдал когда-то.
Две тыщи лет назад!..
Спит, тишиной объятый,
Мой Гефсиманский сад.
Ни шороха, ни ветра
В сугробах февраля.
Лишь редко вздрогнет ветка
Под лапой снегиря.
Я отворю калитку,
Войду в его покой.
Озябшую молитву
Согрею под рукой.
Легка печаль простая
С глазами в облака:
Тот, кто меня оставит,
Не приходил пока.
Весна в Воркуте
В конце апреля солнце стало пригревать. Весна? С крыш, карнизов и балконов закапало. Начали таять великолепные, огромные воркутинские сугробы, эти горы и пригорки, по которым так весело бегали дети и беспризорные собаки. И вдруг стало видно, что никакие это не сугробы, а просто гигантские помойки. Некоторые достигали второго этажа.
Через несколько дней вновь ударил мороз, налетела метель. Снег опять запорошил помойки самым приятным для глаз образом. Теперь я уже знаю, что скрывается под этим пушистым снежком, и старательно обхожу все возвышенности. Но, увы, это почти невозможно, ибо невозмутимые воркутинцы протаптывают тропинки напрямик, по сугробам и по помойкам.
Вот теперь мне понятно, почему в шикарных приемных воркутинского «верхнего» начальства по персидским коврам бегают тараканы. Наташка уехала…
«Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на ветвях дубов».
Воркуту замело майским снегом. Где-то скрипит, затворяясь за тобой, еще одна дверь. Тянет впасть в новую спячку – Наташка уехала! Больше мне ничего не покажут.
Приехала она, нашумела, упустила часть привезенных бумаг в мелкий омут местной кагебни, растормошила меня, закормила икрой – чушь какая-то. Но зато привела ко мне друга – Женю Пашнина. Сколько лет ходили к нему, а теперь вот он ко мне ходит, передачи в больницу носит. Принес лекарство для глаз: альбомы Модильяни, Шагала, Лотрека, Пикассо.
А Наташка все равно уехала!
Еще один подарок правосудия
Я давно уже заметила, что перестала видеть в сумерках. Сегодня проверила зрение – 0,07 оба глаза. Неужели это так серьезно? А как же путешествия, отложенные на старость? «Увижу ли Бразилию до старости моей?» Ведь этак и Мордовии не увидишь! Обидно.
«Если можно, пронеси чашу сию мимо меня! Но не как хочу, а как хочешь Ты».
Город ледяного дьявола
В Воркуте нет ни одной церкви! Ни одной!
Этот город построен по черному замыслу и на крови. Жизни здесь никогда не будет. Недаром здесь не хватает больниц и врачей. А стоит человеку уйти отсюда на год – город развалится, сгинет, а через пять лет уйдет в небытие. Нужны ли такие города? Уголь? Пожалуйста, добывайте уголь, но зачем заставлять людей обживать необживаемое, неживое? Дети болеют, женщины некрасивы и рано старятся, мужчины выглядят переодетыми каторжниками. И все считают деньги! Каждый семилетний воркутинец знает, сколько стоит цветной телевизор!
И вновь закрытые двери…
Псориаз начался у меня еще в тюрьме. Врачи очень хорошо знали, что север мне противопоказан, но я уже писала о том, что такое тюремные врачи. В Воркуте псориаз меня истерзал. И форма очень противная – экссудативная. Впервые он покрыл меня всю, до ступней ног. По утрам я не могу встать на ноги до тех пор, пока не размочу все корки в горячей воде. Хожу и вспоминаю бедную русалочку – «будешь ходить по ножам и бритвам…» Болит и все тело. За что это мне?
Когда в 68-м году у меня начался псориаз, я не роптала: я считала, что несу свою долю наказания за чехословацкие события. А за что теперь? Пытаюсь объяснить это так: судьба решила сконцентрировать все беды, выпадающие на долю жертвы судебной расправы, чтобы я сразу всему научилась и все выдержала. Ну что ж, объяснение это ничуть не хуже любого другого. Но сомневаюсь, чтобы меня можно было сломить духовно через физические страдания, уж извините! Мы, бабы, народ выносливый!
Но почему ты мне не звонишь и не пишешь? Забыл? Нет. Беда? Но какая? От кого я узнаю, где ты и что с тобой?
Единственное письмо зачитано так, что я без страха оставляю его в комнате, когда ухожу: ни один чекист не разберет!
Не вижу снов, не вижу лиц,
Свернулось в кулачок пространство.
Так далеко от двух столиц
Метель играет постоянство!
Как будто кокон надувной
Или яйцо, лежит больница.
В сугробы выронила птица
Ее и плачет надо мной.
В желтке больничного яйца
Дремлю. Никто меня не будит.
Глаза разлив на пол-лица,
Гадаю: будет иль не будет?
Давно спуститься вам пора
В чистилище мое простое,
Где я, как ангел на простое,—
Живу без крыльев и добра.
Флейтистка вылупится к лету —
Легка, светла, полуодета,
Касаясь тундровой травы,
Взлетит и скажет: «Это Вы?»
Я довольно долго маялась с направлением в больницу – все не было мест. Уже всем позвонила, со всеми простилась, просила писать почаще. И вот я в больнице. Это здание барачного типа, насквозь прогнившее. Все трубы протекают, батареи не греют, двери в палатах не закрываются. Но зато двери на улицу почти всегда на запоре: половину больницы занимают венерические больные.
Первые ночи в больнице я почти не сплю, хотя мне сразу стали давать снотворное. По ночам я ухожу в ванную и там курю. Туда приходят крысы на водопой. Я их не боюсь, а с одной даже познакомилась. Я зову ее Норой, Норкой, Норочкой.
А вот врачи в этом сарае ничуть не хуже ленинградских. Лечат вполне добросовестно. Я изо всех сил буду стараться поскорее избавиться от псориаза, чтобы не оттягивать нового суда. Скоро лето, пора в лагерь!
Что могут двое?
Теперь у меня есть друг, такой же ссыльный, 19 лет лагерей и тюрем, дважды – Владимирский Централ. Кавалер ордена Св. Владимира II степени, Евгений Пашнин. Он пишет хорошую, честную прозу. Я уже полгода не читала никого, кроме себя, а этот автор мне уже изрядно поднадоел. Женя добр, благороден, весел, щедр на хорошее. Он приносит мне все письма от своих друзей. Мне немного завидно – мои-то пишут так редко! Но я радуюсь за него и жадно глотаю информацию. А какие книги приносит мне Женя в больницу! Какие журналы! Даже приемник принес. Но… Время разлук, время разлук! Значит, скоро с Женей расстанемся. А как жаль: ведь мы бы многое могли сделать вдвоем, тем более что у меня-то уже есть круг друзей, разделяющих мои убеждения. Что могут двое? Многое. И первое – поддержать друг друга. Букет сирени на тумбочке – три дня хорошего настроения.
Е. Пашнину
Чем поделюсь с тобой? Легка
Изгнанническая котомка.
Чужого снега белизна
Болезненна и монотонна;
И ослепительно горька
На нем тропа Кассандры русской.
И нет ни птицы, ни зверька,
Чтоб покормить с ладони узкой.
Воспоминания
Чем можно заниматься в больнице, если глаза устают от чтения уже через час? Писать легче: я не читаю того, что пишу. Перечитываю потом, специально. Стихи не пишутся – больна. И вот я начинаю вспоминать все-все-все. Боже мой добрый! Как прекрасна была наша жизнь, как мы умели жить! А ведь и впереди все то же, черт меня возьми!
………
Я не люблю зиму, зимой я сплю, как дерево. И зима, как бы в отместку, почти не оставила мне воспоминаний.
Вот разве первая зима на Свири. Мы живем в бывшем купеческом доме, на втором этаже. Какие чудесные были утра! В большой печке трещат дрова. На ковре младший сын возится с Дозором, рыжим приблудным псом. В окнах сплошное кружево заиндевелых деревьев – мы даже занавесок не заводили, – а за ними белая широкая полоса Свири и черный лес на том берегу. И солнце, солнце, солнце! Почему меня не сослали в какое-нибудь такое же место? Я так соскучилась по деревьям.
………
Дождь в Ириновке. Я собираю вишни с самого большого из матушкиных деревьев. Дождь теплый, но так и лупит по вишням, по рукам, по листьям. Ягоды я отвезу Олегу, Юлу и Наташке. Подставляю лицо дождю, срываю ягоды губами, смеюсь сама с собой и знаю, что этот дождь среди вишен не забудется. Вот и не забыла. Но ягоды – к слезам!
………
Мне не нравится дом Юла – холод напоказ. Он звонит и просит срочно приехать. Еду с досадой, приезжаю хмурая. Разговор, очень важный, от которого, кстати, многое зависит в будущем следствии по делу № 62, не получается, не клеится. Я решительно встаю и ухожу. А по улице летит навстречу сильнейший ветер с залива. Я останавливаюсь, задыхаюсь в восторге – люблю ветер! Тут и Юл догоняет меня, и мы едем в центр. Там уже нет этого пиратского ветра с залива, да он и не нужен больше: мы уже помирились, бродим, взявшись за руки, по набережным, и разговор наш, очень важный, идет легко, мы друг друга понимаем с полуслова. О чем тогда договорились, на том я стою до сих пор. А ты, Юл? А когда-то я писала: «Нас только двое на этой пустынной дороге», – и это казалось правдой.
………
Высокий ириновский туман клубился в вершинах старого парка. Мы стоим на обрыве, но туман поднялся и сюда. Стволы едва-едва проступают сквозь серебристое молоко. Султаны иван-чая, влажные и тяжелые, качаются возле самого лица. Тебя я не вижу совсем, только глаза – темнеют и приближаются.
Запрокинутой голове
Было зелено в траве,
Было зелено, было молодо…
А теперь мне бело и холодно.
………
На песчаном берегу я играю с сыновьями в индейцев. Мы бросаем дротики из тростника, прыгаем через костер, с дикими криками догоняем друг друга и боремся. Мои друзья, которые все моложе меня, с завистью глядят на нас.
Сыновий лес на берегу, белый песок, белые барашки, синяя вода, синее небо. Свобода! Вот физически ее еще можно почувствовать в редкие минуты счастья в этой стране.
………
Я веду тебя на могилу моего друга, погибшего в прошлом году: ты должен сделать эскиз надписи на камне. Памятника еще нет. Холмик в цветах, и деревянный крест над ним. Я сажусь в траву по одну сторону могилы, ты – по другую. Молчим. Это тихое деревенское кладбище, полное деревьев, цветов и птиц.
С криком пролетает над нашими головами ворона и роняет перо. Оно, кружась по спирали, опускается вниз и падает возле тебя. Ты поднимаешь его и протягиваешь мне над могилой. Я вставляю перо в волосы, мы поднимаемся и уходим. Нас ждут друзья.
………
Утром расцвел клен, а к вечеру пошел снег. Падает и застревает в желто-зеленых зонтиках. Взбитые сливки в золотых бокальчиках, Золушкин бал.
Звонил муж и сказал, что клен уже снова цветет. «Как же это – без меня?»
………
Однажды в Ириновке мне очень захотелось, чтобы ты приехал. Я шла по дороге под гору. Вдруг мимо меня проехала изукрашенная машина – цветы, шарики, куколки. Свадьба. «Хочу красный шарик и хочу, чтобы ты приехал», – подумала я. В ту же секунду от машины оторвался красный шарик и полетел назад, прямо ко мне в руки.
Дома я не отдала шарик детям, а привязала его к раме окна и все на него поглядывала. Когда через час я увидела в окне тебя, идущего по тропинке к нашему саду, я ничуть не удивилась.
………
Однажды мы должны были доставить Б. один важный документ. Нас «пасли» от самого дома. Восемь часов мы уходили от преследователей, дважды возвращались в центр города почти от самого дома Б., живущего на окраине.
На Сенной мы почувствовали себя «чистенькими». Но не хотелось рисковать важной бумагой (Ох! Документ в защиту Трифонова!), и мы решили побродить по старым улицам, по Екатерининскому каналу.
– Давай зайдем к Раскольникову! – предложил ты. – А вдруг сегодня дверь окажется открытой?
Все знают эту «дверь в каморку Раскольникова», но она всегда заперта, и мало кто верит, что за ней действительно была комната, а не обыкновенный чердак.
Подошли мы к дому Раскольникова и видим: он поставлен на ремонт. Окна заколочены, ворота закрыты на цепь с большим замком. Ты подошел, потрогал цепь, толкнул ворота – и они медленно отворились: замок не захватил одной из половин. Мы вошли во двор, свернули к заветной лестнице. С тайным предчувствием чуда поднялись к чердачной двери. Остановились.
– Ну? – сказал ты.
Я тронула дверь, и… она распахнулась!
За дверью сияло солнце. Из-под наших ног с писком взлетела стая голубей и закружилась над нами.
От дверей прямоугольником лежали толстые почерневшие доски. На правой половине они были стоптаны наполовину. Значит, здесь все-таки была комната! На правой стороне – остатки стены, на левой – развалины печки. Дом начали разбирать, сняли крышу – вот откуда солнце в каморке Раскольникова!
Когда мы уходили, ты вдруг остановил меня за руку и показал глазами на край чердака: вся крыша была по периметру обтянута веревкой с красными флажками. Облава!
На следующий день арестовали Трифонова, а там пошло и пошло!..
Под тихую музыку
Совсем молодая девушка, осмелившаяся не скрывать своей дружбы со мной, сразу же оказалась в центре внимания моих мелких надзирателей: на нее донесла комендант общежития Айна Яновна Лубганц. Беднягу подвергли незаконному обыску, а затем вышвырнули из общежития на улицу. Я в это время уже давно лежала в больнице и могла помочь ей только советами. Пошла моя Галина по инстанциям: к начальнику паспортного стола, к начальнику милиции, в городской отдел КГБ. «На каком основании меня выгнали на улицу?» – спрашивает. Никакого ответа, никто ничего не знает. Вернее, все знают, что прописать назад нельзя, а вот почему – никто толком объяснить не может. Играет тихая музыка КГБ, все под нее пляшут кто во что горазд. Еще противнее, когда в этой тайной вакханалии беззакония участвуют женщины.
Я отправилась на день из больницы и пообещала этой Айне Яновне разрешить вопрос с Галкиной пропиской, а заодно и с незаконным обыском через генерального прокурора. Сама Галка тоже многое обещала. Прописали – но в другое общежитие. По соседству с Женей Пашниным…
Почтовые горести
У Жени тоже пропадает половина писем. Мы думаем, что это проделки местной кагебни. Я теперь посылаю ценные письма с уведомлением о вручении. Приходят очень миленькие уведомления: «Письма имеются в наличии… в почтовом отделении таком-то». А зачем мне их наличие в таком-то? Мне нужно, чтоб они были в наличии у моих друзей. Вот выйду из больницы и начну их трясти. Сколько было горя и обид из-за пропавших моих грамот! И ведь воруют все подряд, даже мою, простите, любовную переписку! Ох, и крохоборы…
Опять «ехать – не ехать»!
И до сих пор я все спрашиваю себя, уеду ли я на Запад после ссылки? Теперь, когда мне грозит год заключения в лагере, а затем отбывание ссылки заново, получается, что я освобожусь вместе с последним из наших – с Олегом Волковым, которому осталось сидеть 6 лет и 3 месяца. Тогда я уже вправе буду думать об эмиграции.
Свободы хочу до смертной тоски. Очень хочу родить еще одного сына и вырастить его в свободном мире. Годы и силы еще позволяют об этом мечтать. Пугает другое: никто из наших еще оттуда не возвращался. А вдруг я в Париже затоскую по Летнему саду так же, как тоскую здесь, в Воркуте? Отсюда я могу вернуться, в крайнем случае сбежать. Но и здесь ностальгия тяжела: говорят-то не по-русски, а по-советски. Одни воспоминания остались!
Я в Вандомском лесу
Пил березовый сок.
Хотя бы на час попасть на Жуковскую. Да что там – на Сенатскую, к Петропавловке, на Литейный, черт побери!
Но вот я слепну. Так что же, так я никогда и не увижу Больших бульваров, не увижу Афин и Рима? Если через шесть лет я ослепну совсем – а ведь ослепну в этих краях, непременно ослепну, чтоб только не видеть этих лиц! – куда же мне тогда ехать? Все так еще неясно…
Россия, Лета… лотерея!
Родина, свобода, счастье, честь.
Половина там, половина – здесь.
Ленинград – Воркута, 1976–1977








