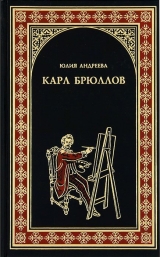
Текст книги "Карл Брюллов"
Автор книги: Юлия Андреева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 13
На следующий день я был вынужден отлучиться ненадолго в манеж, а когда вернулся, застал Аполлона Мокрицкого, с обреченным видом читающего перед моим семейством, Леночкой Солнцевой и Карлом, роман Лажечникова «Ледяной дом». Судя по выражению его лица, прочитал он уже порядком и устал. Во всяком случае, выполнял свою работу вяло, что называется, без огонька.
– Вот, милый Петр, поглядите, какие пошли нынешние художники?! – С насмешкой рекомендовал чтеца Карл. – Да ты не думай, что это я его так заездил. – Балы, гости, барышни… а дело стоит!
«Распятие» мое давно начато, да так и торчит посреди мастерской, его милость к нему вовсе не притрагивается, с ерундой носится, моим учеником прилюдно называется. Точно на икону, каженный день ходит на «Помпею» глазет, и еще гостей водить повадился! Никакого спасу нет! Попытался было его к письму принудить, создать из Мокрицкого второго Джорджо Вазари, да зарекся давно уже. Ах, – Карл в сердцах махнул рукой. – Лень, праздность, любовь лясы точить, по гостям бродить, по чужим мастерским ошиваться, барышням строить куры, амуры крутить. Ничего-то вы в своей жизни, сударь мой, не сделаете таким манером! Только место чужое занимаете. Попомните мое слово: возьму я вместо вас того офицера Федотова [31]31
Имеется в виду Павел Андреевич Федотов – живописец, график.
[Закрыть]! Ох, из него толк выйдет! Помяните мое слово – выйдет.
При упоминании о барышнях Солнцева прикусила нижнюю губку, так что мне жалко ее стало.
– Бог с тобой, Карл, – начал я примиряющее, обнимая задиру. – Сам же, небось, и подсунул Аполлонусей роман, как это у тебя заведено. Сколько раз я лично слышал, как он, бедный, ночью и днем перед тобою сидит и страницу за страницей читает. Право, твоя в том вина, что он вместо дела тебе старается угодить. Сам виноват, а потом скидываешь с больной головы на здоровую. По совести, половину из того, что Аполлон или другие ученики тебе читают, из нашего окружения, пожалуй, один ты разуметь и способен. Не о Лажечникове, не о Пушкине говорю, а об астрономии твоей, в коей лично я, признаюсь, мало что смыслю.
Вот и сейчас, готов биться об заклад, что едва только Аполлон шагнул через порог, как ты его тут же к этому делу и приставил, да еще и зрителей собрал. Скажешь, не так?
– Сей роман я в третий раз перечитываю, – уже спокойным тоном ответил Карл, вот и сегодня читал я для Елены Кузминичны, Машеньки Петровны, и самой прекрасной в мире Уленьки, когда этот ленивец в гости из гостей заявился. А впрочем, ты мне зубы не заговаривай. Что с того, что я предложил ему сменить меня, пока я горло промочу кисельком? Я о том, что в остальное время он трудиться отказывается, живет, точно трутень, а много ли ты видал, брат, трутней-то, лодырей прописных, в художниках?
Я с невольной жалостью посмотрел на Мокрицкого.
– Все так. Все, как вы говорите, Карл Павлович, – очень сдержанно начал он. – Тем не менее, вы не поверите, сколь важно для меня все, что вы говорите. Как ценю я то время, что вы мне уделяете, даже когда заставляете читать непонятные мне самому тексты, само ваше расположение… Как счастлив я возможности находиться подле вас, ежедневно наблюдая вашу работу.
– Вот именно, я буду работать, а он – наблюдать, получая от этого удовольствие! – съязвил Карл.
– За одно только счастье бывать у вас, слушать ваши мудрые наставления я готов вытерпеть и в десять раз более того, что уже вытерпел от вас. Несправедливых попреков, и…
Несправедливых?!
Впрочем, я не скажу более ни слова. И если любой на моем месте давным-давно бы обиделся на вас и ушел прочь, я буду терпеть обиды и спокойно делать свое дело.
– Ах, оставьте! – Карл вскочил с места и начал расхаживать по комнате, – оставьте, мне нет никакого дела до того, будете вы делать что-нибудь в этой жизни или бросите все к чертям!
Услышав очередную отповедь, Мокрицкий побледнел, точно мертвец, и, склонившись перед Карлом, зашептал, что не хотел так разозлить его, умолял не гневаться. К его просьбе присоединились Уленька и Леночка, на что Карл с достоинством кивнул Мокрицкому, процедив сквозь зубы, что не стоит Аполлон его высочайшего гнева, после чего, взяв под руку Солнцеву, спустился вместе с ней в столовую.
Вся эта сцена неприятно подействовала на меня. Потому как Карл, безусловно, гений, но в его нынешнем положении небезопасно эдак разбрасываться сторонниками, будь то хотя бы и Мокрицкий. Тоже ведь непоследний человек, многие полезные знакомства имеет, в приличные дома вхож. За Карлом, как за маленьким, ходит. Великий в любое время дня и ночи может оторвать его от дел, поднять с постели, заставить читать вслух или отправиться с ним на другой конец города смотреть какую-нибудь блеснувшую в свете красотку. А что за это он получает? Ну, кроме уроков и самой возможности находиться близ признанного светила? Карл давным-давно обещался нарисовать портрет Мокрицкого, а так до сих пор и не приступил. Понятно, Аполлону обидно, а тут еще и компанию себе, прости господи, завел. Ладно, Нестор Кукольник, известный поэт, а Пьяненко этот, или скажем, матерюжник Михайлов? Последнего так вообще в приличное общество звать не след. Лично я не пожелал бы, чтобы этот господин затевал разговоры с моей женой или маленькой дочкой. А Карл, мало того, что его своим ученичком сделал, сам к нему домой зачастил, себя позорит.
Можно подумать, будто мне не нравится, что он, Гришка Михайлов, бывший крепостной господ Демьяновых, получил вольную за 2000 рублей, так сие вздор и ничего больше. Не баронским титулом я дорогу себе в искусстве пробивал. Да и простым людом никогда не гнушался, возьмите хотя бы Тараса Григорьевича Шевченко, с коим весьма дружен Карл. Замечательный пиит, да и художник отменный. Подлинный самородок, хоть и крепостной до сих пор. Но об этом скорее кручиниться нужно, краской заливаться, нежели хотя бы малое пренебрежение выказывать, потому как стыдно перед Европой, что до сих пор барин его при себе держит, а стало быть, в любой момент может хоть на конюшню послать, хоть в поле.
Уже год, как Карл по этому делу радеет, да все не впрок, ни за что не желает упрямец Энгельгардт птицу на волю отпускать. А после того, как сам Брюллов, к которому государь с государыней в мастерскую частенько просто так, по-свойски, захаживают, лично с визитом к помещику клятому заявился и битый час перед ним распинался по поводу таланта его крепостного, тот будто еще больше утвердился, что Тарас – непростой мазилка и за него большую деньгу получить можно. После чего утомленный бесполезной поездкой Карл охарактеризовал Энгельгардта как самую крупную свинью в торжковских туфлях, но от дела не отступил, а вместо себя Сошенко прислал, чтобы тот договорился о цене выкупа. Если я правильно понял, именно Иван Максимович в свое время привел к Брюллову Тараса, которого нашел в Летнем саду, срисовывающего там статуи. Но Сошенко в свои силы после брюлловского фиаско уже не верил и оттого перепоручил миссию профессору Венецианову Алексею Гавриловичу, но и у того ничегошеньки не получилось. Вот ведь как бывает: Венецианов государя убедить способен и проделывал это многократно, а с обычным помещиком по душам объясниться… увы! Да и есть ли у него душа?
Меж тем Тарас Григорьевич совсем отчаялся обрести свободу, и говорят, руки на себя хотел наложить. Тогда за дело взялся Василий Андреевич Жуковский, который не стал разглагольствовать по поводу великого таланта крепостного, о коем Павел Васильевич Энгельгардт, без сомнения, знал, ибо отдал Тараса еще несмышленышем в обучение сначала преподавателю Виленского университета – портретисту Яну Рустему, а затем к «разных живописных дел цеховому мастеру» Ширяеву. Не стал Василий Андреевич прибегать к аллегориям, сравнивая крепостного гения с птицей в клетке, а попросту предложил помещику сумму, от которой тот не смог отказаться – 2500 рублей. Так вот, деньги эти до сих пор не собраны, сам Карл из бескорыстной любви пишет нынче портрет Василия Андреевича, дабы устроить лотерею и получить деньги для выкупа. Впрочем, как он пишет, «у меня сидит и ждет, когда я ему рапорт на высочайшее имя составлю?» Шутка ли сказать – рапорт на тему, которая скорее для анекдотов самых скабрезных, нежели для официального документа, который еще неизвестно, сколько лиц читать станут, и затем шептаться начнут по углам, пальцами показывать. Тогда уж Карлу точно не в Италию, а в Африку, в дикие саванны, в пустыни бежать придется.
А мне как сие написать? Вот если бы лично, с глазу на глаз, если бы за стаканом пунша… густо дымя сигарой, не стесняясь в словах и выражениях, разъяснить Бенкендорфу, что курвой оказался цветок эдельвейс, что барышня еще с беспечного детства имела неодолимую склонность спать со своим папенькой и после венчания сию страсть не утратила. Что Карл – жертва, а никак не преступник, как принято теперь считать.
Как же гадко все выходит на бумаге и как просто, почти по-солдатски, можно было бы все рассказать Александру Христофоровичу!
Нет, боюсь, не получится у меня неприличные дела приличным манером излагать, да еще и на бумаге.
А что, коли государь поинтересуется относительно доказательств прелюбодеяния? Или свидетелей потребует? – Каких свидетелей?! Разве ж такому делу можно сыскать свидетелей, тому, что между мужем и женой или четой любовников происходит?
Повариху, я слышал, Эмилия сама нанимала, так что та показания против благодетельницы не даст. Лукьян?.. этот вообще молчун, каких мало. А начнут учеников да друзей, которые в доме Брюллова днюют и ночуют, спрашивать. Так доброй половине этой публики веры нет, ибо соседи засвидетельствуют пьянство и гульбу непрекращающуюся. Пойдут грязным бельем трясти – не остановишь. А писать что-то нужно? Спасать Карла необходимо! Потому что в таком состоянии он не то что портрет Василия Андреевича не доделает, Тараса из неволи не вызволит, а вообще как бы чего над собой не сотворил, тоже ведь не чурка деревянная, с чувством человек, с понятием…
А тут еще эта компания, этот, прости господи, Михайлов! И что Карла тянет ко всякой сволочи?..
* * *
Из записок Петра Петровича Соколова, племянника К.П. Брюллова:
Через год после неудачной женитьбы и шумного развода в доме Брюллова разразится очередной скандал. Григорий Карпович Михайлов обвинил Карла Павловича в том, что тот соблазнил его сестру. Но поскольку девица призналась, что вступила в эту связь добровольно и по любви, Григорий Карпович обещал не доводить до суда и не распространяться по поводу поведения своего наставника, профессора Карла Павловича Брюллова, в обмен на то, что дядя напишет ему две картины на те темы, какие Михайлов сам ему укажет. «Прикованный Прометей» на золотую медаль, и еще одну, героиней которой выступит непременно сестра Михайлова. Сюжет также был любезно предложен оскорбленной стороной. А именно: юная девушка, одетая в народный костюм, кается пред иконами в церкви.
Карл Павлович был вынужден согласиться, и его «Прометей» получил золотую медаль, дав Григорию Карповичу возможность выехать за границу. Вторая картина, «Девушка, ставящая свечу перед образом», была тоже выполнена моим дядей и затем подписана его учеником.
Запись в дневнике Клодт фон Юргенсбург, баронессы Иулиании:
Я действительно слышала широко известный ныне анекдотец относительно того, будто Карл Павлович написал две картины за своего ученика Григория Карповича Михайлова, дабы прикрыть таким образом грех. И хотя лично я не знакома ни с Григорием Карповичем, ни с его сестрицей, но видела обе картины и могу сказать, что они действительно написаны в брюлловской манере, но только и всего. Ученики обречены поначалу в чем-то повторять своего учителя, иначе какие же они ученики? В «Нарциссе» Брюллова явно читается его учитель Иванов… Если кого-то когда-нибудь будет интересовать мое мнение на этот счет, то я с уверенностью скажу, что господин Михайлов, по всей видимости, весьма талантливый копиист, но в скором времени, дай бог, мы увидим и другие его произведения, созданные уже его личным трудом и душевными страданиями, а не только желанием непременно подражать гению своего великого учителя.
Что же до пикантной истории, то… об этом я предпочту деликатно не распространяться, ибо не верю в нее с самого начала, потому как если бы и имела место амурная связь, Карл Павлович – достаточно свободомыслящий человек для того, чтобы не побояться общественного мнения и жениться вторично, пусть даже и на бывшей крепостной. Да, если бы он действительно любил девицу Михайлову, не знаю ее имени, он с презрением отринул бы общественное мнение и повел ее под венец. Если же этого не произошло, а после первой неудавшейся женитьбы Карл больше не вступал в брак, стало быть, никакой любовной связи здесь и не было.
Глава 14
…вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить.
Из письма Н.В. Гоголя А.С. Данилевскому, апрель 1837 года
– О, Италия… высокое голубое небо, спеющий на солнце виноград, вино, сыр, оливки… простая, часто бессмысленная жизнь. Там, где, казалось бы, еще вчера проходили знаменитые сражения, ныне пасутся коровы и звучит тихая свирель. Львов заказал картину «Эрминия у пастухов», я писал «Вакханалию». Каждый день маслом, сепией, акварелью, просто карандашом рисовал на улицах города или за городом. Здесь все интересно!
Начинал и бросал, вновь брался за кисть, но увлекали новые идеи, идей было много. Так много, что за жизнь всего не переделаешь; для памяти старался зарисовывать ускользающие картинки. Можно сохранить в памяти сюжет, а как быть с самим желанием писать? С охотой, которая пуще неволи? Как сохранить, отложить на завтра душевный пламень? Десятки начатых картин, и из них лишь «Дафнис и Хлоя» закончена и может быть представлена господам из Общества поощрения художников. Прошла итальянская зима, зима без снега, но пасмурная и прохладная, когда вдруг становится неуютно на улицах, и приходится подолгу сидеть с друзьями в остериях [32]32
Остерия – трактир в Италии.
[Закрыть], потягивая вино и то и дело поглядывая на небо, не проглянет ли солнышко. От стола в мастерскую или, завернувшись в плащ, идти смотреть старых мастеров. Приходится сокращать прогулки, временно отказаться от пейзажей и уличных зарисовок. То есть рисовать только в помещении, в противном случае можно подцепить навязчивую итальянскую лихорадку, которая донимает с закатом солнца.
Впрочем, шарф потеплее на шею, шерстяную или фланелевую фуфайку, тот же плащ – и вперед. Щедрин не пропускал ни одного дня, даже когда дул ледяной ветер. Героический человек! Я же в ту пору близко сошелся с князем Григорием Ивановичем Гагариным, знакомство с которым свел еще в Петербурге. Теперь же часто гостил у него в местечке Грота-Феррата – настоящем замке в двадцати милях от Рима.
Главное – успеть, поймать, сохранить. В Италии можно смеяться, падая от усталости на скамью дешевой харчевни, смеяться в постели с незнакомкой, радоваться жизни в нищете и богатстве. В России в то время было проблематично найти повод для безмятежной улыбки.
В домашнем театре у Гагариных ставили «Недоросля». Семенова играла госпожу Простакову, и как играла! Впрочем, она единственная из нас настоящая актриса, остальные же… не актеры – персоны более чем известные, кроме семейства самого князя – художники – академические пенсионеры, ваш покорный слуга в роли Вральмана! Карл вскакивает с кресла, шутовски раскланивается перед несуществующей публикой. Еремеевна – известный тебе Гальберг. Сын Григория Ивановича, Гришка, писал декорации. Можно сказать, почти что все сам сделал, я так, – он подмигивает, – на правах подмастерья, краски растирал.
Самого Гагарина писал дружески, и не один раз, потому как лицо уж больно выразительное, с сынишки его тоже портрет сделал. Не скрою, привязался я тогда к мальцу, вместе на этюды ходили, вместе красили, вместе легкое винцо из одного бурдюка потягивали, заедая свежими, только что испеченными лепешками. Красота! Портрет княгини Гагариной с сыновьями тоже весьма удался… хорошие были денечки, м-да… «Недоросль» отменно прошел. Все очень смеялись. Италийский, ради которого весь сыр-бор и затевался, так веселился, что чуть с кресла на паркет не рухнул!
«Жаль, – говорил, – Денис Иванович сего спектакля не лицезрел и декораций дивных не видел». – Он вновь подмигнул мне, очень довольный, что я понял его намеки правильно.
– А ведь он – Италийский – лет за двадцать до этого слушал «Недоросля» в исполнении самого автора! Знал, о чем судил.
Вообще спектакль этот ужасно смешной, потому как для каждого понятный. Помню, в Петербурге видел, как некоторые господа во время действия от полноты чувств кресла свои о пол в щепки разбивали! Право слово, вот так стояли и креслом о пол стучали. Даже те, кто до сих пор по Руссо своих деток воспитывает, улыбки сдержать не умели. Потому как Денис Давыдович гениально по господину Руссо в этом произведении проехался, камня на камне не оставил. «Вот, – думаю я, – что коли мой папенька по этой методе нас с братьями да сестрами начал учить, что бы из нас вышло, когда сам Жан Жак пишет, что нельзя детей малых читать заставлять, а пущай мальчики лет эдак до двенадцати живут на природе, бегают, играют и все себе примечают. Ага. Как Митрофанушка, который из деревни не вылазил и ничему до отрочества не обучался. Пусть мальчик сам навострится выводы делать! Что дверь, которая к сараю прилагается, это прилагательное, а та, что сама по себе существует – существительное. А Софья? Софья-то – мудрость? Так и вовсе дура блаженная – идеал девушки, воспитанной по Жан-Жаку Руссо!»
Тем не менее, портреты гагаринского семейства у господ Гагариных и остались, мне же всенепременно нужно было что-то сотворить для Общества поощрения художников. Вот только что?
Пусть теперь говорят, что я специально тянул, слезно моля подарить сюжет из отечественной истории, в то время как ничего подобного в Риме делать не собирался, а только для вида. Но только в то время я как думал? Сюжеты из отечественной истории очень хорошо шли именно в России, и чтобы доказать, что я не за пустяками в Италию явился, что не на гулянки деньги Общества перевожу, а дело делаю, нужно было писать либо что-то патриотическое либо из Священного Писания. Впрочем, греческие мифы тоже неплохо шли. Но в любом случае хотелось, чтобы они сначала одобрили выбор, а уж потом малевать.
Попадались ли тебе, Петр, «Отечественные записки» [33]33
«Отечественные записки» – русский ежемесячный журнал, издавался в 1820–1830 гг. в Петербурге П.П. Свиньиным. Журнал печатал материалы по русской промышленности, этнографии, истории, знакомил читателя с произведениями писателей из народа (Е.И. Алипанов, Ф.Н. Слепушкин и др.).
[Закрыть]?
Я кивнул, не желая прерывать увлекательный рассказ Карла.
Была там, не помню уже, в какой статье, строка, не дающая мне покоя: «Живописец и Ваятель – не менее Историка и Поэта могут быть органом патриотизма» [34]34
Автор Н.М. Карамзин.
[Закрыть]. Каково?!
Даже не знаю, – я пожал плечами, – признаться, мне никогда не нравились излишне напыщенные, словно украшенные орденскими лентами и бантами фразы, но этим мы, должно быть, и отличались с Карлом.
Впрочем, я все время надеялся, что они мне сами поручат тему выбирать. Чтобы от души вышло. А они… ну, не мог я писать русскую тему, смотря на развалины Колизея. Тут ведь все едино с натуры работать надо, не как-нибудь. Нешто я помню ту же Псковскую крепость или знаю до деталей, как выглядят настоящие московские шубы? Ну да на подобные предложения у меня всегда наготове мнения Торвальдсена и Камуччини имелись, которые я сам и изготавливал, дабы сих гениев лишний раз от дел не отрывать.
Предложит Общество, скажем… «Иисус благословляет детей», а я им в ответ: «Камуччини не советовал», так они больше с вопросами и не лезут, новую тему обсуждают. Решат, а я уже им в ответ торвальдсеновские слова, якобы им произнесенные, пересказываю.
– Только ты это не записывай, Петя, потому как обидятся.
Глава 15
Что за земля Италия! Никаким образом не можете вы её представить себе. О, если бы вы взглянули только на это ослепляющее небо, всё тонущее в сиянии! Всё прекрасно под этим небом; что ни развалина, то и картина; на человеке какой-то сверкающий колорит; строение, дерево – дело природы, дело искусства; всё, кажется, дышит и говорит под этим небом. Когда вам всё изменит, когда вам больше ничего не останется такого, что бы привязывало вас к какому-нибудь уголку мира, приезжайте в Италию. Нет лучшей участи, как умереть в Риме; целой верстой здесь человек ближе к небу.
Н.В. Гоголь (письмо к Плетнёву)
– Италия! О, эта вечная строптивица Италия! Уже не революционная, украшенная трехцветными кокардами и поясами. Теперь в Италии каждый мог оказаться под подозрением в крамоле. Дай оплеуху не соображающему с бодуна слуге, и он донесет на тебя как на завзятого мятежника. Доверь письму пару более-менее смелых фраз, обнаружь знания, о которых не подозревает сельский священник, – и тебя снова вяжут и препровождают в тюрьму.
Те, кто еще вчера, красуясь, восклицал, что Бога нет, спешно заказывают художникам малевать на стенах их домов образ Мадонны. А те именно малюют: быстро, плохо, убого. Но этого никто не замечает, цель в другом. К кое-как написанному образу приглашают волынщиков пифферари, чтобы те погудели некоторое время подле, привлекая внимания соседей. Мол, в этом доме живут набожные люди, оттого и концерт посреди белого дня, оттого и маскарад в плащах и сыромятной, воняющей сыром обуви.
Для того чтобы угодить за решетку, достаточно быть на кого-то похожим, по слепоте не перекреститься на храм, иметь в своем багаже книгу, автора которой не знают местные стражи порядка…
Страшно быть пришлым, иностранным подданным, потому как на тебя смотрят уже не как на богатенького пенсионера, а как на возможного шпиона, специально подосланного провокатора.
Ничего особенного не делай, просто зайди в остерию, в которой никогда до этого не был, и закажи любимые макароны с морскими животными. Тебя встретят с каменными лицами и все время, пока ты ешь, будут креститься и молиться, чтобы поскорее убрался, так что кусок в горло не полезет.
Русские старались держаться среди соотечественников, проводя время в кафе Греко, где часто бывали посольские и можно было первыми услышать вести с Родины. Там же, на стойке у хозяина, располагался небольшой ящик, куда складывали письма для русских пенсионеров, обосновавшихся в Риме. Ходили слухи, будто спешно присланный из России шестидесятилетний ландшафтный живописец Мартынов служит соглядатаем, в обязанности которого входит докладывать о любых разговорах или поступках, происходящих при нем.
Мартынова старались избегать и в его присутствие не откровенничали, но ведь кроме него были и другие соглядатаи, и что значительно хуже – провокаторы! Таковым числился некто Матвеев, тоже в летах, и также ландшафтный живописец.
Томно курили сигары, попивали винцо, разговаривая о поэзии и живописи, в полголоса обсуждали последние политические новости. Все старались так или иначе свести знакомства с господами из посольства, а то мало ли чего… заступятся за знакомца перед властями, не получится, отпишут о произволе государю… Италийский рапортом докладывал о благонадежности каждого проживающего в Италии художника. Милости посланника не был удостоен единственно Кипренский, и как следствие у него сразу же по приезде в Россию начались проблемы. Понимая это, все стремились, так или иначе, подольститься к Италийскому.
В один из таких неспешных вечеров пришло скорбное известие о смерти государя Александра I, после чего поступил приказ присягать императору Николаю. Тут же, собравшись по-военному спешно, отбыл в Россию для исполнения обязанности церемониймейстера при коронации нового государя князь Григорий Иванович Гагарин. А в России статс-секретарь Петр Андреевич Кикин подал в отставку. Я слышал, что новый государь не хотел отпускать Петра Андреевича, но тот согласился оставить за собой лишь свое любимое детище – Общество поощрения художников. На прощание государь обнял его, пожаловав орден Андрея Первозванного.
Уже будучи на покое в своем доме, Кикин получил наконец ящик с моей картиной «Итальянское утро».
Возможно, это и не бог весть какое событие – доставили картину пенсионера Общества поощрения художников Карла Брюллова, но для меня это действительно важно. Ведь об Италии можно говорить и плохое, и хорошее. Вот Глинка написал: «Белеют пышные остатки колоннады, Разбросаны обломки алтарей» [35]35
Стихотворение Федора Глинки «Вечер на развалинах».
[Закрыть]. Мы привыкли ездить в Италию, учиться у древних, у мертвых, смотреть назад. Даже не на прошлое, на скелеты прошлого… Но Италия – это не только руины. Можно и вот так: утро, нежная девушка умывается в саду. И это тоже будет Италия. «Душа полна возвышенного чувства И на классических развалинах искусства С веками говорит». Можно, конечно, и так, можно и на развалинах, а можно тем же развалинам дать новую жизнь…
Тогда еще многие говорили, что художник должен сохранить в истории время, коему стал он свидетелем. Интересная мысль. Мне пеняли и, пожалуй, еще пенять будут, что не отразил я тогда ни наводнения, ни гибели генерала Милорадовича подле строящегося Исаакиевского собора, на глазах у застывшего, точно на картине, войска. Генерал был в парадном мундире с голубой лентой через плечо. Полагаю, что напиши я это – получилось бы великолепно. Возможно, следовало написать и землекопов, что у того же Исаакия прогоняют конногвардейский эскадрон камнями, и проруби напротив Академии, куда ночью тайно спускали трупы и раненых. Рассказать о ядре, оставившем вмятину на уровне третьего этажа в альма-матер. Но… я ведь не видел ничего этого!
Забавно, что через много лет поисков и незаслуженных упреков в мелкотемье вдруг узнаю, что не я один ратовал за искусство нового века, отличное от классических образцов века минувшего. Вот как писал о том же Виктор Гюго: «Шлейф восемнадцатого века волочится еще в девятнадцатом, но не нам, молодому поколению, нести его».
Правительство закрыло для нас с Александром мятежный Париж! Чему бы научили нас стремящиеся разорвать любые цепи, взорвать любые каноны вольнолюбивые французы? Но дух нового незримо витал повсюду, так что мы, будучи живыми людьми, просто не могли не изменяться, продолжая расти.
* * *
В Неаполе Александр писал акварельные портреты членов королевской семьи, за что перед ним были теперь открыты все двери; в Помпее ему разрешили рисовать все, что заблагорассудится! Поясняю, что, согласно указу, не помню, за каким номером, в Помпее разрешали копировать и снимать чертежи лишь с тех памятников, изображения которых были на тот момент уже опубликованы.
«Я вижу огненные реки… Они стремятся, разливаются или поглощают все встречающееся и не находят препон своему стремлению. Меж тем дождь песку, золы и камней засыпает пышную Помпею. Я отвращаю взор свой от сего ужасного зрелища, встречаю… сторожа, старого инвалида: мечта исчезает… Все заставляет меня переноситься воображением в первый век, но каждую минуту должен вспоминать, что живу в 19 столетии…», – писал из Помпеи Сашка.
В другой раз он обещался ехать со мной в Помпею, уже ждал милостивейшего разрешения Общества на поездки в Париж и Лондон для изучения искусства литографии. Он мечтал сделаться императорским архитектором, о чем по наивности своей даже написал Кикину в надежде получить благословение. Но в итоге заслужил лишь строгую отповедь с рекомендацией сидеть тихо на своем месте, не замахиваясь на подобные прожекты.
Впрочем, Сашка не обиделся, занялся тщательнейшим копированием помпейских бань и всячески делал вид, будто бы никогда и не тщился покорить Олимп. Рисунками этими он рассчитывал снискать себе славу и добиться новых милостей.
Помню, уже после Львова в Помпею возила меня графиня Мария Григорьевна Разумовская – пожилая, набожная дама в огромной темной шляпе с лиловыми лентами, из-под которых торчал ее горбатый, невероятных размеров нос, и широкими юбками, которыми, казалось, она способна смести в одночасье развалины древнего города. Было нестерпимо жарко, воздух дрожал и никакой тени… пот лился ручьями, рубашка под сюртуком давно намокла. Графиня же летела вперед, то и дело, размахивая руками, с деланным энтузиазмом пытаясь зажечь и во мне творческий огонь, заразить, заставить влюбиться в Помпею…
Делала она это оттого, что желала заказать мне «Последний день Помпеи», название, почерпанное из одноименной оперы Джованни Пачини, но… впрочем, это была не ее идея. Тогда я уже знал, что напишу «Помпею», и даже начал делать эскизы.
Стоя спиной к городским воротам, чтобы перед глазами был Везувий, я намечал контуры своей будущей картины [36]36
Из письма Карла Брюллова родителям: «Декорацию сию я взял нею с натуры… стоя к городским воротам спиною, чтобы видеть часть Везувия… По правую сторону помещаю группу матери с двумя дочерьми на коленях (расположение скелетов)…»
[Закрыть].
Юноши, несущие парализованного старика-отца, художник с ящиком красок. Всадник, пытающийся выбраться из города и оттого летящий, не разбирая дороги… Мертвецы ожили, рассказывая о событиях, коим они стали невольными свидетелями. Перед глазами стояла картина последнего дня жизни древнего города. Я мог начать рисовать прямо сейчас, сначала отдельные портреты и группки, потом… Убежден, что лица мало чем изменились с тех пор. Итальянский тип, может, несколько мавров… всех этих людей я мог отыскать на улицах Рима, но не было главного – с самого начала я видел женское лицо, то самое, что снилось мне еще в детстве, когда я сидел на куче горячего песка совсем один. Той, вместе с которой я пылал в черном небе Мюнхена. Мне была нужна, необходима одна определенная женщина, чем-то напоминающая девушку из «Итальянского утра» и еще ту, что я нарисовал в «Полдне». Она… ее лицо… ее волосы и глаза преследовали меня долгие годы. Она поднималась на цыпочки, чтобы сорвать спелую гроздь винограда, она… а, что я говорю. Юлия Самойлова ворвалась в мою жизнь, подобно солнечному вихрю, пришла, чтобы повернуть в угодную ей сторону самою судьбу, украсть жизнь и уготованную судьбу, подарив взамен нечто большее.








