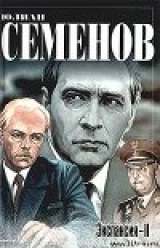
Текст книги "Экспансия — II"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 39 страниц)
Риктер, Кавиола (Аргентина, сорок шестой)
Одним из переломных дней в жизни группенфюрера Мюллера после майской трагедии оказался тот, когда на виллу «Хенераль Бельграно» доставили американские газеты и журналы с подробным описанием взрыва атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки.
Он сразу же вспомнил отчеты, которые проходили через его подразделение, о соблюдении мер секретности, сообщения агентуры о настроениях в берлинском центре урановых исследований профессора Гейзенберга, который базировался в институте физики, и во франкфуртском, который возглавлял профессор Дибнер. Поскольку люди в этих центрах постоянно писали друг на друга – какие-то пауки в банке, – было принято решение создать единое управление ядерных исследований во главе с профессором Герлахом – посредственным ученым, но крепким организатором. Он начал править довольно круто, подчиняясь профессору Озенбергу, возглавлявшему отдел планирования имперского совета по научным исследованиям; тот, в свою очередь, находился в ведении министерства образования; лишь министр имел право непосредственного выхода на Геринга, который курировал в рейхе вопросы науки.
В свое время Мюллер доложил Гиммлеру (дождавшись, когда Кальтенбруннер уехал на отдых в Линц; «ах, Мюллер, мало ли что пишут друг на друга безумные физики! Неужели у вас нет дел поважнее, чем эти сплетни! Порох изобретен китайцами, пусть наши гении усовершенствуют его, этого достаточно, поверьте!»), что данные прослушивания разговоров ученых явно свидетельствуют: мир стоит на грани создания качественно нового оружия, которое в тысячи раз превосходит по своей мощи все известные ранее взрывчатые вещества.
Гиммлер отнесся к сообщению Мюллера достаточно серьезно, не менее часа изучал данные прослушивания, поинтересовался, отчего профессор Гейзенберг позволяет столь резкие выпады против режима, выслушал ответ группенфюрера, что «на месте этого достойнейшего немца я бы выражался еще более круто, повязан по рукам и ногам бюрократами из десяти ведомств, которые стоят над ним, дают указания, требуют отчетов, предписывают делать то и не делать этого, путаются под ногами, мешают».
– С какого года Гейзенберг состоит в НСДАП? – спросил Гиммлер.
– Он, как и Отто Ган, не вступил в партию.
– Почему?
– Ган совершенно малохольный, а Гейзенбергу в этом нет нужды – он предан идее великой Германии не меньше, чем мы, и это ему здорово мешало во времена Веймара: его называли «расистом, фанатиком национальной идеи»...
– Тем более, – Гиммлер пожал плечами. – Если он идейно с нами, отчего бы не вступить в НСДАП?
Мюллер усмехнулся:
– Потому что он и нас обвиняет в недостаточно твердой великогерманской линии.
Гиммлер несколько удивленно покачал головой и вновь вернулся к расшифрованным записям бесед физиков, делая быстрые пометки на полях разноцветными карандашами. Глядя на его аккуратную прическу, на скошенный, безвольный подбородок, на маленькое учительское пенсне, Мюллер с тоской думал – в который раз уже! – о том, кто руководит рейхом. Если бы рядом с фюрером по-прежнему были Рэм и Штрассер, закаленные годами борьбы за национальную идею, не боявшиеся крутых поворотов и неожиданных коалиций, все могло бы идти по-другому: не было бы ни Сталинграда, ни сокрушительного разгрома под Минском, ни американского продвижения на север Италии, ни безжалостных бомбардировок Германии, которые превратили большую часть городов в руины...
Докладывая рейсхфюреру о возможности создания нового оружия, он не очень-то верил в успех начинания с «уранщиками», но, к его вящему удивлению, Гиммлер, оторвавшись от бумаг, решительно заметил:
– Это интересно, Мюллер, в высшей мере интересно. Конечно, с Рунге надо разобраться, это безобразие, если в урановое предприятие проник еврей, займитесь этим, но в принципе то, что они могут нам дать, впечатляет, я расскажу фюреру...
Однако фюреру об этом Гиммлер рассказывать не стал, потому что в тот день, когда он прилетел в ставку для очередного доклада, Гитлер за обедом, во время «тишгешпрехе», заметил:
– Главная ошибка германского командования во время прошлой войны заключалась в том, что генеральный штаб не уделял должного внимания вооружениям, росту производства техники; и в этой войне победит тот, кто будет иметь больше самолетов и танков, это азбука военной доктрины. Не урановые утопии, не болтовня по поводу новых видов оружия, а наращивание темпов выпуска того, что мы имеем, а мы имеем прекрасные «мессершмитты» и могучие «тигры».
Гиммлер понял, что его предложение о помощи «уранщикам» Гейзенберга не получит поддержки у фюрера; надо ждать того момента, когда он будет в ином настроении; тем не менее фугас подвел, рассеянно предложив:
– Было бы разумно создать некий объединенный фонд военно-научных исследований СС, чтобы как-то координировать всю исследовательскую работу в сфере военной техники.
Гитлер, видимо, не очень-то его и услышал, потому что, рассеянно кивнув, начал распространяться о той кардинальной разнице, которая совершенно очевидна, если сравнивать классическую венскую школу живописи с французским импрессионистским кривляньем...
Тем не менее на слова рейхсфюрера Гитлер не ответил отказом. Помолчав, он кивнул, и это было замечено Борманом, министром почт Онезорге и группенфюрером Фегеляйном, приглашенными на обед. Значит, руки развязаны, можно действовать. Однако после того, как фонд СС был создан, Борман, внимательно следивший за тем, чтобы поддерживать постоянную свару среди ближайшего окружения фюрера, озаботился тем, чтобы фонд научных исследований СС подчинялся не Гиммлеру, но рейхсмаршалу Герингу. Так дело было обречено на медленное умирание: Гиммлер потерял к нему интерес; Геринг метался по городам рейха, занимаясь установкой новых зенитных батарей; идея об урановом чуде зависла; как раз в той стране, где Ган впервые доказал возможность создания штуки, идея была потерена из-за некомпетентности фюрера, который руководил рейхом, не имея сколько-нибудь серьезного школьного образования, не говоря уж об университетском.
В марте сорок пятого, давно поняв, что крах неминуем, Мюллер вновь запросил данные на авторов уранового проекта. Гейзенберг, Вайцзеккер и Ган были эвакуированы, группа Гартека работала где-то в окрестностях Гамбурга, Макс фон Лауэ, Дибнер и Герлах также перебрались на Запад. Мюллера заинтересовало, кто же именно отправил их туда, поближе к американцам? Чувствовалась чья-то рука; последнее известие пришло двадцать четвертого апреля, когда уже началась битва за Берлин; доверенная агентура, внедренная в близкое окружение ученых, сообщала, что якобы профессор Гартек, попав к американцам, немедленно написал письмо в Вашингтон: «Мы готовы сделать взрывное вещество, которое даст стране-обладательнице подавляющее преимущество перед другими». Мюллер тогда смачно выругался; но не Гартека он бранил, а Гитлера; несчастному профессору ничего не остается, как торговать своей головой, если его страна погублена одержимым безумцем; спасайся, кто может!
Лето сорок пятого Мюллер акклиматизировался, вживался в новую обстановку: не до физиков, он попросту забыл о них. Сначала надо залечить раны, а они у него страшнее тех, которые получаешь на поле брани, – моральное крушение значительно страшнее физического. Лишь в конце июля он свыкся с мыслью, что здесь, в горах, он действительно в полнейшей безопасности, в кругу единомышленников, преданных, как и он, великогерманской идее – любым путем восстать из пепла! Немцы еще скажут свое слово, они поднимутся к былому могуществу – только так и никак иначе!
«Это лозунг, – возразил он себе. – У меня нет реального предложения, которое бы дало дельную, а не декларативную возможность подняться. Да, я имею людей, деньги, явки, свои фирмы, но у меня еще нет той идеи, которая бы рекрутировала приверженцев из тех, кто так или иначе, но будет приведен оккупантами к административному управлению несчастной Германией. Вылезать с повторением национальной доктрины преждевременно, слишком свежа память о том, к чему привел массовый психоз: „Мы – самые великие, умные, смелые!“ Вот и сидят в дерьме арийцы, да еще в каком! Да, пугать мир повторением нового Гитлера нужно и можно; пусть пройдет этот год, и я выпущу на арену тех, кто умеет нагнетать национализм, но это не есть кардинальное решение, паллиатив».
...Мюллер понял, что может дать ему реальную силу, в августовский день сорок пятого года, прочитав об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, а поняв, сразу же начал комбинировать. На это ушли долгие месяцы. Следом за тем, как комбинация оформилась в голове, словно литая формула, пришло время сбора информации; дело оказалось крайне деликатным, ибо все немецкие физики были вывезены из Германии и жили теперь в Соединенных Штатах. Лишь летом сорок шестого года он, наконец, получил кое-какую информацию о том, что происходило с учеными, когда их начали готовить к возвращению в западные зоны оккупации.
Мюллеру сообщили, что профессор Отто Ган, узнав о взрыве атомной бомбы, тяжело запил, был близок к самоубийству, навязчиво повторял коллегам, что это он виноват в трагедии, ведь именно он был первым, кто доказал возможность создания этого чудовищного оружия. Гейзенберг, забыв обо всем, интересовался только одним: как это удалось американцам? «Вы посредственность, старина, – пьяно посмеивался Ган, – вы ученый средней руки, вы никогда не были в силах предложить идею». Более всего Мюллера потрясла реакция профессора Виртца (всегда был благополучен, агентура не сообщала о нем ничего тревожного, вполне добропорядочный последователь фюрера): «Слава богу, что мы не смогли сделать бомбу, это была бы трагедия для Германии!» Гейзенберг фыркнул: «И это говорит немец!» Тем не менее Виртца в какой-то мере поддержал профессор Вайцзеккер: «Между прочим, ужасно и то, что бомбу сделали американцы, это акт безумия». «Будет вам, – усмехнулся Гейзенберг, – никакое это не безумие, а вернейший способ выиграть войну... Если бы я получил от фюрера такие же средства, как Вернер фон Браун, мы бы имели бомбу, я в этом не сомневаюсь!»
То, что Гейзенбергу на это заметил Вайцзеккер, повергло Мюллера в ярость. «Вы ничего не смогли сделать потому, дорогой Гейзенберг, – сказал профессор, – что большая часть физиков этого не хотела – из принципиальных соображений. Если бы мы все желали победы Германии, мы бы добились успеха».
Однако основной толчок к действу дала информация о том, что американцы подвели к Гейзенбергу профессора Блекета. Великолепный ученый и организатор, давно связанный с Пентагоном, он беседовал с немецкими физиками о том, что они думают по поводу возрождения науки в Германии: «Вы же нация мыслителей; мир ждет новых открытий; думаю, если мы опубликуем в прессе историю нашей работы над бомбой, это придаст новый импульс для дальнейших исследований».
– Вы с ума сошли! – Гейзенберг всплеснул руками. – Русские никогда не согласятся на контроль в этой области! Вы не знаете их! Они пронизаны духом завоевательства, а мы еще не готовы им противостоять!
Эта фраза Гейзенберга и решила исход дела; информация – матерь поступка; Мюллер почувствовал себя помолодевшим на десять лет, пригласил Шольца и дал ему рубленое задание:
– Во-первых, наши люди должны войти в контакт с Гейзенбергом, он уже в Мюнхене. Во-вторых, беседу с ним должен провести привлеченный – из старой кайзеровской гвардии, никаких связей с национал-социализмом. В-третьих, он должен поработать с Гейзенбергом таким образом, чтобы профессор принял приглашение Аргентины, когда к нему обратятся люди Перона, и приехал сюда для работы над атомным проектом.
Шольц удивился:
– А почему люди Перона должны к нему обратиться, сеньор Рикардо?
– Дружище, – ответил Мюллер, – разве мы с вами подписывали договор о том, что вы обязуетесь быть таким же умным, как и я? Занимайтесь тем, что вам поручено, и не тревожьтесь о том, что не входит в вашу компетенцию.
Потом уже, ночью, Мюллер подумал, что зря он так ответил Шольцу. «Я пытаюсь реанимировать порядки рейха – напрасно; слепое следование приказу себя не оправдало, это пеленает людей, мешает делу; я найду возможность как-то смягчить мои слова, бедный Шольц был так растерян».
Он не сделал этого не по злой воле, а потому лишь, что утром прилетел связной от сеньора Отто Бемберга. Потомок немецких иммигрантов, прибывших сюда еще в девятнадцатом веке, Отто получил от отца крупнейшие заводы и поместья; от него же наследовал страстную веру в величие немецкого национального духа; связь с этой семьей поддерживалась с тридцать третьего года, тогда это осуществляла НСДАП. С сорок четвертого года Мюллер смог внедрить в окружение Бембергов своего человека, и именно он, Карлос Маннман, сумел стать ответственным за связи с наукой; заводы Бемберга славились новейшей технологией, фирма обращалась за консультациями не только в Германию, но и в Англию и Соединенные Штаты.
На шифрованный вызов «Рикардо Блюма» Карлос Маннман откликнулся сразу же. Встреча была вполне дружеской, он подробно обрисовал ситуацию, ответил на вопросы, показавшиеся поначалу несколько странными, – о состоянии дел в физической науке; рассказал о фанатике атомных исследований докторе Энрике Кавиоле, его ближайших сотрудниках: докторе Вюршмите, Галлони, Гвидо Беке, Иснарди, Балсейро, Симоне Гиршанчике и Якобе Гольдшварце; упомянул Риктера, который, однако, пока что работает сольно, замыкаясь лишь на полковнике Гутиересе; базируются физики в обсерватории в Кордове и в университете Ла Плата.
Мюллер поинтересовался, кто по национальности Гиршанчик.
– Аргентинец, – с некоторым недоумением ответил Маннман; лишь спустя мгновение понял, чем вызван вопрос Мюллера; чуть сконфуженно пояснил: – Вы же знаете, здесь не существует национального вопроса: если ты имеешь паспорт и дом – значит, аргентинец.
– Это прекрасно, – серьезно ответил Мюллер. – В той задумке, которая меня сейчас занимает, не исключено присутствие еще парочки таких же аргентинцев, как этот самый Гиршанчик, прекрасное прикрытие... Как вы думаете, ваш шеф согласится финансировать начало грандиозного проекта, связанного с изучением атомной проблемы?
– Если нужно – согласится.
– Прекрасно. А вы можете устроить встречу моего человека с Риктером?
– Бесспорно.
– Вполне возможно, что я тоже буду там... Риктер надежен?
– Он из нашего братства, сеньор Рикардо.
– Предают именно братья, – отрезал Мюллер.
– Он надежен.
– Замечательно! А можете вы сделать так, чтобы доктор Кавиола, который, как я понял, является фанатиком атомной идеи, написал приглашение профессору Гейзенбергу, в университет Гейдельберга?
– Этому великому физику?
Мюллер кивнул.
– Конечно, – ответил Маннман. – Но я далеко не убежден, что Гейзенберг согласится сюда приехать.
– Ну, это уж не ваша забота, дружище, – ответил Мюллер, и сразу же понял, что со здешним немцем, который Гиршанчика считает аргентинцем, нельзя говорить так, как с теми, кто родился в рейхе. – Это забота старого, больного Мюллера, который доживает свои дни в изгнании. У вас и так слишком важный фронт работ, дорогой Карлос, мне неловко вас обременять лишний раз...
– Может быть, лучше это сделать профессору Беку? Он прибыл сюда осенью сорок третьего, очень помог здешним физикам, пусть он и сочинит послание.
– Погодите, погодите... Он прилетел сюда после того, как здесь к власти пришли военные, а Перон стал министром?
Карлос Маннман понимающе улыбнулся, кивнул.
– Ни в коем случае, – возразил Мюллер. – Письмо должно быть подписано именно Кавиолой... Кстати, этот Бек тоже... аргентинец?
...Через несколько дней в Гейдельберг ушло письмо от профессора Кавиолы:
«Уважаемый сеньор профессор Гейзенберг! Прибытие в Аргентину в 1943 году профессора Гвидо Бека принесло огромную помощь нашим научным изысканиям. Спасибо за то, что Вы воспитали такого замечательного ученого! Меня Вы вряд ли помните, хотя я имел счастье аплодировать Вам в Дюссельдорфе во время очередного научного конгресса в двадцать шестом году, когда Вы отметили свой четвертьвековой юбилей таким блистательным докладом, которому мог бы позавидовать любой корифей, убеленный сединами.
Я обращаюсь к Вам в связи с тем, что ныне возникла возможность пригласить в Аргентину трех наиболее выдающихся физиков и радиотехников Европы, поскольку министерство флота и университет организовали специальное училище радиокоммуникаций.
Здесь Вы получите возможность не только преподавать, но и вести исследовательскую работу на передних рубежах науки.
Я предлагаю Вам контракт сроком на пять лет при оплате Вашего труда в восемьсот долларов в месяц.
Поскольку я являюсь директором обсерватории и президентом Ассоциации аргентинских физиков, министерство флота уполномочило меня заверить, что для Вас будут созданы самые престижные условия.
При этом Вы вправе назвать имена ассистентов, которых захотите привезти с собой».
Ознакомившись с проектом письма, Риктер добавил строку:
«Заключая контракт, мы, тем не менее, не можем не оговорить заранее, что в Ваших публикациях не должны затрагиваться проблемы, которые могли бы в любой форме вызвать возражения цензуры по вопросам секретности, ибо речь идет об исследованиях, которые являют собою новую эпоху в южноамериканской науке».
Приписку эту он сделал уже после того, как встретился с сеньором Браньолли99
Штандартенфюрер СС, обермайстер.
[Закрыть]. Сеньор «Рикардо Блюм», прилетевший вместе с ним, участия в беседе не принимал, хотя слушал очень внимательно; Риктер не мог избавиться от впечатления, что этот человек ему знаком, лицо чем-то похоже на шефа гестапо, только у этого значительно более мягкие глаза, увеличенные линзами очков. – видимо, очень большая дальнозоркость.
Во время встречи договорились о том, что, делая бомбу Перону, думают о Германии; атомное оружие в руках немцев есть не что иное, как путь к национальному возрождению.
Штирлиц (рейс Мадрид – Южная Америка, ноябрь сорок шестого)
– Почему вы не пьете? – спросил Ригельт. – Я не могу спать в самолете, если не напьюсь как следует.
– Боитесь?
– Я совершенно лишен чувства страха в небе.
– Да? Завидую. Я, говоря откровенно, побаиваюсь. Дом в облаках – с обедами, ужинами, сортиром, шотландским пледом и откидывающимся мягким креслом – вызов создателю. На вызов отвечают действием. Создатель в этом смысле не исключение. Вон, глядите, как гонит масло из второго двигателя...
Ригельт резко обернулся к иллюминатору, ухватился пальцами за ручку кресла:
– Перестаньте шутить!
– Да не шучу я. Просто отдаю вам часть своего страха, чтобы самому не было так жутко.
– Так надо же срочно сказать пилотам!
– Зачем? Не надо создавать лишней паники. Все равно, если что-то случилось, до берега мы не дотянем, как-никак три часа висим в воздухе...
«Что ж ты так побледнел, бедный, – подумал Штирлиц, – даже испарина появилась на висках; они у тебя совсем молодые, без впадинок еще; сорока тебе нет, лет тридцать семь; казалось бы, три года, какая ерунда, а на самом деле-некий незримый рубеж, отделяющий одно душевное состояние человека от другого, совершенно иного уже; тайна; воистину, все реализуется лишь во времени и ни в чем ином; даже мечты матери в ее ребенке реализует не она, но тайна времени».
– Вы фаталист, Штир... Браун?
– Какой я, к черту, фаталист, – улыбнулся Штирлиц. – Год назад я говорил моей служанке, что считаю себя стареющим мужчиной. Она, кстати, ответила, что ей такие нравятся... Я тогда был юношей, милый Викель. А сейчас – старик. Древний дед, а не фаталист. Это качество рождено молодостью – риск, отвага, авось пронесет, чем черт не шутит, а старость – это осторожность, нерешительность; старость – это когда занимаешь место в хвосте самолета, больше шансов остаться в живых, если упадем, и запасной выход – рядом. Вы, кстати, пишетесь через «к» или «г»?
– Через «к», я же южанин, мы говорим мягко – в отличие от вас, коренных берлинцев, – солгал Ригельт.
– Полагаете, я коренной берлинец?
– Судя по выговору.
– Так ведь можно наработать...
– В такой мере – нельзя, – Ригельт покачал головой. – Можно изменить внешность, даже характер, но язык не поддается коренному изменению это в человеке навечно.
«Дурачок, – подумал Штирлиц, – трусливый, претенциозный дурашка; сейчас он обернется на то место, где сидел я, поглядит, рядом ли запасной выход, и предложит перейти в хвост, здесь, скажет, дует. Если не сразу, то через какое-то время он обязательно предложит перейти в „безопасное“ место. Черт, как грустно наблюдать людей, в голову которых ты заложил идею животного качества, – а сколько, увы, таких?! Неужели именно такого рода животный фермент вызывает немедленное действие? Кажется, Герцен сказал, что мы продали свое человеческое достоинство за нечеловеческие права над своими ближними... Верно, кстати: земские соборы легко передали власть приказами думским дьякам за полную свободу в делах своих имений; за установление крепостного права – высшее проявление животности верхних ста тысяч, – самодержавие получило всю полноту власти в стране... И начался застой... А Запад в это время менял одно сумасшествие на другое: то безумие крестовых походов, то всеобщий поиск дьявола, принявшего людское обличье, потом всеобщая эпидемия: «назад к античности, к древнему миру, к утраченному благородству римлян и греков!». По счастью, именно эта эпидемия вызвала у них интерес к знанию, к книгам и языкам, – а не отсюда ли один шаг до бунта? Вот и появился Лютер... Записать бы все, что у тебя в голове, – сказал себе Штирлиц, – попробовать оформить это в схему, могло бы получиться небезынтересно. Девятнадцать лет – в себе, все время в себе, действительно, как затаившийся зверь. Олень или волк? – спросил он себя. – А может, кабан? Многотолкуемое понятие – животное. Поди ж, начал за здравие, а кончил за упокой».
– У вас деловой визит, Браун?
– Да.
– Куда? Если, конечно, не секрет...
– А их больше нет, секретов-то... А дальше – того хуже: сейчас рентгеном только легкие и кишки просвечивают, а скоро, надо ждать, научатся смотреть мозги. Поставят к свинцовой стенке, возьмут за руки хваткими пальцами в резиновых перчатках и айда вертеть: «А это что у вас за мыслишка? Беспокоит? Надо бы удалить – лишняя». Ничего перспектива, а?
– Да уж, страшновато... Мне даже что-то зябко стало от ваших слов... Кстати, не замечаете, здесь дует от иллюминатора? Давайте переберемся подальше в хвост, если не возражаете...
Штирлиц усмехнулся, покачал головой. «Будь все трижды неладно, – сказал он себе, – противно жить, когда знаешь, от какой болезни помрешь и в каком возрасте...»
– Там дует еще хуже, Викель. Я бы сразу вас пригласил к себе, в хвост, но там еще сильнее дует, я поэтому отсел на второе кресло, да и потом, если запасной выход ненароком откроется, нас высосет, как в трубу, а здесь мы надежно прикрыты теми, кто первыми будет волочить по проходу...
– Ну вас к черту, Штир... Браун, от того, что вы говорите, отдает садизмом.
– Прошли одну школу, – усмехнулся Штирлиц, – чему ж удивляться? Вы где работаете?
– Я? – Ригельт не ждал такого прямого вопроса; это только янки назойливо представляются: «Я – Джим Смит из Чикаго, владею обувным магазином, женат на молоканше и имею трех детей»; все-таки немец значительно более тактичен, а любой прямой вопрос, обращенный к малознакомому человеку, в определенной мере некорректен. – Я служу в компании.
– В какой? – так же сухо осведомился Штирлиц.
– В... В ИТТ, – ответил Ригельт, невольно поддаваясь манере Штирлица ставить вопросы и досадуя на себя, что он не предусмотрел возможности такого оборота разговора. Впрочем, он не мог себе этого представить, потому что авторитарность нацизма предполагала всепозволенность лишь после соответствующего приказа начальника; тогда ответа было необходимо добиться любым путем; в обычной же жизни, вне стен рабочего кабинета, люди как раз и находили отдушину в том, чтобы не ставить однозначных вопросов, – страх сделался нормой жизни; именно ответ таил в себе особый страх; вдруг что не так скажешь, – поэтому беседы велись по касательной, были осторожны и оттого лишь казались корректными.
– Да? Любопытно, – заметил Штирлиц. – Чем занимаетесь? Насколько я понимаю, эта контора работает в сфере связи. Вы же не инженер, нет?
– Я филолог.
– Ах, вы филолог... Знаете португальский?
– Выучил. Но в основном я имел дело с английским. Вы же помните.
– Я не помню. Иначе бы не спрашивал.
– А вы где работаете? – преодолевая какой-то внутренний страх, спросил Ригельт. – В какой сфере?
– Во многих, – отрезал Штирлиц. – На меня навалили столько дел... Кого из наших видели?
– Полагаете, я стану отвечать на такой вопрос? – с испугавшей его самого резкостью спросил Ригельт. – Мы же не виделись два года, а за это время много воды утекло и люди поменялись. Вон, вы тогда были юношей, а сделались стариком... Выходите в Рио?
– Вместе выйдем, дружище, выйдем вместе, куда мы друг без друга? Одно слово – братство... Ладно, пойду к себе спать...
– Знаете, я все же пойду с вами... Я укутаюсь пледом и сяду возле иллюминатора, что-то мне не хочется лететь одному.
– Попросите снотворного. Здесь дают снотворное. И проснетесь, когда взойдет солнце. Хоть мы и бежим от него, оно все же скоро догонит нас... И под крылом будет не безбрежный океан, а земля, все не так безнадежно... Никогда не садились на вынужденную?
– Нет. А вы?
– Дважды.
– Страшно?
– Нет. В последний момент, когда ясно, что пожар не затушить, и мотор весь в черном дыму, не страшно. Во-первых, это мгновения, доли минуты, а потом чувствуешь себя как спортсмен перед прыжком с трамплина: готовишься к спасению, придумываешь тысячу версий, тянешься к выходу, чтобы прыгнуть в самый последний момент – как раз перед тем, как самолет врежется в дом, гору или сосну... Столько напридумываешь, так перенапряжешься, что потом, когда летчики чудом усаживали машину на поле, тело болит, как после игры на чемпионате...
– По-прежнему играете в теннис?
– Начну... Последние месяцы я был не в форме...
Ригельт достал из портфеля бутылку:
– Пробовали? Это «виньу верди»; мой портье не произносит «в»; вместо «вино» говорит «бино», вместо «верди» – «берди», смешной старик. Разопьем? Чудо что за напиток...
– Спасибо, не хочу.
– Как знаете. Но я вам оставлю глоток. В самом деле не пробовали?
– По-моему, нет.
– Его подают к жареным сардинкам, очень распространено в Лиссабоне...
– Каплю попробую.
Ригельт сокрушенно вздохнул:
– Салфетка нужна, оно шипучее, обрызгает...
– Платок не подойдет?
– И это вы предлагаете адъютанту Скорцени?! Он бы меня публично унизил за такое предложение. Вы не представляете себе, как он утончен, когда речь идет о застолье... Впрочем, не только о нем одном... Послушайте, Браун, попросите у стюарда салфетку, два высоких фужера и, если есть, соленый миндаль...
– Соленый миндаль не обещаю.
– А вот и не убежден, что вы правы. На таких самолетах вполне могут быть деликатесы, они же не зря делают посадку в Лиссабоне, загружают любопытную пищу, что вы хотите – жители океанского побережья...
– Хорошо, попрошу. Что еще нужно к этому зелью?
– Жареные сардины, но это, как я понимаю, невозможно.
Штирлиц поднялся, пошел в голову самолета; там, за загородкой, сделанной из тонкой фанеры, облицованной пленками с картинками испанских городов, сидели два стюарда; здесь же был небольшой рефрижератор для бутылок и полки, в которых хранились бутерброды, взятые на борт во время часовой стоянки в Лиссабоне.
– Мой сосед отчего-то убежден, – сказал Штирлиц, – что у вас есть соленый миндаль...
– Вот уж чего нет, того нет, – ответил стюард, что подходил к Штирлицу, – очень сожалею, сеньор.
– Значит, и сардинок нет?
– Сардинки есть! Мы получили ящик сардинок, могу предложить вам банку.
– Это в масле?
– Да, конечно! А какие же еще?
– Мой сосед сказал, что в Лиссабоне подают жареные...
– Ах, это к «виньу верди»? – поинтересовался второй стюард. – Нет, таких у нас, конечно, нет, это только в Португалии, они действительно делают по здешнему рецепту, на углях, объедение, что за рыбка!
– Но высокие бокалы у вас есть?
– Это – да, – кивнул стюард. – Говорят, скоро станут делать первые классы в аэропланах такого типа, тогда наверняка будем возить и соленый миндаль. Я начну торговать вашим интересом, сеньор, мне за это наверняка уплатят премию, у нас платят премии за рациональные идеи.
– Валяйте, – согласился Штирлиц, – торгуйте рациональной идеей, но только мне сдается, что «идея» и «рационализм» не очень-то сочетаются, хотя по смыслу весьма близки.
Когда Штирлиц вышел из-за перегородки, Ригельта на месте не было, а в хвосте самолета тревожно горела красная лампочка. «Зачем человек, вошедший в туалет, должен пугать пассажиров? – усмехнулся Штирлиц, – просто-напросто объявляется ко всеобщему сведению: „Внимание, человек в сортире!“ Тоже, кстати, вполне „рациональная идея“, можно продать этому парню: пусть уберут красную лампочку; все резкое, будь то движение, цвет или рев мотора, отпугивает пассажира, в следующий раз поплывет на пароходе».
Штирлиц сел в кресло и понял, отчего Ригельт так стремительно убежал в туалет: кресла были забрызганы вином. «Еще хорошо, что впереди никто не сидел, а будь там дама с перманентом, – почему-то представил себе Штирлиц, – а ее в Рио ждет любимый, а она выйдет к нему со склеенными волосами! А почему я решил, что вино сладкое, – подумал он. – Потому что оно шипучее, если Ригельт так все обрызгал; ох уж мне эти „утонченные“ адъютанты! А где бутылка? Не понес же он ее с собой в туалет?»
Бутылку – вина в ней осталось всего ничего, на донышке, – Ригельт сунул в карман, сделанный на чехле кресла. Вино пахло сыростью и молодым виноградом. И правда – океанский запах.
– Что значит желание угодить собрату, – сказал Ригельт, вернувшись на свое место. Вид его был весьма комичен: брюки были залиты вином и левый лацкан пиджака тоже был мокрым. – Но и вы хороши... Я думал, вы мигом обернетесь, снял проволочки, держал пробку, как мог, но ведь Португалия – страна пробки, они ее не жалеют, она стреляет у них как петарда... Пробуйте вино, мне можете не оставлять, ради вас старался...
...Штирлиц никак не мог проснуться, хотя понимал уже, что он летит в самолете, что рядом с ним сидит Ригельт, а за плечо его трясет стюард – наверняка что-то случилось.
Он спружинился, широко открыл глаза и сразу зажмурился: ослепительное солнце пронизывало салон, пыль в его лучах казалась фрагментом декорации какого-то балета; действительно, маленькие пылинки плавно, словно под музыку, перемещались в воздухе. «Они меня усыпляют, – подумал Штирлиц, – будто какие щелкунчики; единственный балет, который мне удалось посмотреть с папой, там было какое-то действие, когда все засы...»








