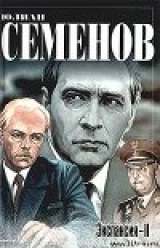
Текст книги "Экспансия — II"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 39 страниц)
– Нет.
– Рассказать?
– Это будет очень любезно с вашей стороны, сеньор Висенте...
– Так вот, еще в семьсот пятом году Иосиф Первый, коронованный императором Священной Римской империи германской нации, продал странствующему торговцу Георгу Гише право разрабатывать месторождения цинкового шпата в Верхней Силезии... Разработал... Стал дворянином, передал наследство своим дочерям, а их потомки – семьи Тейхман, Вильдштейн и Погрелль – еще круче повели дело предка; раскрутили так, что в начале века владели капиталом в триста миллионов золотых марок... Неплохо, а? Одним из потомков Гише стал известный вам барон Ульрих фон Рихтгофен, цвет империи, отец военной авиации. После первой мировой войны их рудники отошли к Польше. Крах? Отнюдь! Поражение, временный отход на запасные рубежи. Отто Фицнер, фюрер военной промышленности, вернул семье все утраченное, приумножив капитал в три раза. Миллиард рейхсмарок. И случился май сорок пятого. Что, кончилось дело Гише? Разгром? – Мюллер покачал головой. – Нет, дорогой Эрнесто, – он легко пропустил «сеньор», поставив этим себя над Стресснером; ждал, удивится ли тот, поправит; нет, не удивился и не поправил, – краха не последовало. Дело уже восстановлено, не в Бреслау, но в Гамбурге. Какая разница? Дело поддерживает нашу идею. Семья Гише – Рихтгофенов – Фицнера переживает военное поражение рейха не меньше, чем мы, а возможно, и больше. Думаете, они смирятся со случившимся? Да ни в коем случае... А возьмите барона Карла фон Штумм-Хальберга? Он продолжил дело Штумма, начатое в семьсот пятнадцатом году, превратил компанию в концерн, стал членом рейхстага у кайзера, его зять Рихард фон Кюльман поставил в Брест-Литовске на колени Россию, определял всю восточную политику империи. Его родственник, муж дочери Викко фон Бюлов-Шванте, был не только шефом концерна, но и штандартенфюрером СС, человеком, близким к Гитлеру... Проштрафился, бедняга, – вдруг рассмеялся Мюллер, – в Риме, где он сопровождал фюрера, не подсказал канцлеру вовремя, что нужно надеть мундир, поплатился за это ссылкой в послы, представлял рейх в Бельгии... Но его родственник, граф Макс Эрдман фон Редерн, был до конца нашим – оберфюрер СС... Что, после сорок пятого крах? – Мюллер снова покачал головой. – Где сейчас барон фон Штумм ауф Рамхольц, родственник Бюлова-Шванте? В Мюнхене, дорогой Эрнесто, в Мюнхене, на взлете, раскручивает бизнес... Продолжить? Или достаточно? Я рассказал вам об этом, чтобы проиллюстрировать разницу между военным поражением и крахом...
Несколько минут шли молча, потом Мюллер заговорил – рублено, коротко, властно:
– Я верю вам, Эрнесто. А я – это значит мы. И это очень много – мы... Итак, к делу... Поражение учит... Поражение заставляет пересматривать позицию, но это не есть отход от основоположений, наоборот, приближение к ним. Предложения: во-первых, наладите контакт с американцами... Да, да, именно с ними... Никаких антиамериканских лозунгов, пусть о «гринго» и «проклятых империалистических янки» кричат левые, вы войдете с ними в блок... Вы, именно вы, проинформируете их посла о ситуации в армии и объясните, что лишь вы и ваши друзья могут гарантировать устранение левых с арены политической борьбы...
– Да, но их посол...
– Ну и что? Прекрасно, что еврей. Фюрер допустил ошибку, навалившись на всех евреев. Умных и сильных надо было, наоборот, приблизить...
(«Ну и ну, – подумал он, – сказал бы я такое полтора года назад? Какое там сказал – позволил бы произнести эти слова про себя? Я запрещал себе даже допускать возможность появления этих слов, вот ужас-то, а?!»)
– Это облегчает задачу, – согласился Стресснер. – Среди наших левых интеллектуалов масса отвратительных евреев, зараженных большевизмом, но без содействия «Первого банка», который возглавляет сеньор Абрамофидж, я бы лишился поддержки в ту пору, когда Берлин не замечал меня... Сеньор Абрамофидж ненавидит большевизм, а своих соплеменников из писательской ассоциации называет «сбродом, по которому плачет каторга».
– Ну, вот видите, – вздохнул Мюллер. – Прекрасная иллюстрация моим словам... Теперь второе: необходимо организовать пятерки по типу аргентинского ГОУ. К будущему надо готовиться загодя. У вас есть контакты с Пероном?
– Он полевел...
– Он поумнел, – отрезал Мюллер. – Он – у власти. Чтобы удержаться, надо делать дело, а не болтать. Он делает свое дело и делает его неплохо. Я бы советовал вам наладить отношения с людьми Перона. Мы можем помочь вам в этом, если возникнет нужда.
– Благодарю. Весьма возможно, я обращусь к вам...
– Третье. Можете ли вы уже сейчас, еще до победы, организовать в Парагвае несколько надежных поместий в глухой сельве, – о деньгах не думайте, мы уплатим, сколько надо, – где бы поселились мои друзья?
– Это не вопрос.
– Но в таких местах, где можно построить аэродромы и мощные радиостанции...
– Это не вопрос, – повторил Стресснер.
– Прекрасно. И, наконец, четвертое... Есть информация, что левые готовят у вас бунт... Возможно, они будут в состоянии выступить летом... У вас нет таких данных? Я имею в виду абсолютно проверенные данные.
– Нет. Есть слухи.
– Ну, что касается слухов, то мы их умеем делать, как никто другой. Школа доктора Геббельса – что бы о нем сейчас ни говорили – достойная школа... Мы попробуем провести кое-какую работу... Если наши сведения подтвердятся настолько, что я сочту их правдой, вам сообщат детали... Что вы тогда будете намерены предпринять?
– Ударить первым.
Мюллер покачал головой:
– Очень хорошо, что вы ответили столь определенно... Только, пожалуйста, ни в коем случае не ударяйте первым, Эрнесто... Пусть первым ударит Мориниго, он – сыгранная карта... После того, как он раздавит левых, вы ударите по нему. Вот так... Все понимаю: чувство благодарности, уважение к позиции, но в политике побеждает тот, кто первым угадал в былом союзнике запах ракового гниения... Вы должны быть полезны новым силам. Вы обязаны проявить себя как выдающийся стратег, но – пока что – военный стратег, без претензий на политику... Пусть янки заметят вашу беспощадную умелость наводить порядок и убирать левую шваль... Когда и если они в этом убедятся – придет ваше время... Я держу руку на пульсе, я скажу, когда настанет ваш черед, Эрнесто. Он – не за горами...
В июне сорок шестого года левые офицеры восстали против президента Мориниго, они требовали изгнания нацистских военных. Стресснер вывел свой полк на улицы, чтобы сохранить порядок. Он не поддержал ни Мориниго, ни молодых офицеров: служил присяге, заявив себя (американцы отметили это первыми) человеком военной касты, чуждым политическим интригам.
Профашистские элементы были изгнаны из армии. Мориниго разрешил деятельность ряда партий, в том числе и левых; одновременно присвоил Стресснеру внеочередное звание – «чистый военный», устраивает. Как же угоден нейтрализм в критической ситуации, когда еще нет сил, чтобы все взять в кулак, уничтожив как левых, так и недостаточно правых!
Роумэн (Голливуд, ноябрь сорок шестого)
Почти весь перелет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес Роумэн спал на плече Кристы. Уезжая из отеля, где они остановились, на те встречи, которые было необходимо проводить с глазу на глаз, он не только просил Кристу никому не открывать дверь («Несмотря на то, что мы поселились в благополучном районе, город наводнен гангстерами, особенно много их развелось после демобилизации, – нет работы, грабеж становится профессией»), но и уплатил пять долларов привратнику, чтобы тот периодически проверял, что происходит в семьсот девятом номере («Моя жена – иностранка, возможно, ей понадобится помощь, позванивайте ей, пожалуйста, вдруг что потребуется, она крайне скромный человек, не решится вас лишний раз потревожить»). Тем не менее страх за Кристу не покидал его все то время, что он отсутствовал. «Неужели любовь всегда соседствует со страхом?! Какая противоестественность! Самое прекрасное чувство, дающее человеку отвагу и силу, уверенность в себе, счастливое ожидание завтрашнего утра, которое обязательно видится солнечным (впрочем, Брехт говорил, что его самая счастливая погода – это когда моросит дождь и на улицах пузырятся лужи, работается особенно хорошо. Он сопрягал это с работой, надо будет его спросить, каким ему виделось утро в пору влюбленности). Ах, как нехорошо я подумал! Нельзя думать про любовь – даже если соотносишь ее с человеком, который чуть старше тебя, – в прошедшем времени; то, что мы определяем расизмом, оказывается, может быть и возрастным, странно!»
Поэтому в самолете, как только стюард привязал Роумэна при взлете к топкому креслу, он сразу же обрушился в сон, впервые, пожалуй, за последнюю неделю спокойный.
Когда он проснулся, Кристина вытерла его вспотевшее лицо, – солнце било в иллюминатор, и, хотя она все время закрывала глаза Роумэна ладонью, было душно и жарко, что-то случилось с вентиляцией, воздух казался прокаленным.
– Хорошо поспал, милый?
– Ну, еще как!
– Голова не болит?
– Я плохо переношу холод, жара – моя стихия.
– А я совершенно разваливаюсь.
– Давай попросим аспирина.
– Так ведь это, чтобы еще больше потеть, против простуды...
– Все-таки вы, европейцы, дикие люди, – улыбнулся Роумэн. – Аспирин разжижает кровь, следовательно, кровь сразу же начинает потреблять значительно больше кислорода, организм омолаживается – вот в чем смысл аспирина. Поняла, конопуша?
– Если ты так считаешь, я готова сжевать три таблетки.
– Человечек, я тебя очень люблю.
– И я к тебе довольно неплохо отношусь, – улыбнулась она и попросила проходившего мимо стюарда принести таблетку аспирина.
– Ну, так что станем делать? Остановимся у Спарков или снимем квартирку на берегу океана? – спросил Роумэн.
– А как ты считаешь?
– Я спрашиваю тебя, человечек.
– Мне очень приятно делать все, что ты считаешь нужным. Пол. Я плохо отношусь к эмансипации. Женщина должна быть покорной. В этом ее сила. А все феминистки какие-то коровы. Или, наоборот, карлицы. Честное слово, – глядя на сломившегося от смеха Роумэна, улыбнулась Криста. – У нас, когда были живы папа и мамочка, в доме часто бывала фру Ельсен. Феминистка. Я ее очень боялась: громадная, как этот самолет, голос – что иерихонская труба: «Свобода женщины – это свобода мира! Дайте нам точку опоры – и мы перевернем земной шар! Пусть президентом будет мужчина, хорошо, я готова на это пойти, но пост премьера отдайте женщине, она, а не мужчина, калькулирует бюджет семьи, а разве это не есть смысл работы правительства?! Дайте нам власть – и человечество войдет в эру спокойствия и мира, потому что женщины боятся ружей и не знают, куда нажимать, чтобы они стреляли!»
Роумэн каким-то чудом смог переломиться в своем кресле еще больше, чуть не пополам: так он смеялся только если искренне веселился.
Криста поцеловала его в висок, подумав, что не надо ему рассказывать о том, что фру Ельсен нацисты тоже расстреляли: она укрывала у себя русских, которые сбежали из концлагеря, а сама была наполовину еврейкой. Что другому простили бы, посадив в тюрьму, – хоть какая-то надежда на спасение – ей простить не могли: представитель народа, который должен быть сожжен в печах, осмелился помогать славянским недочеловекам!
– Мы вернемся в Европу, Пол?
– Ты хочешь?
– Нет.
– Честное слово?
– Да. Я боюсь.
– Хочешь жить в Штатах?
– Да.
– Понравился Нью-Йорк?
– Очень. Мир в миниатюре: и китайцы, и мексиканцы, и негры, и французы... Я никогда не могла представить себе, что твой город так красив, дружелюбен и открыт... Я счастлива, что ты взял меня с собой.
– Это я счастлив, что ты полетела со мной.
– Ты простишь мне один вопрос?
– Прощу.
– У нас будет дом? Или снимем квартиру в отеле?
– Я хочу показать тебе Лос-Анджелес... Если тебе там понравится, а тебе там понравится, убежден, тогда попробуем купить в рассрочку дом. Грегори кое-что подобрал для меня... Не очень дорогой, довольно маленький, две спаленки, холл и кухня... Кухня, правда, большая, метров пятнадцать, сейчас у нас мода совмещать кухню и гостиную, получается довольно удобно – тут тебе и рефрижератор, и электроплита, и радиоприемник, и большой стол с низким абажуром... Правда, так устраиваются обычно в больших семьях, где есть дети...
– У меня есть деньги. Пол... То есть они могут быть...
– Как это надо понять?
– Это надо понять так, что после папочки остался красивый дом. Его купят немедленно. Прекрасный парк, спуск к фьорду, там у нас раньше стояла красивая яхта с очень сильным мотором, папа прекрасно водил яхту, как заправский моряк...
– Не надо продавать его дом. Лучше мы станем ездить туда в отпуск.
Криста покачала головой:
– Ни за что. Я хочу, чтобы ты продал тот дом.
– Хорошо. Только не торопись это делать. Единственное, что растет в цене, так это земля.
– Ты хочешь, чтобы я все время сидела в нашей квартире?
– Не понял. – Роумэн закурил, повторив. – Я что-то не понял тебя.
– Знаешь, я ведь действительно люблю эту чертову математику.
– Тебе хочется продолжать занятия?
– Собственно, занятия я давно закончила, мне осталось защитить докторскую диссертацию... Не сердись, это, наверное, очень страшно – спать с магистром, но я магистр...
– Оп-па! Хорошо, что ты не сказала об этом раньше, я бы ни за что не женился на магистре, это противоестественно!
– Пол, какой цвет ты любишь больше всего?
– Зеленый.
– А число?
– Тринадцать.
– Нет, правда...
– Клянусь тебе: моя любимая цифра – чертова дюжина.
– Тебя больше тянут брюнетки или блондинки?
– Больше всего меня тянет к тебе.
– Это же тест, милый! Я тебя изучаю.
– Во время тестов надо говорить правду?
– Только.
– Вот я и ответил тебе правду.
– Ты хочешь, чтобы я придумала наш будущий дом? Или он у тебя в голове?
– Он у меня в голове, но я буду счастлив, если ты сделаешь наш будущий дом на свой лад.
– Нет, лучше, если ты сделаешь все так, как тебе нравится. Мне по душе твой стиль. Это только кажется, что у тебя беспорядок. Я заметила, ты прекрасно ориентируешься в своем мнимом беспорядке, значит, так задумано... Мне очень нравится, как ты устроил свою мадридскую квартиру...
– Да я и не устраивал ее вовсе, веснушка!
– Нет, устроил... Ты очень легко обживаешься на новом месте, ты и в Нью-Йорке освоился в нашем номере, словно прожил там целый год. Это завидное качество – уметь легко и без комплексов обживаться на новом месте... А ты хочешь навестить своих родственников?
– У меня двоюродный брат и какая-то там тетя... Я не верю в эти самые родственные связи, если про них вспоминаешь только перед рождеством, когда надо рассылать поздравительные открытки... Я никогда не был избалован родственными связями, знаешь ли... Мама меня не очень-то и хотела, она жила другим, – он как-то странно поморщился, словно гримаса пробежала по лицу. – Отец погиб в автомобильной катастрофе, а я с восемнадцати лет, когда поступил в университет, – один. Хотя нет, неверно, у меня всегда было много друзей, с тех пор я и уверовал, что родственные связи порой бывают формальной обязанностью, а дружество – настоящим братством. Кстати, мы с тобой летим к брату, Грегори – брат мне, настоящий брат по духу... Ты себе не представляешь, какой прекрасный он парень...
– Я ни разу не слышала от тебя плохого слова про людей, с которыми ты знаком... Они у тебя все «прекрасные» и «замечательные», «умницы» и «храбрецы».
– Если человек твой друг, он обязательно самый прекрасный, храбрый, умный и честный.
– Тебе никогда не приходилось разочаровываться?
– Это слово неприложимо к понятию «друг», конопушка. Это значит, что некто играл, чтобы понравиться мне, войти в доверие, приблизиться... Такой человек не был другом... Чего ж тогда расстраиваться? Потеря только тогда похожа на кровоточащую рану, когда есть что терять.
– Ты позволишь мне выпить?
– Что это ты вдруг?
– Не знаю. Можно попросить у стюарда? Очень хочется выпить.
– Конечно, человечек, – ответил Роумэн и подумал, что она, видимо, взяла на себя его слова об игре того человека, который хотел войти в доверие. «Ужасно! Она именно так и подумала, женщина всегда воспринимает слово через себя. А как ей сказать, что я совершенно другое имел в виду, что я чувствую ее частью самого себя, что я верю ей беспредельно? А если я ошибаюсь в этой вере, то надо вставлять ствол ружья в рот и нажимать пальцем правой ноги на спусковой крючок, – незачем тогда жить на земле, если здесь возможно и такое... Но если я ей ничего не скажу, тогда она будет нести в себе эту боль, я должен, я обязан сказать ей...»
– Послушай, человечек, – Роумэн взял ее прекрасное лицо в свои ладони. – Я понял, отчего ты захотела сейчас выпить... И мне стало обидно за то, что ты посмела так подумать... Только не перебивай меня... И еще... Если мне придется выбирать слова, когда я говорю с самым дорогим мне человеком на земле, тогда... Понимаешь? Это очень трудно – подводить под чем-то черту, но если мы уговорились, что мы подвели черту под чем-то, то давай этот уговор выполнять. Ладно?
Криста кивнула, легко прикоснулась губами к его руке и, откашлявшись, сказала:
– Спасибо.
– За правду не благодарят.
– А я не тебя благодарю, а бога.
– Это – можешь, – согласился он. – И еще: мы, американцы, очень вольны в словах, это шокирует европейцев... Поэтому, пожалуйста, научись принимать нас такими, какие мы есть, иначе тебе здесь будет довольно трудно... Наши отцы-основатели были прожженные прагматики, они точно рассчитали, что слово произнесенное не таит в себе угрозы строю. Опасны слова непроизнесенные. У нас говорят все, что хотят, но при этом делают так, как решат дедушки с Уолл-стрита – весьма компетентные деды, знают, как держать общество в состоянии полнейшей свободы слова и при этом абсолютнейшего подчинения своему делу. Потому-то, когда и если тебе что-то покажется, не уходи в себя, не терзайся сомнениями, не проси виски, а задавай вопросы: не бойся, задавай любые, у нас не обижаются на вопрос, потому что имеют право на ответ – пусть такой же резкий или даже неприятный. Более всего в спорте мне нравятся ничьи: два-два; в жизни – тоже, потому что чей-то выигрыш обязательно соседствует с проигрышем, а это – нарушение баланса, поняла?
– Господи, за что же мне такое счастье привалило? – Криста снова прикоснулась губами к его руке. – Ты все знаешь, хотя и не магистр, ну, объясни же: почему – мне и за что – ты? Можешь?
– Могу.
– Ну?
– Всякий человек, перестрадавший столько, сколько хватит на жизнь многих людей, обязательно получает компенсацию. Это тоже закон ничьих. Если бы ты не встретила меня, сделалась бы великим ученым, по-настоящему великим, как Альберт Эйнштейн. Или Бор. Или Кюри. А может быть, стала бы сочинять сказки. Вроде твоего папы, когда он по-своему пересказывал тебе Андерсена. Я верю в это... Через себя верю. Мне ведь тоже досталось в жизни... И вдруг на голову свалился прекрасный агент гестапо, которого я полюбил. А этот гестаповский агент понял» что я ему тоже послан богом. Вот и произошло чудо. К тому же у нас с тобой абсолютная совпадаемость, это тоже чертовски важно. Можно любить женщину, восторгаться ею, но – днем. Это – трагедия. Можно, наоборот, ждать, когда наступит ночь, близость, а утром не знаешь, как бы поскорее слинять, такая рядом с тобой лежит дура. Или истеричка. Или стерва, которая только и думает, как вытрясти из тебя побольше баков. Тоже трагедия. А вот если засыпая после того, как был с тобой, любил тебя, хотел тебя, мечтаешь поскорее проснуться, чтобы снова видеть твое лицо» слышать твой голос, смеяться твоим шуткам и задумываться над твоими словами – так много в них сокрыто мысли, тогда получается то, что в мире редкостно. Кое-кто называет это счастливым браком.
– Ты читаешь мои мысли?
– Большинство.
– Все. Ты говорил то... Нет, не так... Ты повторял то, что я говорила про себя... Только я не решалась назвать себя агентом гестапо...
– Плохо, когда оставляешь в себе тайну. Она ест тебя, как соль металл. Боишься, что кто-то ненароком прикоснется к ней, закрываешься, как улитка, и живешь в постоянном страхе. Зачем? Черта подведена, никаких тайн. Кстати, на твоем месте я написал бы книгу «Я была агентом Гитлера».
– Ты сошел с ума?
– Почему? Это сенсация, заработаешь уйму денег, Грегори поможет продать сюжет в Голливуде, арендуем сейф в швейцарском банке, будем получать десять процентов годовых – чудо что за жизнь!
– Это ты так шутишь?
– Да почему?! Мы очень серьезно относимся к возможности заработать деньги, человечек!
– Вот сейчас ты сказал неправду. Пол.
– Да правду же, правду! У нас свой строй мыслей, нам сто шестьдесят лет, мы молодые, у нас нет истории, как у вас, мы поэтому не боимся отсекать прошлое: было – и нет! Мы не замучены вашими условностями, к былому относимся как к отрезанному куску хлеба: не как к части целого, насильственно от него отторгнутого ножом, а будто к ломтю, который надлежит полить кукурузным маслом, положить сверху кусок сыра, сунуть в электроплиту, слегка обжарить и с аппетитом съесть.
– И твое сердце не сжимается, когда ты вспоминаешь, с чем я пришла в твой дом?
– А твое сердце не разрывается от того, что я, поняв, что ты пришла в мой дом совсем не случайно, играл любовь, отправляя тебя в Севилью? Я перестал играть, когда Гаузнер открыл мне правду. Тогда я снова позволил себе понять, что люблю тебя. Мы квиты, человечек. Я играл в такой же мере, как и ты... Скажи, когда ты полюбила меня?
– Когда нашла котенка.
– Какого котенка? – удивился Роумэн.
– Рыжего. Я нашла его в Севилье. Он очень мяукал в подъезде. Когда я стала кормить его с рук, я поняла, что люблю тебя. А сначала я тебя ненавидела.
– Да?! Почему?
– Потому что мне сказали, что ты держишь в своих руках все нити, потому что немцы перешли в твое подчинение, тебе известно, кто погубил моего папу, ты поддерживаешь этого человека и лишь в твоей воле открыть мне это имя... Или нет... Я мучительно боялась признаться себе в том, как ты мне мил... Ну, спрашивай... Ты же хочешь спросить...
– Да.
– Ты хочешь спросить: ложась с тобой в постель, чувствовала ли я тебя, желала ли? Да?
– Да.
– Ну, тогда я отвечу... Я потому и напилась в тот день, что ничего не хотела... Я никогда, никогда, никогда, никогда не хотела этого... Ни с кем... Знаешь, почему женщины несчастнее мужчин?
– Не знаю.
– Потому что вы не можете спать с той, которую не хотите... У вас это просто не получится. А женщине приходится... Вот я тебе все и сказала – как наизнанку вывернулась. И сажусь писать книгу про агента Гитлера. Только писать я буду на своем языке, а ты сделаешь авторизованный перевод, ладно?
– Авторизованный? Это как? Больше заплатишь?
– Да, в триста сорок два раза.
– Хорошо, – он поцеловал ее в нос. – В Голливуде сразу же заключим договор. Только, пожалуйста, любимый мой человечек, нежность моя и чистота, никогда не таи в себе вопросы. Я тебя очень чувствую, я чувствую тебя постоянно, я, как радио, настроен на тебя, поэтому воспринимаю твои перепады словно свою боль и начинаю копаться в себе, и замыкаюсь, и свет мне делается не мил... Понимаешь? Запомни раз и навсегда: американцы не боятся вопросов – самых прямых и нелицеприятных. Но мы бесимся, чувствуя, что нас хотят спросить, но отчего-то не спрашивают. Тут мы начинаем терять веру, понимаешь?
– Спасибо, что ты все это говоришь мне.
– Мне стало так спокойно, что снова захотелось поспать.
– Не надо. Через полчаса мы прилетим, будет болеть голова... Аспирин действительно здорово помог.
– А я что говорил...
– Пол, а на каком языке мы сейчас с тобой беседовали?
Он недоуменно посмотрел на нее:
– Черт, действительно? На каком?
– На немецком, любимый.
– Правда?
– Правда. Ты меняешь языки, как носовые платки. И по-испански можешь так же?
– По-испански мне легче, я и думаю-то на испанском. Неужели мы говорили по-немецки?
– Ты правда не помнишь?
– Даю тебе слово.
– На немецкий перешла я. Пол.
– Почему?
Она кивнула на человека, который сидел в кресле перед ними:
– Джентльмен очень интересовался нашим разговором.
– Тебе показалось.
– Нет. Он очень интересовался нашим разговором. А в тебе я открыла еще одно удивительное качество: ты доверчив, как маленький.
Он покачал головой:
– Неверно. Маленькие более недоверчивы, чем взрослые. Попробуй, помани на руки малыша, если ты не брит и неряшливо одет... Он так зальется плачем, так станет хвататься за маму...
– Если поманит женщина – пойдет.
– К тебе – может быть. Я бы на его месте пошел. Сразу же. А к какой другой женщине – будет раздумывать. Я очень часто вспоминаю свои чувствования, когда был маленьким. Правда. Я с годами научился верить людям. Чем больше меня обманывали, тем больше я верил. Очень странно. Знаешь, это как в боксе навязывать сопернику ближний бой. Надо навязывать окружающим доверчивость, тогда им будет стыдно делать тебе зло. В каждом человеке живут и бог, и дьявол: кого в нем вызовешь, того и получишь.
Криста снова поцеловала его руку.
– Только б подольше все это продолжалось, – шепнула она, – только б это продолжалось как можно дольше, боже милостивый... Я никогда, никогда, никогда, никогда не была такой счастливой, как сейчас.
Когда в аэропорту Лос-Анджелеса он бросился к Грегори Спарку и Элизабет, чуть не сшибая всех на своем пути, Криста вдруг сделалась белой, как бумага, ноги ее ослабли, она прислонилась к стене. Так же побледнел и Спарк, когда увидел ее, поняв, что она и есть миссис Роумэн.
И у нее, и у него были основания для этого: Криста работала по Спарку осенью сорок четвертого, когда была отправлена в Лиссабон Гаузнером; в свою очередь, Спарк был увлечен ею, и ему тогда стоило большого труда (если допустимо определить таким словосочетанием все то, что он тогда пережил) разомкнуть ее руки на шее и сказать ей про Элизабет, которую он не может бросить, а пуще того сыновей, без которых мир для него кончится.
– Криста, скорее же! – крикнул Роумэн, оглянувшись.
– Ей плохо, – сказала Элизабет и бросилась к Кристе, по-прежнему стоявшей возле стены; бледность ее сделалась какой-то синюшной; тени под глазами казались столь темными, что даже пропал морской цвет громадных глаз, они сделались пепельными, пустыми.
– Ей плохо, – повторил Роумэн и, бросившись следом за Элизабет, обогнал ее, стремительно лавируя между людьми – точно так, как его учили в диверсионной школе перед забросом в немецкий тыл.
Спарк стоял на месте, не в силах двинуться с места, до странного явственно ощутив себя маленьким мальчиком, которого мама потеряла на вокзале; они тогда ехали в Питтсбург, это было перед пасхой; тьма народу; мама сказала, чтобы он постоял у стены, никуда не отходил, он и стоял, но потом увидел щенка, которого вела на тоненьком металлическом поводке седая дама, и вдруг заметил, как щенку режет шею; бросился следом за маленьким шоколадным пуделем. Тот все оглядывался на него, они же были на одном почти уровне, а как собака выразит свою боль, если не посмотрит в глаза богу, он ведь все понимает, громадный пятилетний бог на двух ногах (как они могут держаться на них, это же такое искусство, воистину, хозяева – существа высшего порядка, попробуй не подчиняться им). Когда мальчик поправил ошейник и пудель лизнул его руку, попрощавшись с ним глазами, Грегори понял, что стоит возле дверей на перрон и не знает, куда возвращаться. Он ощутил такой ужас, что у него враз похолодело лицо и в груди сделалось пусто. Так было и сейчас, только еще хуже.
Роумэн подхватил Кристу, прижал ее голову к груди:
– Что такое, человечек?! Что с тобой?! Тебя никто ничем не угощал? Почему ты белая?! Ну, ответь же!
Подоспела Элизабет, обняла Кристу за плечи, прижалась губами к ее холодному виску:
– Миленькая, что?! Господи, какая красивая! Сейчас все пройдет, сейчас. Погодите, а вы не ждете ребеночка?
Резко, будто от удара, плечи женщины вздрогнули, а после Роумэн ощутил на своих ладонях слезы Кристы; она плакала беззвучно и неутешно, все теснее и теснее прижимаясь к нему.
– Тебя никто ничем не угощал, пока я спал? – спросил Роумэн требовательно и строго. – Ну-ка, ответь.
Она покачала головой, вытерла слезы со щек, и он почувствовал, как собралась ее спина.
– Сейчас, – шепнула Криста, – все в порядке, любовь моя, уже проходит, просто меня укачало. Прости, пожалуйста.
– Ее укачало, бедняжку, – повторила Элизабет, – боже, как красива, какая прелесть, вы так прекрасно смотритесь вместе, я счастлива за тебя. Пол.
– Ну, – улыбнулся Роумэн Кристе, – можешь протянуть руку моей сестричке? Ее зовут Элизабет, она душенька и настоящий дружок.
Криста с трудом оторвалась от него и протянула руку Элизабет:
– Я счастлива, что у Пола такая замечательная сестра.
Элизабет крикнула Спарку, который по-прежнему стоял там, где его оставили Пол и Элизабет:
– Ты что, стережешь чемоданы, Спарк?
Его словно бы подтолкнули, и, деревянно вышагивая, он двинулся сквозь толпу загорелых, смеющихся, веселых людей в легких костюмах, ощущая с каждым шагом все большую и большую тяжесть в ступнях, словно они внезапно покрылись нарывами, наполнились горячим, свинцовым гноем.
– Здравствуйте, Грегори, очень рада встретить вас, – сказала Кристина.
– Добрый день... То есть вечер... Очень приятно, Кристина, как хорошо, что вы, наконец, приехали.
– Поцелуй же его! – сказал Роумэн, подтолкнув Кристу к Спарку. – Брат как-никак! Настоящий, единственный, верный!
Криста потерянно поцеловала Роумэна, еще теснее прижавшись к нему, и протянула Спарку руку:
– Как хорошо, что вы есть у Пола... Он вас так любит...
– Девушка засмущалась, – рассмеялся Роумэн. – Пошли, люди, мечтаю сесть за стол вместе с вашими сыновьями и съесть очень много спагетти.
– Я сделала яблочный пирог, какой ты любишь, – взяв Кристу под руку, сказала Элизабет, – очень мягкий, совсем без сахара, а Спарк съездил к нашему приятелю на ферму и привез телячью ногу! Я запекла ее в тесте – с чесноком, морковью и луком, ты будешь стонать и плакать над этим блюдом! Вы любите готовить, Крис?
– Очень. Только у меня все недожаривается и недосаливается.
Роумэн толкнул Грегори локтем в бок:
– Ты что окаменел, мужчина? Тебя ошеломила красота моей жены?
– Есть маленько, – улыбнулся Спарк каменной, натянутой улыбкой. – Просто я... Мы очень долго вас ждали, самолет опаздывал, и я начал психовать, что с вами... Реакция на ожидание, не обращай внимания. У вас много багажа?
Роумэн кивнул на сумку:
– Все наше носим с собой. Можем сразу же ехать к вам.
– А мы арендовали вторую машину, – сказала Элизабет. – Мы думали, вы притащите тройку чемоданов, ждем вас на месяц, раньше не отпустим, поэтому арендовали для вас машину, у нас маленькая, боялись, что с багажом не уместимся... Я поеду с Крис, только не обгоняйте нас, ладно? Подействуй на Спарка, Пол, он гоняет, как безумный, на его страховку я не смогу воспитать мальчиков, они станут бандитами, а я умру возле тюремных стен с передачей в руках...








