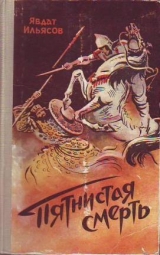
Текст книги "Пятнистая смерть"
Автор книги: Явдат Ильясов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
– Ты в разных странах побывал, много хорошего видел – научил бы лучше этому хорошему, чем смеяться над сакской дикостью.
– Послушай, сын мой, умную персидскую пословицу, – кисло улыбнулся Фрада, брезгливо отодвигаясь от пастуха. – Один сказал: "В шатрах соседнего рода пир". Другой ответил: "А тебе что?" Первый сказал: "И я зван". Второй ответил: "А мне что?" Слыхал? Понимай, как хочешь.
Чего тут понимать – чужой человек Фрада, не сак, хоть и саком родился. Какое ему дело до сакских нужд? И дочь такая же. У горького дерева – горький плод.
Табунщик с ненавистью глянул на Райаду. Подумать только! Дрянь, пустое место, глупая пичуга. Мелкое, бездумное, себялюбивое существо. Женщина-животное. А сколько человек заставила страдать!
Говорят красоту женщине дает богиня Анахита. Грех роптать на богов, но, значит, и сама Анахита – набитая дура, коли ей взбрело прицепить этакой ослице нежный лик пери. Ух, отодрать бы тебя этой плетью!
Женщина – страшный зверь. Лучше бы их не было совсем длинноволосых. То есть, пусть будут, конечно, но лишь такие, как Томруз и Майра. Да вот маловато таких, кажется. Или не прав Хугава?
...В первый день, как водится, о делах не толковали.
Старейшины четким четырехугольником расположились в просторном четырехугольном шатре, на мягких войлоках, разостланных у самых полотнищ. Оба высокопоставленных перса удостоились почетного места напротив широкого входа, рядом с Томруз.
Гау-барува хлопнул ладонью о ладонь. Восемь телохранителей, напряженно покряхтывая, с лицами, потными от натуги, втащили в шатер тяжелый ковровый тюк.
– От имени царя Куруша, повелителя моего, преподношу я дары запада предводительнице великих саков Томруз и досточтимым старейшинам хаумаварка.
Гау-Барува разрезал сеть веревок, стягивающих тюк, и с помощью телохранителей развернул громадный ковер.
Хугава, сидевший у входа, резко отпрянул – на него в упор глядела Пятнистая смерть.
Груда пестрых тканей, золоченых цепей, круглых сосудов, небрежно завернутых в большое, желтое с черными кольцами, дорогое покрывало, случайно легла так, что с того места, где находился табунщик, могла и впрямь показаться леопардом, готовым к прыжку.
Наваждение длилось всего три мгновения. Хугава испуганно покачал головой – чего только не примерещится человеку!
Табунщик, в отличие от многих сородичей, не боялся ни духов, ни бесов, ни всяких прочих кикимор и чертей, хотя и верил в их существование. Такой уж он был человек. Однако промелькнувший сейчас перед глазами образ Пятнистой смерти устрашил его как ребенка.
Хугава пытался взять себя в руки, но чувство смутной тревоги, какой-то неясной опасности не покидало пастуха весь день.
Чтоб лучше видеть, один из сакских вождей поднялся и откинул полог, прикрывающий вход. На кучу царских даров упал прозрачный поток солнечных лучей. Она ярко вспыхнула, плавно отбросила радужную волну отражения, и сакам почудилось, будто в шатре запылал невиданный по красоте костер.
В груде расшитых золотом, золототканых, золоченых, посеребренных, литых, чеканных, резных, крученых, черненых, крытых эмалью разнообразных вещей все было мадское и бабирское, лидийское и греческое, иудейское и финикийское. И – ни клочка персидского, разве что ковер; да нет, и тот, пожалуй, был от парфян или армян.
Персы – еще недавно безвестная народность, прозябавшая в убогих лачугах на краю света, – сами пока ничего не умели, благородному ремеслу еще не научились, зато куда как наловчились отнимать и присваивать изделия мастеров покоренных стран.
Долго не могло опомниться собрание сакских вождей, ослепленных, подавленных чуждой их быту, кричащей роскошью. Старейшины только переглядывались изумленно да щелкали языками о зубы.
У некоторых мелькнула заманчивая мысль: не бросить ли к дьяволу эту чахлую пустыню вместе с чесоточными овцами, не заняться ли, по примеру расторопной персидской знати, грабежом соседних городов и селений? Дело добычливое. Чем сакские старейшины хуже персидских, почему они должны ходить в лохмотьях?
Фрада скорчился и болезненно всхлипнул от зависти. Цепкие руки отца Райады так и потянулись судорожно-загребающим движением к сверкающей куче сокровищ.
Одна Томруз держалась спокойно. У женщины, конечно, тоже разгорелись глаза, но в них было восхищение, а не жадность. Точно такими глазами она любовалась бы тончайшими прожилками в лепестке мака, серебристым мехом новорожденного ягненка или весенним закатом, когда темно-багровые, с золотыми краями, облака плывут по ярко-лиловому разливу неба.
– Богато, – улыбнулась Томруз. – Не знаю, чем и отдарить. У нас что? Кожа, шерсть да войлок – вот и все достояние. Ну, кони неплохие...
Она кивнула Хугаве, скромно сидевшему на корточках у порога:
– Завтра отловишь для гостей три косяка лучших четырехлеток. Но конями вас не удивишь, не так ли? – вновь обратилась Томруз к Утане и Гау-Баруве. – Я слыхала, у персов хорошие табуны.
Саки и персы изъяснялись между собой свободно – столь близко родственны были их наречия. Лишь иногда, забывшись, Томруз произносила два-три диковинных слова, непонятных для гостей – дривики, так же, как дахи и аугалы, происходили от фракийского корня. Они давно и неотделимо слились с туранскими саками и восприняли их речь, но кое-кто сохранил в памяти и старый язык.
– У нас в пустынных горах, – продолжала Томруз, – дождь и талая снеговая вода вымывают порой кусочки блестящего желтого металла. Это не медь. На добрую посуду, мечи, наконечники не годится, да и мало его, так что нам, сакам, он ни к чему. Но говорят, у вас, на западе, любят такой металл. Правда? Посмотрите.
Томруз подняла скомканный, брошенный перед нею платок, и персы увидели плоский слиток величиной с баранью голову.
Она вопросительно взглянула на гостей. Конечно, Томруз не была настолько уж темной, чтобы не знать цены золоту. Но – разве обойтись без маленькой хитрости, когда водишься с таким жадным народом, как дети Айраны?.. В делах лучше казаться глупой, оставаясь умной, чем казаться умной, оставаясь глупой, как горшок.
Кочуя у гор, саки упорно рылись в осыпях, терпеливо, по крупинке, собирали желтый металл и отдавали верховному вождю, который и хранил его на черный день. Золото берегли. Расставались с ним неохотно, предпочитая расплачиваться с приезжими купцами кожей и шерстью.
Алчно сверкнул взгляд Утаны, резко подался вперед Гау-Барува. Вся куча цветастых тканей и чеканных сосудов, наваленных персами посередине шатра, не стоила и половины крупного слитка.
– Вот наш ответный дар царю Парсы! – сказала Томруз.
Она понимала – сакский дар вдвое превосходит персидский, но именно этого и хотела Томруз. У гордых послов опустились носы. Она сбила с них спесь. Пусть не думают хитрецы с запада удивить предводительницу саков расшитым тряпьем. И свои старейшины пусть видят, что им вовсе не из-за чего завидовать персидской знати. Пусть они подумают да рассудят, хороши ли нравы чужой страны, где люди готовы отдать душу за никчемный желтый камень. Золото! Что – золото? Его можно нарыть в горах сорок мешков. А вот человеческого достоинства в щебнистых осыпях не наскребешь. Надо беречь достоинство человеческое. Или оно дешевле металла?
Персов угостили мясом оленей, диких свиней и онагров, целиком зажаренных на костре, вареной бараниной, рыбой и дичью. Пенилось в бурдюках острое заквашенное кобылье молоко. Гости раскупорили вина, но саки дружно отказались от напитка, доводящего людей до безумия.
Лишь Фрада облизнулся при виде наполненных чаш. Он знал вкус вина. Ему нестерпимо хотелось выпить, но... что скажут сородичи? Он даже и есть не стал – настолько обозлился на "проклятых саков" за свой страх перед ними. И это – жизнь?! Не можешь без оглядки взять в рот то, что само просится в нутро... Ох! Фрада прикинулся хворым и сбежал с пира.
Наутро Томруз переговорила с Утаной:
– Итак ты хочешь торговать с нами? Хорошо. Вези товары на эту сторону. Все возьмем – ты знал, что захватить. Только пшеницы надо было взять побольше. У саков много скота, но любимое блюдо – тесто вареное. У соседей наших оседлых много зерна, а мяса маловато, так они без ума от мяса. Так уж выходит... – Она улыбнулась. – У кого чего мало, то и дорого. Даю по пять невыделанных кож за одну выделанную, по три кипы шерсти за сверток ткани, по барану за три котла. Ну, и золота дам немного – такой же слиток дам, как и вчера. Мы ведь впервые торгуем с персами, для начала не жалко.
На десяти огромных хорезмийских лодках персы переправили товары на правый берег. Утана, позабыв о еде и отдыхе, метался, как в белой горячке, от лодки к лодке, от тюка к тюку, от раба к рабу, кричал, ругался, подгонял грузчиков, торопясь сбыть добрый товар за добрую цену.
– У нас часты гости из Сугды, Бактры, Марга и Хорезма, – сказала Томруз. – Вас, персы, видим первый раз. И довольны вами. Вещи хороши, сделаны старательно, крепко и чисто. Не знаю, чьих рук работа, но она не хуже сугдской. А сугды – первые мастера. У нас в пустыне так не умеют. Сумели бы, да негде и некогда – кочуем, не задерживаемся долго на одном месте. Вот и лепим горшки, как попало – красоты мало, лишь бы воду не пропускало. Вот так. Теперь будем знать – с персами выгодно торговать. Приезжайте! У саков много такого, что нравится вам. У персов много такого, что нравится нам. Будем дружить. Будем вершить мену на равных условиях. Разве это плохо? Что скажешь, брат Утана?
– Дело доброе, сестра Томруз. Славное дело. Я постараюсь пригнать осенью еще один караван.
– Да будет тебе удача!
– А золото, – Утана понизил голос, – золото еще найдется?
– Припасем! Не беспокойся. Знаешь, – доверительно зашептала Томруз, саки народ неплохой. Умный, прямодушный, в помыслах чистый. Но сторона наша – от великих стран в стороне. Живем где-то слева от солнца, справа от луны. Честно скажу: еще немало у нас темноты. Заметил, наверное? Я хочу вывести мой народ на широкий путь. Хочу научить саков строить города, пахать землю, выращивать плоды, считать звезды, расписывать стены жилищ, шить красивую одежду, наносить на глину знаки, по которым люди угадывают мысли. Чтоб у нас было не хуже, чем в Бабире, Сугде, Хорезме. Только чтоб не было царей, – заметила она с улыбкой. – Хватит пропадать в песках. Пусть входы шатров наших так же широко распахнутся для вас, как входы ваших дворцов – для нас. Видал болотную черепаху? Она ничего не хочет знать, кроме болота. Человек – не черепаха. Учи других – и сам учись у других. Не так ли, брат Утана?
Ого! Перс удивленно глянул в глаза Томруз. Умна. Так вот она какова, "неумытая"...
– Так, сестра Томруз! Темноты... и в Айране хоть отбавляй. Больше, чем ты думаешь. Больше. Но дружить мы можем. Дружить, жить в мире. Только... О, если б это зависело только от меня!
...Ночью в посольский шатер тайно явился красавец Фрада.
– Торговать хочу с вами.
– Как? Вы, саки, разве не сообща торгуете?
– Пусть они как хотят. Я – не такой.
– А! – Гау-Барува зорко пригляделся к саку. Закусил рыжий ус. Подумав, сказал осторожно и льстиво:
– Да. Ты не похож на своих волосатых сородичей. Тебя можно принять за халдейского или даже персидского царедворца.
Он тихо, как лис у сусличьей норы, ждал, что ответит Фрада.
– Ну, на царедворца я вряд ли похож. – Фрада с умной усмешкой тряхнул полою старого кафтана. – Однако и не чета какой-нибудь То... Ладно. Есть хороший товар? Настоящий? Котлы и прочую дрянь не беру. Дайте серебряную посуду. Дорогую ткань – такую, из какой шьют одежду в Сфарде. И вина побольше – не пил давно.
"Не дурак, – удовлетворенно подумал Гау-Барува. – Но и не мудрец. С ним, пожалуй, удастся..." А Утане ночной гость не понравился. Ишь ты! "Не такой..." Чтоб отвязаться от нагловатого сака, он сказал строго:
– Платить чем будешь? Я тоже... кожу и прочую дрянь не беру. Набрал довольно. Не знаю, как увезу.
– Разве я тебе навязываю кожу, или шерсть хочу всучить? Сейчас такое покажу – глаза на лоб полезут. Фрада – это Фрада.
И глаза у Утаны полезли на лоб. Фрада высыпал на кошму горсть бирюзы – чудесных самоцветов цвета морской волны.
– Дождь вымывает в пустынных горах не только желтый металл. – Он хитро прищурился. – Да не все знают в этих камешках толк! Думают – ерунда, красивая галька. Ребятишки играют – на ладонях подбрасывают, через руки кидают. У персов есть такая детская игра?
– Все отдам... – Утана отвел в сторону сияющие глаза, чтоб не выдать бурного ликования. Торопливо завязал бирюзу в платок, заботливо спрятал за пазуху. Не нравится Фрада? Фрада – плохой? Пусть! Пусть его собака съест Утане-то что? Выгода есть выгода. Бирюза – бирюза.
Не только за красивый цвет и прозрачность любит западная знать рубины, смарагды, сапфиры, алмазы, агат, бирюзу. В драгоценных камнях волшебная сила. Они оберегают человека от сглаза, ворожбы, колдовства, бесплодия, преждевременной старости, болезней, змеиных укусов, разбойников, клеветы и прочих напастей.
Ого, как развернется теперь Утана! Только бы добраться до Бабиры... Купец вышел из шатра, чтобы отдать слугам распоряжение вскрыть тюки с добром, припасенным для богатых покупателей.
Гау-Барува – вкрадчиво – Фраде:
– Вижу, ты умный человек. Рад. Редкость в наше время. Может быть, мы еще встретимся. Прими мой дар.
И рябой перс, не спуская изучающих глаз с настороженных глаз Фрады, медленно протянул ему электровое, серебряное с золотом, толстое кольцо с печаткой вместо камня. На печатке чернел изломанный крест, похожий на паука. Арийский знак.
Фрада, как бы взвешивая, подкинул кольцо на ладони. Понимающе, сообщнически, подмигнул персу:
– Опасный дар, не правда ли?
Оба долго молчали.
– Посмотрим. – Фрада вздохнул. – Может, и встретимся. Пока я спрячу твой дар вот сюда. – И он сунул кольцо, как Утана – бирюзу, за пазуху, поближе к сердцу, подальше от чужих глаз.
Третий день.
Гау-Барува озабочен. Утана встревожен. Что будет? Согласится ли Томруз выйти замуж за Куруша?
СКАЗАНИЕ ШЕСТОЕ. ПАСТУХ И КОБРА
Когда человеку режут палец, он кричит и плачет от боли. Бедняге кажется – нет страданий выше. И лишь тогда, когда всю руку отхватят несчастному, поймет человек, что значит настоящая боль.
С тех пор, как царь Куруш явился в Ниссайю и поселился у Раносбата, жизнь дахских заложников превратилась в неизбывную муку. Жарились на медленном огне – угодили в бушующий костер. Было куда как плохо – стало вовсе невмоготу.
И не только потому, что с приездом царя и его свиты прибавилось работы во дворе, на кухне и в конюшне. Работа по принуждению – пытка, но пытка невыносимая. Хуже то, что усилился надзор. Тяжелой стопою затопала по замку строгость. Замахали бичами крутость и лютость. Персы боялись заговорщиков и тайных убийц.
Прежде заложникам не возбранялось свободно передвигаться внутри крепости, собираться у стены в кружок, отдыхать на воздухе. Лишь бы за ворота не ускользнули. Теперь к ним приставили Михр-Бидада, он висел над душой, как черная туча над головой усталого путника, и не давал степнякам и шагу ступить по своему желанию.
Как скот из стойла, выводили дахов поутру из вонючего сарая, заставляли трудиться до мелкой дрожи в коленях, до сверлящей боли в пояснице, до немоты в руках, до отупения, а вечером гнали обратно в грязный сарай.
Правда, памятуя разнос, сделанный ему Раносбатом, надсмотрщик толкался меньше, чем раньше, и пинался реже, чем прежде, но держался еще более заносчиво, не упускал случая обругать, оскорбить "поганых".
Зной. Пыль. Дахи, привыкшие с рождения к простору и ветру полей, задыхались в душном загоне, чахли, как зеленый лук без воды. Они увяли, осунулись и пожелтели. Их заедали мухи, изводили орды блох и вшей. Вдобавок ко всему, персы изо дня в день кормили пленных жидкой просяной похлебкой, от которой выворачивало нутро.
Люди жаловались на неутихающую головную боль, слабость, тошноту, резь в глазах. Неволя – собачья доля. Чувство неволи – хворь, худшая из всех.
– За что? – Гадат ночами больно кусал со зла и отчаяния. – Неужели "ребрам" вечно торчать у нас поперек горла?
Заложники лежали вповалку на голой истлевшей циновке, населенной полчищами мокриц, бормотали во сне, стонали, вскрикивали, скрипели зубами.
– Терпи, – уговаривал Гадата старший. – Наступит время – в пыль разлетятся персы. Я помню, как мады тут бесчинствовали. Где они теперь? Саки, дахи, парты, варканы собрали силу в один кулак да такой удар мадам нанесли, так их разломали да понесли – лишь куча навоза осталась! Курушу потому и удалось одолеть Иштувегу, что мадская мощь захирела после нашего восстания. На весь мир гремели, а ныне сами ходят у перса в рабах. Погоди. И с персами это случится.
– Случится ли?
– Непременно! Не останется зло без возмездия. Никогда. Кто причинил зло, тот обрек свою голову на гибель. За ним по пятам незримо бродит чья-то ненависть. И рано или поздно она вонзится в грудь или спину отравленной стрелой. Напрасно насильник уповает на силу – от мести обиженных нет спасения. Гнет – смертельный враг самого угнетателя. Тому, кто сеет чертополох, придется есть колючки. Так, сын мой!
– Так, говоришь? Тогда почему люди все-таки мучают друг друга? Вот ты степняк, простой человек. Но и то судишь о жизни здраво. А царь – ведь его с детства мудрецы наставляли! Он лучше тебя должен понимать, где вход, где выход. Почему же он все равно прется, как слепой бык, по плохой дороге? Видал же, проклятый, слыхал, куда привела та дорога других?
Старший усмехнулся.
– Мы с тобой сейчас так разумны потому, что унижены, под самой горой сидим. А попали бы на вершину – тоже закружилась голова, куда и разум делся!
– Ну, нет! Я на своей шкуре...
– Ладно. Сделаешься царем – увидим. В чем у правителей беда? Каждый из их породы считает себя в тысячу раз более умным, изворотливым, счастливым, чем прежний властитель. Думает: не удалось взлететь к небу тому – непременно удастся ему. Уж мне-то, мол, повезет обязательно. А как срубят голову – раскаялся бы, да поздно: нечем и каяться...
– Выходит, дураки они все цари?
– Если б только дураками были... Дураку, может, и простить не грех, ибо он – дурак, сам не ведает, какую творит пакость. Но дураков среди них мало! Умен угнетатель, хитер.
Давай, думает этакий ловкач, раз уж вознесла меня судьба на высоту, потешу сердце, покатаюсь на чужих горбах. Всласть позабавлюсь властью. Поблаженствую за счет чьих-то слез. Жизнь – одна, все равно умирать. Это уже не дурак, а темный проходимец, вор, преступник опасный. Таких надо на кострах жечь при народе, уничтожать, как саранчу.
– Уничтожать! А меня уговариваешь – терпи. Я бы сегодня Михр-Бидада с костями съел.
– Что – Михр-Бидад? Крохотный побег, пусть и зловонный. Вот он-то и есть дурак. Ядовитое дерево надо рубить под корень. И пень выкорчевать. Настанет час – срубим и выкорчуем. Но час не настал еще. Вот поднимется буря, надломит ствол – тогда и повалим.
– Когда ж она поднимется?
– Поднимется когда-нибудь. Может, скоро. Всякому грязному насилию приходит конец.
– Не согласилась? – Куруш выронил камень, о который точил нож.
Перед ним лежала на лужайке крепко связанная самка онагра, дикая ослица, только что пойманная с помощью аркана.
Животное вскидывало точеную голову, бессильно сучило ногами, пытаясь встать, вырваться из пут. По упругой коже пробегала частая дрожь, на короткой и шелковистой шерсти переливчато играл отблеск солнечных лучей.
Ослица жалобно глядела на людей умными и печальными глазами.
Она была на редкость хороша и также превосходила красотой одомашненную родственницу, как статная лань – вислобрюхую корову.
Третий день охотился царь в предгорьях. Здесь, в лощине, среди желтеющих холмов, у старой чинары, и нашли повелителя послы, вернувшиеся из-за Аранхи.
– Почему... не согласилась? – Лицо Куруша покрылось красными, цвета сырого мяса, неровными пятнами – будто царя больно отхлестали по щекам.
Гау-Барува не раскрыл рта. Советник угрюмо, как хворая сова, сидел на толстом корне чинары.
Ответ держал Утана.
– На третий день, после утренней еды, кочевники взялись нас развлекать. Каждый старался сказать доброе слово, сделать доброе дело для послов Куруша. Видит Гау-Барува: дух у саков – благоприятный для важного разговора. Поднимается. И наступает нечаянно на край белого войлока. Белый войлок у них – знак высшей власти. Я мигаю Гау-Баруве: убери ногу. Не понимает. Саки хмурятся. Так, с ногой на войлоке, и объявил Гау-Барува твое желание.
– "Войлок, войлок"! – вспылил Гау-Барува. – При чем тут белый войлок?
– Из-за него вышла неудача.
– Чушь!
– Дальше? – Царь подобрал с земли точильный камень и так, с ножом в одной руке и с точильным камнем – в другой, продолжал слушать Утану.
– Саки удивились, притихли, будто им принесли худую весть. Долго молчали да переглядывались. Видно не ждали подобного оборота.
"Что скажешь в ответ, мудрая сестра?" – спросил Гау-Барува.
"Что я могу сказать? – сердито молвила Томруз. – Одна плохая хозяйка целых два дня старательно стирала белый войлок, а на третий день, когда войлок сделался почти совсем чистым, она по глупости густо измазала его черной сажей... – И Томруз покосилась на сапог Гау-Барувы. Он заметил свою оплошность, убрал ногу. Но – поздно. – Белый войлок хорошо наладившегося дела, – продолжала Томруз, – вы, персы, по неразумию испортили сажей ненужных речей. Мыслимо ли, чтобы я вышла замуж за Куруша?".
"Почему немыслимо? – возразил Гау-Барува. – Соединитесь – и дружба, которую мы завязали столь удачно, будет крепкой, точно сакская бронза. Нет прочнее уз, чем узы родства".
"Не всегда, – заметила Томруз. – Не всегда узы родства – самые прочные. Но – пусть будет по-вашему. Ради дружбы я готова хоть сейчас породниться с царем царей. Только обязательно ли именно мне и Курушу класть головы на одну подушку? Он стар. Я тоже немолода. Кроме того, я не из тех проворных женщин, которые, едва освободившись от одного мужа, спешат со слюной на губах выскочить за другого. Женщина должна помнить она не только утеха для мужчины, но и мать его детей. Она человек, а не собака, слоняющаяся меж дюн. Я была и остаюсь Белому отцу верной женой, а Спаргапе – заботливой матерью. И останусь до конца дней своих. А с Курушем – с ним мы можем породниться, – усмехнулась эта коварная женщина. – У меня – сын Спаргапа, у него дочь Хутауса. Им более к лицу сватовство и женитьба. Соединим их – вот и свяжут саков и персов узы родства".
– Дальше? – Куруш потрогал большим пальцем лезвие ножа.
Гау-Барува растерялся. Да буду я твоей жертвой, брат Гау-Барува! Не сердись, но поначалу ты растерялся. Зато быстро оправился и ответил ей:
"Прекрасный павлин" предназначен в жены своему брату Камбуджи, поэтому твой сын не может на ней жениться".
"Вот как! – невесело улыбнулась Томруз. – Вы, персы, мудрый народ. Но знайте – и другие вас не глупей. "Собакам" не хуже, чем "ребрам", известны обычаи Востока. На Востоке законным царем считается либо сын дочери, либо муж дочери предыдущего царя. Не так ли? Потому вы и не хотите отдать Хутаусу, "Прекрасного павлина", за моего сына – ведь так Спаргапа сделался бы после Куруша повелителем Парсы! О, разве Куруш согласится на это? Боже упаси. Лучше выдать Хутаусу за родного брата, лишь бы Камбуджи досталась царская власть. А вот жениться на "неумытой сакской бабе" (откуда она узнала?!) Куруш не прочь. Став мужем Томруз, он превратится, по тому же обычаю, в полного хозяина сакской земли, сакских стад. Не так ли, гости досточтимые? Я – женщина. Привыкла возиться с пряжей. Любой узел распутаю, как бы хитро не завязали".
– И Томруз засмеялась, и в медном смехе этой удивительной женщины было не меньше яда, чем в жале гюрзы, – вздохнул Утана.
– Дальше? – с трудом протиснул Куруш сквозь зубы и с пронзительно-скрежещущим, звенящим звуком провел ножом по точильному камню.
– Дальше? Они вернули наши дары, мы вернули их дары. Собрались. Распрощались. Уехали. Что оставалось делать?
– А ты забрал товар?
– Товар – не дар, я получил за него плату.
– Так. Дальше?
– Томруз напоследок сказала: "Если вы, сыны Айраны, и впрямь, без всяких помыслов тайных, хотите жить с нами в мире и добром соседстве, торговать и дружить, то наши сердца всегда открыты для вас. Но если ищете здесь легкую поживу, собираетесь прибрать к рукам страну, как прибрали много других стран – уходите и больше не приходите. Исчезните с глаз! Пусть головы ваши расширятся, пусть спины ваши сузятся. Чтоб не видеть нам встречных следов, чтоб видеть нам цепь следов удаляющихся. Не нужно туранцам ни персидских мужей, ни персидских невест. Мы, саки, сами управимся со своими делами. Так и передайте Курушу. Жених! Мало ему дочерей Иштувегу и сотен наложниц – на мне, бедной степнячке, жениться захотел. Прощайте". Она поехала нас провожать и повторила раз десять, не меньше: "Жалею, что так получилось. Давайте жить в мире".
– Испугалась? Отказала – и испугалась? – злорадно спросил царь.
– Н-нет, государь. Непохоже, чтоб испугалась. Кажется, действительно ей жалко, что связь между нами оборвалась, не успев наладиться.
Царь заметался по лужайке, сверля пятками суховатую землю и резко взвихривая полу широкой одежды на стремительных поворотах.
Тому, кто привык к плавному, как полет стрелы, бегу благородного иноходца, больно трястись на костлявой спине тощего рысака.
Сухая ячменная лепешка до крови раздирает рот, знакомый лишь с мягким пшеничным хлебом.
Человек, который всю жизнь бил других. Сам же не подвергался сечению, в тысячу раз тяжелее, чем битый, переносит внезапно нанесенный удар.
Томруз отказалась выйти замуж – за кого? За Самого Царя Царей.
Воображение ария птицей взметнулось в лазурное, еще не затянутое желтой пылью, небо Ниссайи.
Устремилось через черные пески и утесы к югу.
Порхнуло меж пальм, мерно колыхавшихся у Аравийского моря.
Пересекло голубой узор сплетенных вместе Тиглата и Пуратту [Тиглат и Пуратту – реки Тигр и Евфрат].
Перескочило через Малую Азию.
Покружило над белыми колоннами приморских греческих храмов, посетило скалистый Кипр, жаркое побережье Палестины и, вмиг облетев половину мира, перенеслось, вновь задев Ниссайю, на северо-восток, к Аранхе.
И здесь упало, с ходу врезавшись в плетеный сакский щит.
Тысячи тысяч спин, согнувшихся над пашней, над гончарными кругами, ткацкими станками, наковальнями, рыбачьими сетями на великом пространстве от дальних до ближних морей, и само это пространство – гористое, выпуклое, изрезанное долинами – представились царю одной огромной, натруженной, худой и жилистой спиной, исполосованной кнутом, покорно сгорбленной под каменными стопами Куруша.
Стоило кому-нибудь набраться храбрости и смелое слово молвить против "мужей арийских", как завоеватели тотчас хватались за оружие.
Поселения мятежников обращались в груды развалин – будто их разрушило землетрясение страшной силы. Улицы превращались в кладбища, жилища – в могилы. Мужчинам, способным держать копье или меч, сносили головы с плеч, женщин, опозорив, уводили в рабство. Умерщвленных стариков повергали в прах, детей, зная наперед, что им не перенести дорожных невзгод, толпами сжигали на кострах.
Там, где лишь вчера возвышался шумный город, сегодня раскидывался тихий пустырь. Меж обломков стен отдыхали в знойный полдень стада. На капителях рухнувших колонн в холодную полночь щелкали иглами дикобразы. В проемах окон, подобных пустому оку черепа, тосклив и уныл, ныл ветер.
Путник, случайно забредший в руины еще недавно многолюдного города, испуганно слушал, как стонет сыч, как верещит зайчиха, которую схватил сарыч, глядел на колючки, на битый кирпич, разводил руками и свистел от изумления.
Такова была персидская власть, и весь мир считался с нею.
Но эта пропахшая кислым молоком и овечьей шерстью сакская женщина...
В юности Куруш отличался веселым и смешливым нравом. По мере того, как он взрослел и старел, губы потомка Гахамана все реже раздвигались в улыбке и все чаще кривились от злобы.
Казалось, груды золота, серебра и драгоценных камней, поднимавшиеся в царских подвалах от похода к походу все выше, притягивали и поглощали живой блеск царских глаз, отдавая им взамен свой ледяной холод.
И все же, не в пример буйному Камбуджи – сыну и наследнику, царь старался всегда держать гнев на привязи, как держат на цепи охотничьего гепарда – крупную пятнистую кошку с длинными собачьими лапами, что настигает добычу, в отличие от леопарда, тигра и прочих собратьев кошачьей породы, не прыжком из засады, а стремительным гоном.
Поэтому и удивил всех присутствующих – удивил и напугал – сдавленный вопль из уст повелителя:
– Осли-и-ица!
Гепард оборвал цепь и с рыком вырвался на волю.
Дыша отрывисто и хрипло, запыхавшись, как после рукопашной, царь остановился посередине лужайки, заложил руки с ножом и точилом за спину, устало сгорбился. Выгибая шею, точно гриф, он медленно обвел приближенных неподвижными, как у ночной птицы при свете солнца, странно пустыми зрачками.
"Он безумен", – подумал Утана, чувствуя холод в мозгу.
– Глуха у доброму слову? – Куруш с яростью пнул дикую ослицу в живот. Самка онагра тяжело забилась. – Так покорится силе! Не хочет быть моей женой? Так выйдет замуж за мое копье!
Он вновь пнул ослицу в тугой живот.
– Не пройдет и десяти дней, как я двину войска к Аранхе. Я разделаюсь с этими бродячими саками-собаками покруче, чем Навуходоносор расправился с иудеями.
Царь опять ударил ослицу по животу.
– Не слезы – кровь брызнет у них из глаз! Пусть попробуют на своих немытых шеях остроту персидских мечей.
Рыжий царедворец, что сидел до сиз пор безмолвно у тенистой чинары, встряхнулся, оживился, как филин, услыхавший с наступлением темноты клич собрата, зовущего на охоту. Война? Хорошо.
Но Куруш тут же обрушился на Гау-Баруву:
– Ты! Ты виноват в неудаче! Допустил промах с этим дурацким войлоком, со всей этой глупой затеей! Стоило терять время на глупое сватовство. Надо было сразу идти в поход – и Томруз давно уже чистила бы на заднем дворе моего дворца грязную посуду.
– А повод? – угрюмо возразил Гау-Барува. – Неловко так просто, без причины, лезть в драку. Зашумят разные мады и сфарды, всякие парфяне и армяне на весь мир: Кир насильник, захватчик Кир!.. Иди, утихомирь их потом. И так сколько сил уходит на возню со смутьянами.
– Ага. Хм. Это – истина, – пробормотал Куруш, успокаиваясь. – Ты прав, как всегда, брат Гау-Барува. Повод нужен.
"Разбойник грабит без длинных разговоров, – устало подумал Утана. Нападет на караван – отдай, и никаких. А этот, – купец исподлобья глянул на царя, – тот же разбойник, только крупный, но ему, видишь ты, повод какой-то нужен для грабежа. – И он пришел к неожиданному для себя выводу: – Значит, большой силой обладает вера людей в справедливость, если даже могущественному Курушу приходится, скрепя сердце, подлаживаться к ней. Но где она, справедливость? У нас ее нет. Если справедливость и впрямь существует где-то, то ее... надо искать у саков аранхских".








