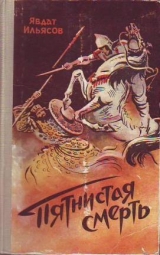
Текст книги "Пятнистая смерть"
Автор книги: Явдат Ильясов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
– Вах! Это ты, храбрый охотник? Много фазанов настрелял, меткач?..
Спаргапа смутился. Когда и от кого она успела узнать?.. Он пробормотал:
– Не до фазанов было.
– А как же! Конечно! Еще бы! Страшно в чангале. От костра, видать, не отходил?
Спаргапа чуть не расплакался:
– И когда ты перестанешь надо мной смеяться?
– Когда станешь мужчиной, – с улыбкой подзадорила его Райада.
Спаргапа вспыхнул, как факел:
– А кто я, по-твоему: дитя грудное?
У юнца пересохло во рту.
Он жадно охватил девушку потемневшими глазами. Всю – от острой шапочки и блестящих, вымытых кислым молоком, распущенных волос, приподнятых у висков бровей, чуточку раскосых глаз, короткого, немного вздернутого носа, в меру крупного рта со смуглыми губами – до ловких ног. Вобрал в сердце всю Райаду – с ее длинным, до пят, облегающим платьем без рукавов и с широким круглым вырезом вокруг шеи, с ниткой коралловых бус, медными браслетами на запястьях и медной гривной на груди и и твердо сказал:
– Вот что! Ты выходи за меня замуж, слышишь?
– За-а-а-муж? – Она прыснула – и захохотала, всплескивая руками, притоптывая ногами, хватаясь за живот, выгибаясь назад. – Замуж – за тебя? Аха-ха-ха!
– Дзинь-дзинь-дзинь! – вторя звучному смеху, часто и чисто звенели мониста при резких сотрясениях девичьего тела. Тряслись в ушах серьги. Бренчали у кистей и на щиколотках тройные браслеты с шипами, изображающими козьи рожки. Золотое кольцо, вдетое в левую ноздрю, вычерчивало мелкий огненный зигзаг.
– Чего ты заливаешься? – Спаргапа сердито схватил Райаду за золотисто-коричневую руку. – Говори – выйдешь?
Кожа Райады пахла красным перцем и мятой.
Райада утихла, вырвалась, хлестнула юношу прутиком по пальцам. Но глаза продолжали смеяться.
– Где Белый отец? Погиб. Будут выбирать нового предводителя? Будут. Ну, и выйду за тебя, если станешь вождем саков аранхских.
Райада дразняще передернула круглыми плечами. Спаргапа остолбенел, разинул рот. В это время появился верхом на коне суровый Хугава.
– Хоу, Спар! Куда ты пропал? Мать ищет.
– Сейчас, – досадливо отмахнулся Спаргапа и вновь повернулся к Райаде. Но она собралась уже уходить. – Спеши домой, малыш, не потеряйся, – прошептала она язвительно. – Матушка беспокоится – как бы кот барханный не уволок... Ну, я побегу искать ягнят.
Маленькая, плотная, складная, она вприпрыжку умчалась прочь, помахивая прутиком и напевая.
Спаргапа задумчиво смотрел ей вслед.
"Ну, и выйду за тебя, если станешь вождем саков аранхских..."
Он вспрыгнул на лошадь и поехал в лагерь.
– Где ты задержался? – Строгий взор Томруз заставил юнца опустить голову. Он топтался в шатре у порога, не зная, что сказать.
Томруз сидела на верхней кошме, уронив руки на колени. Из расцарапанных щек на грудь капала кровь. Спаргапа взглянул исподлобья на бледную, за два дня состарившуюся мать, заметил седую прядь, и ему опять захотелось плакать.
– Был на кургане, чтоб никто... – проговорил он невнятно и показал на слезы.
Томруз осуждающе покачала головой.
– Когда человек – в стороне от всех, и горе у него – снаружи, это плохо. Когда человек среди всех, и горе у него – внутри, это хорошо. Учись мужеству.
– Ах-вах! – Спаргапа отчаянно хлопнул шапкой оземь. – Заладили: мужчина, не мужчина... Или у меня косы выросли на затылке? Не гожусь в мужчины – пошлите пасти ягнят.
– Вместе с Райадой, – с грустной усмешкой подсказала мать.
– При чем тут Райада? – Спаргапа отвернулся.
– Говорят, сколько не плюйся, лика луны не запачкать. Спору нет, Райада пригожа на вид. Но – в лике ли только пригожесть? Золото блестяще, а на что годится, кроме колец? И снег красив, да ноги стынут. Из Райады не выйдет доброй жены. Никогда. Запомни: свяжешься с нею – не слезами будешь плакать, а кровью.
Речь томруз плетью хлестала по открытой, как свежая рана, незрелой душе юнца.
– Почему? – спросил он подавленно.
– Что, если кречет сойдется с мышью? Кречет – сын просторов небесных, под облака он привык взлетать, парить над пустыней. Мышь – дочь глубоких нор, навеки она привязана к темной пещере. Может ли жить жизнью кречета мышь? Нет. Бездонное небо – не для подземных тварей. Как их норы, узок их мир, ничего им не надо, кроме душных дыр, набитых зернами злаков степных. А юный кречет? Сможет ли он жить мышиной жизнью?
Томруз требовательно, как вчера – отец, смотрела на сына.
И сын, как человек, только что проснувшийся, удивленно и недоумевающе смотрел на мать.
– Может быть, и сможет, – сказала Томруз уничтожающе. – Но тогда ему надо выщипать крылья и хвост. Не летать – карабкаться, не дичью питаться грызть семена. Понимаешь ли ты свою мать, о Спаргапа?
– Нет! – В голосе юнца сквозила обида. – Почему ты сравниваешь Райаду с мерзкой мышью?
Ух, эти матери! Вечно у них все не так. Встречалась на свете когда-нибудь мать, что не ворчала на сына? Попадались где-нибудь в мире матери, которым нравились бы подруги их сыновей? Старухи смотрят на девушек, как на ядовитых змей – ох, ужалит сына, ох, высушит сына, ох погубит сына!..
Томруз устало вздохнула. Боже! Неужели... Плохо матери, если сын глуп.
Она терпеливо продолжала:
– У нас, саков, земля и вода, скот и пастбища, шатры и повозки достояние всех людей. Слышишь? – всех людей. Так заведено исстари. Нет моего, есть наше. Ни богатых, ни бедных. При бедности – все бедны, при богатстве – все богаты. А вот у соседей – из ста один богат, а девяносто девять для него землю пашут, скот пасут, рубежи стерегут, жилища берегут за постную похлебку.
Спаргапа – недоверчиво:
– Разве так бывает?
– Бывает! И есть во многих местах. В Парсе, например.
– Но – Райада?..
– Ты знаешь Фраду, отца Райады?
– Знаю. Родовой старейшина.
– Вот Фрада смолоду бродил по чужим странам – нанимался охранять караваны. Ему пришлось побывать в Маде, Парсе, Бабире – он в разных землях побывал, хитрый Фрада. И насмотрелся на всякую иноземную всячину. Это неплохо – надо видеть мир, понимать соседей. Учиться у них хорошему. Но Фрада, лукавец, не хорошее, а дурное намерен у нас привить. Хочет стать одним из ста. Или даже из десяти тысяч. Точно суслик – в нору, тащит он в свой шатер все, что добудет. Скот, принадлежащий роду, забрал себе. Сородичи пропадают без сытной еды, без теплой одежды зимою.
– Фрада? – изумился Спаргапа. – Он умный. На советах складно говорит, всегда со всеми согласен. Всею душою за старших.
– Эх, Спар! Не верь тому, кто всегда, во всем и со всеми согласен. Такой человек – себе на уме. Честный не может превозносить что попало. Светлое он светлым назовет, темное – темным. И это – по-человечески.
Что толку кичиться вместительностью котла, если у него в боку – дыра? Залатай дыру – тогда и хвастайся. Тот, кто и худое именует добрым, тот лукав и низок. Он презренный обманщик. И – опасный. В угоду хозяину он расхвалит и хворого коня. Поверишь лжецу, сядешь на полудохлое животное, отправишься в путь – и сгинешь в песках. Как ни расписывай больную лошадь, ей все равно околеть... Такой человек способен продать и предать. И такой человек – Фрада.
– Почему же его не накажут?
– Не раз укорял наглеца Белый отец. Да проку-то что? Фрада – крупный родовой вождь, он сам себе хозяин. Хочет – живет с нами, не захочет уйдет.
– Ну и прогнали бы.
– Стоит одной овце заболеть чесоткой – и сто других овец отары покроются язвами. Немало старейшин тянется за Фрадой, защищает отца твоей Райады.
– Но при чем, при чем тут Райада?
– Тень прямого дерева – пряма, тень кривого дерева крива. От козы козленок, от овцы – овца. От плохой горы – плохие камни, дочь пошла в отца. Правда, она не хитра, а глупа. Что прикажет родитель, то и делает, а что делает – не понимает сама. Но это – пока. Придет время – поймет, тоже начнет хитрить. Злостно хитрить. Уже и сейчас... Погляди на других девушек – они выбирают себе женихов не среди сыновей старейшин, а среди тех, кто прост и отважен, не словами – делами важен. Кто трудолюбив и честен. Райада же... Она ничего не просила взамен своей любви?
Мать в упор глядела на сына.
"Ну и выйду за тебя, если..."
Юный сак прищурился, крепко сжал зубы, с шипением втянул воздух, выпятил полусомкнутые губы. Точно ушибся о камень.
– К тому же она старше тебя на четыре года и уже знала мужчин, добила Спаргапу мать.
– Да?! Оказывается, я совсем еще глупый. Дурак я совсем. – Он подобрал войлочный колпак, нахлобучил до самых бровей. – И вправду, какой я мужчина? Ничего не понимаю. Не знаю, что творится на свете.
– Не горюй, узнаешь, – с горькой усмешкой утешила сына Томруз.
– Как же быть с Райадой? – Он умоляюще посмотрел матери в глаза. Она у меня вот здесь.
Спаргапа приложил руку к груди.
– Выдерни стрелу и пользуй рану целебной мазью мужества и терпенья.
– Ладно! – Спаргапа скрипнул зубами. – Теперь я и смотреть не хочу на Райаду.
"Не надолго хватит твоей бронзовой твердости, горячая душа, сокрушенно подумала Томруз. – Увидишь свою трясогузку – все мои наставления вылетят из головы. Истину говорят: сердце вожделеющего – без глаз. Чую – распустится юнец. Отец умел его стреноживать, а я – нет, не сумею. Слаба. Люблю дурачка..."
Черной тучей вырастали конные отряды в красной пустыне.
Черной волной перехлестывали через гребни дюн.
Черными потоками, извивающимися в лощинах, устремлялись со всех сторон к озеру, у которого разместился главный стан саков аранхских.
Саки без шума разбивали шатры и шли поклониться праху вождя.
У озера, плотно охватив его десятками рядов полосатых, белых, черных и серых палаток, на дюнах и в пойме возник за три дня войлочный город. Тут собрались тысячи саков – мужчин, женщин, детей.
И все ж то была лишь малая часть сакского народа. Бесконечное множество племен кочевало, подобно тысячным стаям рыб в море, или громадным косякам птиц в небе, по Туранской равнине, в сухих степях за рекою Яксарт и в каменистых долинах Памира.
Белый отец говорил:
"У нас, в Туране, три корня сакских племен. Мы, хаумаварка, живем по Аранхе [Аранха – река Аму-Дарья]. Так? Тиграхауда – по Яксарту. У моря Вурукарта [Аральское море] – заречные. Каждый корень на четыре племени делится. Племя на два братства дробится. Братство – на четыре рода, род на четыре колена, колено – на четыре семейства разбито.
А ну, подсчитайте. В колене – один прадед, четыре деда, шестнадцать отцов, шестьдесят четыре сына, двести пятьдесят шесть маленьких внуков. Взрослых женатых мужчин – восемьдесят пять; прибавьте восемьдесят пять женщин. Будет четыреста двадцать шесть.
Четыре колена в роду – тысяча семьсот четыре человека.
Четыре рода в братстве – шесть тысяч восемьсот шестнадцать.
Два братства в племени – тринадцать тысяч шестьсот тридцать два.
Четыре племени в корне – пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать восемь.
Три корня в союзе туранских саков – сто шестьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят четыре человека!
Причем, я считаю, округленно, как раньше считали. Нынче в иных племенах по двадцать родов, по тридцать – люди расплодились. А те, что обитают в горах и северных степях? А геты и дахи, приставшие к нам? Велик сакский народ".
Бактры и сугды, соседи кочевников, рассказывали:
– Каждое племя у саков живет обособленной жизнью. Управляется оно Советом предводителей братств, родов и колен. Только если грянет война или другое бедствие их постигнет, объединяются наездники под главенством одного, самого старшего племени. Того, из которого, как ветви от ствола, отросли все остальные племена.
Вождем такого древнего племени, первого союзе хаумаварка и был Белый отец.
На краю пустыни, недалеко от кургана, на котором любил сидеть старый вождь, саки вырыли глубокую яму.
Белого отца уложили на шкуру матерой, им же сраженной самки леопарда – хищницы, прозванной Пятнистой смертью. Оба, человек и зверь, пали в жестоком поединке: охотник отточенной бронзой взрезал разбойнице горло она, издыхая, вырвала сердце охотника.
По правую руку вождя положили копье и длинный кинжал – акинак, по левую – щит, лук и колчан, набитый стрелами. Путь в царство теней опасен и труден, старику понадобится оружие.
И еще положили в яму, зарезав, трех любимых коней предводителя – не идти же ему пешком в такую даль.
И еще положили теплую одежду, кошму, попону, свернутый шатер, связку волосяных арканов, запас уздечек, седельных подушек и подпруг. И трех убитых рабов, чтоб помогали хозяину в дороге. И трех убитых рабынь, чтоб готовили пищу.
Могилу перекрыли древесными стволами, хворостом, снопами тростника. Затем каждый сак, роя землю мечом, наполнил ею шапку и высыпал прах пустыни на свежую могилу. Каждый сак высыпал на могилу по одной шапке земли, и на краю красного песчаного моря, у великой реки, поднялась гора.
Саки установили вокруг кургана сотни трехногих бронзовых котлов с круторогими литыми козлами по краям и запалили костры. И такой густой дым заклубился над Аранхой, что казалось – то ли чангалу по всей реке охватил огонь, то ли северный ветер принес тучи, и будет гроза.
Кровь тысяч жертвенных животных брызнула на вытоптанную траву. И когда в котлах сварилось мясо овец и лошадей, старый Дато взошел на курган с огромной чашей кобыльего молока.
По-волчьи, не поворачивая шеи, поглядел Дато направо, поглядел Дато налево, по-волчьи запрокинул голову Дато, и над пустыней, над притихшей чангалой, раскатился душераздирающий вопль.
Не переводя дыхания, на той же высоте звука, Дато перешел к торопливому речитативу; кинув хриплым голосом два десятка отрывистых слов, он закончил вступление к песне глухим рыданием и вылил молоко на еще не обсохшую глину кургана.
Едва умолк Дато, у ближайшего костра, вместе со столбом дыма, к небу взметнулся еще более острый вопль. Пред ликом Тьмы дичали мудрые, ожесточались добрые, смелые впадали в отчаяние.
От костра к костру, то косо пролетая над самой землей, то опять птицей взмывая кверху, перекидывалась, подхватываемая все новыми и новыми голосами – женскими и мужскими – жуткая песня тризны.
Это была старая песня.
В ней звучали клики косматых всадников, идущих в набег, и яростный визг дерущихся жеребцов, и угроза, и плач, и любовь, и вечный страх человека перед черной неизбежностью, и ненависть к смерти.
Затем люди приступили к еде и питью.
Так хоронили саки своих вождей.
Уже с вечера у костров было много толков, споров, догадок и пересудов. Кого избрать главным вождем хаумаварка? Сак из дривиков племени Белого отца – поведал на лужайке:
– Перед тем, как двинуться в чангалу, у верховного спросили: "Кого поставить над нами если ты погибнешь?" Долго не отвечал Белый отец. Он думал. Подумав, промолвил с улыбкой: "У каждого произнесенного слова есть свой дух-хозяин. Я уйду, а медный идол моего слова останется среди вас. Он будет бродить от шатра к шатру, переходить из уст в уста. Что, если я назову имя, которое никому не придется по душе? Или одним понравится, другим – нет? Теперь, у входа в иной мир, я понял, сколько глупых дел совершил за свою жизнь, сколько умных людей сбил с толку. Так неужели Белому отцу путать саков и после того, как его не станет? Грех. К тому же, что значит мое слово – слово одного человека? Соберите народ, пусть он сам решит, кого поставить над собой. Народ не ошибется..."
Кого же?
– Хугаву, – сказал Спаргапа Томруз на заре. – Никого лучше не знаю.
Мать задумалась.
– Да, – кивнула она одобрительно. – Молод, зато умен. Трудолюбив, храбр. И у него счастливое имя: "Хорошими коровами обладающий". Выберем Хугаву – добрый скот у саков расплодится. Однако согласится ли Хугава?
– Согласится! Я пойду сейчас, переговорю с ним. А ты на совете кричи за Хугаву. Ладно?
В измученных глазах Томруз засветилось радостное удивление. Нет, Спаргапа не так уж глуп, как она думала. Боже! Неужели... Хорошо матери, когда сын мудр.
...В крепости, еще недавно пустой и темной, открылся, казалось, меновой базар – столько людей набилось сюда с рассвета. И больше всех, пожалуй, в толпе было девушек. Ярмарка невест.
Спаргапа слышал за собой их приглушенные возгласы:
– Смотрите, кто это?
– Спар, сын покойного старейшины.
– Вай, до чего красивый!
Спаргапа задрал голову повыше, напустил на себя равнодушный вид. Он чувствовал – девушки глядят ему вслед. И вытянулся, как тетива, стараясь показаться высоким и необыкновенно стройным, отчего походка сделалась у него судорожной, дергающейся, будто беднягу за волосы встряхивали. Эх, юность...
"Мать укоряет меня справедливо, – подумал Спаргапа. – И впрямь, почему я прицепился к этой Райаде пустоголовой? Вон сколько их... Найдется для молодого кречета сизокрылая соколиха", – горделиво закончил он свою мысль.
На глиняной ограде затрещала сорока.
И вдруг – знакомый медный голос:
– Куда спешишь, храбрец?
По телу волной хлынул жар.
Оторопевший и одуревший, с отнявшимся языком, стоял Спаргапа перед благоухающей, как ветвь базилика, Райадой.
Она искательно заглядывала снизу в бараньи глаза юнца и хитро смеялась. Четко выступали на смуглой коже шеи, отсвечиваясь на ней беловатыми бликами, крупные жемчужные ожерелья. Сверкали на запястьях браслеты червонного золота. Угольками горели на шапочке рубины. Но все это безнадежно меркло в блеске чистейших в Туране зубов, в лучах солнечного взгляда.
Смутно, как очертание дозорной башни в удушающем тумане, в замутившейся памяти Спаргапы возникло материнское предостережение.
"Мышь...".
Он протянул трясущуюся руку, чтоб отстранить Райаду, и прохрипел, с усилием разлепив спекшиеся губы:
– Уйди. Некогда мне...
Райада испуганно округлила глаза.
– Как! – воскликнула она растерянно, – ты уже не хочешь на мне жениться?
У нее жалко задрожали губы и подбородок. Точно как у ребенка. Сердце юного дривика остро заныло – так у бывалого воина ноет к непогоде старая рана.
– Жениться! Ты ведь не за меня – за вождя хотела бы...
– А ты разве не хочешь вождем стать? – изумилась Райада. Она тесно прижалась к нему и прошептала с зовущей улыбкой: – Вечером будь у наших шатров. Хорошо? Я выйду.
Кожа Райады пахла красным перцем и мятой. Она страдальчески прищурилась, кивнула с бесстыдной откровенностью, больно ущипнула Спаргапу за тыльную сторону ладони и убежала.
Стая чем-то обеспокоенных псов кинулась за нею.
У Спаргапы потемнело в глазах, закружилась голова. Бледный, с подгибающимися ногами, словно хворый, еле выбрался он из городища и поплелся по тропинке вдоль озера к стану Хугавы.
За палатками слышался чей-то дикий рев.
Оказалось – Хугава, ловко орудуя старым, сточенным наполовину мечом, брил голову одному из братишек.
Рядом корчилась от смеха высокая, статная, синеглазая и русоволосая женщина – жена Хугавы:
– Ты правил свой серп на камне? Провел им хоть раз по точилу? Ой-ой! Такой бритвой верблюдов глушить. Может, огня принести да лучше опалить мальчишку, чем мучить, кромсать ему голову затупленной бронзой.
Меч резал волосы отлично. А мальчишка – он плакал просто от страха и с непривычки – у саков не принято брить голову.
Хугава добродушно посмеивался:
– Не мешай. Рассержусь – и у тебя косы уберу. Только и возишься с ними. Сколько кислого молока переводишь на мытье! Давай – отхвачу? Пригодятся на путы для коней.
– Э, нет! Самой нужны.
– Для чего?
– Тебя на привязи держать.
Разговор был пустой, но веселый, и юнец подумал с завистью: "Хорошо им вместе, должно быть. Она любит Хугаву – по глазам небесным вижу, по улыбке. Ах-вах, когда же и мы так... с Райадой? Горе моей голове".
– Я сейчас, – кивнул Спаргапе табунщик. – Нечисть завелась у малыша. Никак не одолеть. Приходится снимать волосы, пусть это и грех...
В семействе Хугавы было немного людей. Огня, как говорят в пустыне хватало на всех. И в отличие от крупных семейств, где каждая малая семья питается из отдельного котла, здесь дружно садились за одну скатерть и дед с бабкой, и отец с матерью, дяди и тети, родные и двоюродные братья и сестры, невестки, племянники и племянницы, а также несколько пленных сугдов и тиграхауда, принятых в дом, по сакскому обычаю, на правах сыновей.
Спаргапе дали место рядом с Хугавой.
Пища у саков была простой, грубоватой, зато вкусной и сытной. Никаких сластей, солений и печений. Поели жирной мясной похлебки, заправленной диким чесноком и мятой. После еды отерли засаленные руки о волосы, брови, усы и бороду, у кого была борода. Выпили по чашке кобыльего молока.
Затем юнец и Хугава улеглись на берегу озера, в густой пахучей траве.
– Что скажешь? – улыбнулся Хугава. – Пришел пострелять?
Спаргапа вцепился в тонкий, но крепкий стебель солодки и попытался его сорвать, но растение не поддавалось.
– Эх, друг Хугава, эх! – Он с натугой одолел тугой, упругий стебель, хлестнул им себя по шее. – Не до стрельбы сейчас. Скажи, Хугава... эх, туман у меня в голове! – скажи, друг: смог бы... смог бы ты быть главным вождем хаумаварка?
– Я?! Что ты, парень! Какой я вождь? Нужно много чего повидать на свете, чтоб десятками тысяч людей верховодить. Такой же светлой головой владеть, какая у отца твоего была. Вождь – это как отец для детей: самый старший, самый умный, самый сильный человек в семье.
– Самый старший? Нет, Хугава. Ты – молодой, а все в твоем семействе слушаются тебя. И старики, и дети. Выходит, не в летах дело, а в голове.
– Ну, это семейство, а то – союз племен, – сказал Хугава нехотя.
– Теперь скажи, Хугава... – Спаргапа отвел глаза в сторону, сунул ободранный стебель в рот, – скажи, друг: подошел бы... сумел бы я быть предводителем саков? Да, да! Чего ты опешил? – оскорбился Спаргапа. Разве я какой-нибудь ягненок паршивый, что меня нельзя выбрать главным вождем? Я – сын великого старейшины!
– Не рановато ли... о таких вещах? – пробормотал пораженный Хугава.
Спаргапа рывком поднялся, поднялся и обескураженный табунщик.
– Хочу быть вождем – и все! – Спаргапа по-детски упрямо топнул ногой, обутой в мягкий сапог с коротким голенищем.
Стрелок бросил на юношу косой взгляд изумления. Спаргапа уловил этот взгляд, круто покраснел от убийственного стыда, крепко рассердился на Хугаву, но еще крепче – на себя.
– Не хочу... но так нужно, – поправился Спаргапа, избегая проницательных глаз сородича. – Если ты – друг, за меня кричи сегодня на выборах. Ладно?
Хугава не ответил.
Спаргапа резко повернулся, приблизил к стрелку лицо, бледное, словно тростниковый корень. Губы юного дривика кривились, глаза, на миг ослепшие, скосились к переносью. Весь он так и корчился от ударившей в голову ярости.
Как говорится в легенде: "Буйные жилы его передернулись. Из глаз, как от огнива, посыпались искры. Длинные кудри взвились кверху, точно хвост жеребенка, стоит, рыча, черный верзила, снизу прямой, сверху сутулый..."
– Кричи за меня на совете! – взвизгнул Спаргапа. – Или... я не знаю, что сделаю... и тебя зарежу, и себе живот распорю!
И он с зубовным скрежетом перекусил стебель солодки.
Он и медный прут перекусил бы сейчас.
Жалкий и потерянный, неверными шагами потащился Спаргапа к городищу, а Хугава стоял у озера и смотрел ему в спину, вскинув изогнутые брови на лоб, почти до волос.
– Что с ним такое? – соображал с горечью "Хорошими коровами обладающий". – Был не совсем умен – совсем глупым сделался. Кто-то крутит беднягу. Это Райада...
Негодование плотно сомкнуло крепкие челюсти пастуха.
– Ладно, друг, – проворчал он сурово. – Я покричу на совете... Если жеребца не объездить смолоду, потом к нему – не подступись. Не согнул деревцо, когда прутиком было – не согнешь, когда в кол превратится. Хугава вспомнил обритого братишку и усмехнулся. – У тебя тоже нечисть в голове завелась. Что ж? Останешься без волос.
СКАЗАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. ГРОМ И МОЛНИЯ
Среди гостей – купцы из дружественной Сугды [Сугда (Согдиана) – в древности область Зеравшанской долины].
С ними – странный, одетый так же, как и они, в халат с закругленными полами и узкие штаны, но по ухваткам и выговору – чужой человек, нездешний: торговец из далекой Эллады.
У саков он – впервые. Грек следит за туземцами сосредоточенно, с тем же любопытством, с которым бывало, взирал на родине на сборища растерзанных вакханок.
Саки – люди большей частью рослые, смуглые и длинноголовые, с миндалевидными глазами, сияющими чернотой из-под тяжело нависших век, с толстыми округлыми носами и грузными подбородками. Они похожи на мадов, на мужей персидских.
Но немало среди них и белокожих, золотистоволосых, с прямыми или крючковатыми носами и сухими точеными лицами. Солнце Турана не вытеснило еще из синих и серых глаз северной прохлады.
Тут и там промелькнет в толпе густо-коричневый лик, носящий признак близкого родства с чернокожим курчавым югом.
Сверкнут иногда с плоского желтого лица два острых, косо разрезанных глаза – через них глядит на западного гостя иной восток, не сакский, неведомый, отгороженный стеною неприступных гор.
"Боги сотворили сей народ из сорока различных племен".
Их замкнутые ряды кольцами охватывают курган и широко раздаются по лугу, словно круги, расходящиеся от брошенного камня по зеленой воде. На кургане – старейшины в столь же потрепанной одежде.
– Похоже, бродяги степей соревнуются между собой в крайней бедности, – заметил грек. – Но коли уж они до того убоги и нищи, что вынуждены ходить чуть ли не в лохмотьях, то почему так горд и независим их вид?
Сугды пояснили:
– Сак нетерпим к излишеству. Кочевники довольствуются одеждой простой и грубой, зато прочной и удобной для верховой езды. Их гордый вид выражает презрение к роскоши. Взгляни на оружие. У всех – и у старейшин родовых, и у номадов рядовых – щиты крепки, луки мощны, копья отточены, мечи в добротных ножнах. Сак говорит: "Одежда служит мне одному. Так? А мне одному ничего не нужно. Довольно рубища, чтоб прикрыть наготу. Мечом же и щитом я защищаю не только себя и свой дом – я единокровных сородичей им обороняю, как они обороняют меня. Не ради себя – ради них я и забочусь о мече и щите". Саки содержат в порядке и уздечки, наплечники, нагрудники лошадей, которых холят больше, чем родных детей, – без лошади кочевник пропадет в пустыне.
– Диковинный народ. Но – что это? На совете – женщины?! – изумился иноземец. – Смотрите, они преспокойно усаживаются рядом с мужчинами! Разве им место здесь? В Милете, откуда я приехал, и во всей Элладе – даже в Афинах, свободою нравов прославленных, – женщин не то что допустить на совет – из жилища выпускают редко.
– У саков женщина – такой же человек, как и мужчина. Знаешь, о чем рассказывают наши старики? Еще недавно, всего два-три поколения назад, женщины заправляли у саков важнейшими делами. Ныне главенствуют мужчины, но и подруги их в прежнем почете. Спорят на советах, выступают в походы, хорошо бьются стрелами.
– Так это и есть амазонки? Дивно, дивно.
Не все у кургана отрепьями хвастали – появился человек, ведший за руку невысокую девушку в дорогом, алом, как пламя, платье.
– Должно быть, не сак, хотя он и в грязном кафтане. Чем-то отличен от других, а чем – не пойму. Бактр? Перс? Кто такой? – спросил чужеземец у ближайшего кочевника.
Хаумаварка вытянул шею.
– Который? Маленький, с короткой бородой, с девчонкой, красивой, как фазан? – Кочевник брезгливо сплюнул. – Фрада. Сак, из наших.
– Не похож.
– В каждом табуне – лядащий конь. Больше не спрашивай. Не хочу говорить о таком человеке.
Округлая, как дно перевернутого котла, вершина холма задымилась.
Осколком солнца сверкнул огонь.
Очистительное пламя. Оно выжжет неправду из хитрых речей, испепелит грязь слов, внушенных дурными помыслами, обидой или завистью.
У костра привязали к бронзовым кольям двух огромных, с молодого осла, желтых псов с обрубленными ушами и хвостами. Умные, свирепые, они никому не дадут солгать.
Сугды – эллину:
– Собака священна. Старый вождь говорил: "Мы, саки, происходим от первородных собак". Потому и назвались кочевники так: "сак" – это "собака" на их языке.
Между собаками, на косо воткнутым в землю длинном копье, усаженном у конца двумя бычьими рогами, трепетал, извивался, плавно раскачивался, повинуясь легкому ветру, черный конский хвост.
Годы, века, тысячелетия пролетели над черными хвостами, а они все развевались по-прежнему то в предгорьях алтайских, то в ясных степях сибирских, то средь холмов приуральских, то на утесах памирских, то в сыпучих песках туранских. Казалось – каждый взмах бунчука отсчитывал век, и через расстелившееся по ветру, мерно колышущееся кочевое знамя неуловимо струилось само суровое время.
Белобородый Дато, чье имя означало "закон", подступил к костру, протянул вперед и несколько кверху широко расставленные, ладонями к небу, как бы зовущие руки.
Коротко и размеренно переступая на месте, он с напряженной медлительностью сделал оборот вокруг себя, темные руки неспешно смели незримую паутину шума, нависшую над толпой. Следуя их плавному движению, неторопливо поползла по лугу и глухо сомкнулась вокруг холма душная тишина.
– Смотрите! – шептал возбужденный эллин. – Как рокочущие волны моря опадают и сглаживаются по мгновению умиротворяющей десницы Посейдона, так стихли, замерли без слов номады...
Дато опустил левую руку и заговорил. Но голос его не долетал с кургана до отдаленных рядов. Только видно было, как он раскрывает рот, шевелит губами и взмахивает правой рукой.
В толпе постепенно гас даже шелест слабого шепота, и по мере того, как все более прозрачной и холодной становилась тишина, ясней и ясней проступала, нарастала в пустоте речь Дато.
И вот он закончил громко и внятно:
– ...самого мудрого, самого опытного, самого достойного из всех! Кто будет говорить?
– Я! – На курган поднялась высокая, дородная, но по-девичьи гибкая женщина. Юное лицо – и строгий взгляд. Прямой стан – и седина на висках. Трудно понять, сколько ей лет – она молода и стара.
Красная, словно мак, повязка на лбу. Темно-красное, туго перепоясанное платье без рукавов, с широким круглым вырезом вокруг шеи, с широкой желтой каймой по вороту, по подолу, доходящему до ступней, и по отверстиям для рук, оголенных до плеч. Скромное платье, но чистое и к лицу.
Таков праздничный наряд любой пожилой сакской женщины. Потому-то и трудно на первый взгляд отличить их, степнячек, друг от друга.
– Это кто? – оживился грек.
– Томруз. Жена погибшего старейшины.
– О! Видная женщина. Одеть получше – уподобится Палладе.
– Хороша и в своем наряде.
Псы на холме приветливо завиляли обрубками хвостов. И не только потому, что немало жирных костей перепало им от Томруз. Собаки чуют в человеке как скрытую жестокость, так и скрытую доброту.
Томруз наклонилась, взяла кусок земли, приложила ко лбу:
– Мать Анахита и дух Белого отца – помогите!
И так, с куском священной земли в руке, шершавой от работы, произнесла Томруз речь.
– Белобородые отцы, седовласые матери, братья и сестры! По древнему обычаю – верховный вождь в племени тот, кто старше всех в старшем роду. Не так ли, почтенный Дато?








