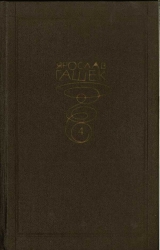
Текст книги "Собрание сочинений. Том четвертый"
Автор книги: Ярослав Гашек
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц)
Славные дни Бугульмы
Наполеон был болван. Сколько, бедняга, трудился, чтобы проникнуть в тайны стратегии! Сколько всего изучал, прежде чем додумался до своего «непрерывного фронта». Учился в военных школах в Бриенне и в Париже… Изобрел досконально разработанную собственную военную тактику… А в конце концов дело закончилось поражением под Ватерлоо.

Ему многие подражали и всегда получали взбучку. Сейчас, после славных дней Бугульмы, победы Наполеона, от осады мыса Лаквилетты до сражений под Мантуей, Кастильоне и Асперном, кажутся совершеннейшей ерундой.
Я уверен, что, если бы Наполеон под Ватерлоо поступил подобно мне, он наверняка разбил бы Веллингтона.
Когда Блюхер врезался в правыйфланг его армии, он должен был распорядиться, как я у Бугульмы, когда корпус добровольцев генерала Каппеля и польская дивизия оказалась у нас на правом фланге.
Почему он не приказал своей армии врезаться в левый флангБлюхера, как это сделал я в своем приказе Петрограде кой кавалерии?
Петроградские кавалеристы творили подлинные чудеса. Поскольку русская земля необозрима и лишний километр не имеет никакого значения, они домчались до самого Мензелинска и под Чишмами и бог знает где еще зашли в тыл противника и гнали его перед собой, так что его победа обернулась поражением.
К сожалению, большая часть вражеских войск стянулась к Белебею и Бугуруслану, а меньшая, подгоняемая сзади Петроградской кавалерией, оказалась в пятнадцати верстах от Бугульмы.
В эти славные дни Бугульмы Тверской революционный полк во главе с товарищем Ерохимовым неустанно отступал перед потерпевшим поражение противником.
На ночь он обычно размещался по татарским деревушкам и, уничтожив там подчистую всех гусей и кур, откатывался дальше, постепенно приближаясь к Бугульме; затем останавливался в новых деревнях, пока наконец в полном порядке не вступил опять в город.
Ко мне прибежали из типографии с сообщением, что командир Тверского полка Ерохимов грозит заведующему револьвером и требует напечатать какой-то приказ и объявление.
Я взял с собой четверых чувашей, захватил два браунинга, кольт и отправился в типографию. В канцелярии я увидел сидящего на стуле заведующего типографией, а напротив, на другом стуле, – товарища Ерохимова.
Положение печатника было не из приятных, поскольку Ерохимов держал револьвер у его виска и твердил:
– Напечатаешь или нет? Напечатаешь или нет?
Я услышал мужественный ответ заведующего:
– Не напечатаю, голубчик, не могу!
Тут его собеседник с револьвером начал упрашивать:
– Напечатай, душенька, миленький, голубчик! Напечатай! Ну, прошу тебя!
Увидев меня, Ерохимов, в явном смущении, подошел ко мне, сердечно обнял, пожал руку и, подморгнув заведующему, сообщил:
– А мы уже с полчаса беседуем. Давненько я его не видел.
Заведующий сплюнул и проворчал:
– Хороша беседа!
– Я слышал, – обратился я к Ерохимову, – вы хотели что-то напечатать: объявление, или приказ, или что-то в этом роде… Будьте так любезны, познакомьте меня с этим текстом.
Я взял со стола бумагу, которой так и не довелось прочесть жителям Бугульмы. Они, несомненно, были бы чрезвычайно удивлены тем, что приготовил для них Ерохимов, так как текст гласил:
« Объявление № 1
Возвращаясь во главе победоносного Тверского революционного полка, настоящим ставлю в известность, что принимаю власть над городом и окрестностями в свои руки. Создаю Чрезвычайный революционный трибунал, председателем которого назначаю себя. Первое заседание состоится завтра. Будет разбираться дело особой важности. Перед Чрезвычайным революционным трибуналом предстанет комендант города товарищ Гашек как контрреволюционер и пособник врага. Если он будет приговорен к расстрелу, приговор будет приведен в исполнение в течение 12 часов. Предупреждаю население, что всякая попытка к сопротивлению будет караться на месте.
Ерохимов, комендант города и окрестностей».
К этому мой друг Ерохимов хотел присовокупить еще такой приказ:
« Приказ № 3
Чрезвычайный революционный трибунал Бугульминского округа сим извещает, что бывший комендант города Гашек, на основании приговора Чрезвычайного революционного трибунала расстрелян за контрреволюцию и заговор против Советской власти.
Ерохимов, председатель Чрезвычайного революционного комитета».
– Это на самом деле только шутка, голубчик, – вкрадчиво сказал Ерохимов. – Хочешь револьвер? Возьми. В кого мне стрелять?
Его уступчивость показалась мне подозрительной. Обернувшись, я увидел, что четверо моих чувашей с грозным и непреклонным видом направили на него дула своих винтовок.
Я приказал им опустить винтовки и принял револьвер от Ерохимова. А он, уставившись на меня своими детскими голубыми глазами, тихонечко спросил:
– Я арестован или на свободе?
Я рассмеялся.
– Вы просто дурак, товарищ Ерохимов! За шутки все-таки не арестовывают. Вы же сами сказали, что это только шутка. Я должен был бы арестовать вас за другое – за ваше позорное возвращение. Поляки разбиты нашей Петроградской кавалерией, а вы отступали перед ними вплоть до самого города. Могу вам сообщить, что из Симбирска получена телеграмма с приказом Тверскому полку, чтобы он добыл новые лавры на свое старое революционное знамя.
Револьвер, который вы мне сдали, я вам возвращу, но при одном условии – что вы со своим полком немедленно покинете город, обойдете поляков и приведете пленных. Но ни одного пленного не смеете пальцем тронуть! Мы не можем срамиться перед Симбирском. Я уже телеграфировал, что Тверской полк взял много пленных.
Я ударил кулаком по столу.
– А где твои пленные? Где они? – И, размахивая перед ним кулаком, зло и угрожающе выкрикнул: – Погоди! Ты у меня допрыгаешься! Может, хочешь еще что-то сообщить перед тем, как отправиться за пленными?.. Известно тебе, что я теперь командующий фронтом, высший начальник?
Ерохимов стоял как вкопанный и только моргал глазами от волнения. Опомнившись наконец, он отдал честь и отчеканил:
– Сегодня же вечером разобью поляков и приведу пленных. Спасибо вам!
Я возвратил ему револьвер, пожал руку и сердечно распрощался…
Ерохимов блестяще сдержал слово. К утру Тверской полк начал приводить пленных. Казармы были набиты ими до отказа, их уже некуда было девать.
Я пошел взглянуть на них и… от ужаса чуть не обмер. Вместо поляков Ерохимов насбирал по ближайшим деревням татар: поляки не стали дожидаться внезапного нападения Тверского полка и трусливо скрылись.
Новая опасность
Товарищ Ерохимов решительно не хотел понять, что мирные татары из местного населения никак не могут сойти за поляков. Поэтому, когда я отдал приказ выпустить на свободу всех «пленных», он почувствовал себя оскорбленным и тотчас же помчался на телеграф Петроградского полка отправить Революционному военному совету в Симбирск телеграмму такого содержания:
«Докладываю, что после трехдневных боев я со своим Тверским революционным полком разбил противника. У неприятеля огромные потери. Мною захвачено 1200 белых, которых комендант города отпустил на свободу. Прошу выслать специальную комиссию для расследования дела. Комендант города товарищ Гашек – человек абсолютно ненадежный, явный контрреволюционер и имеет связь с противником. Прошу разрешения создать Чрезвычайку.
Ерохимов, командир Тверского революционного полка».

Начальник телеграфного отделения телеграмму от товарища Ерохимова принял, заверив его, что она будет отправлена, как только освободится линия, а сам тут же сел в сани и приехал ко мне.
– Вот вам, батюшка, и Юрьев день! – приветствовал он меня с выражением полной безнадежности на лице. – Прочтите-ка вот это, – и подал мне телеграмму товарища Ерохимова.
Я прочитал и спокойно сунул ее в карман. Начальник телеграфного отделения почесал в затылке и, нервно моргая глазами, проговорил:
– Поверьте, мое положение очень тяжелое, просто чертовски тяжелое! Согласно распоряжению Народного комиссариата, я обязан принимать телеграммы от командиров полков. А вы явно не хотите, чтобы эта телеграмма была послана. Я ведь пришел не для того, чтобы отдать ее вам. Хотел только, чтобы вы познакомились с ее содержанием и послали одновременно против товарища Ерохимова свою телеграмму.
Я сказал начальнику телеграфного отделения, что глубоко уважаю Народный Военный Комиссариат, но мы находимся не в тылу.
– Здесь фронт. Я – командующий фронтом и могу делать то, что считаю необходимым. Приказываю вам принимать от товарища Ерохимова столько телеграмм, сколько ему заблагорассудится составить, но запрещаю их отсылать. И приказываю немедленно доставлять их ко мне!..
– Пока что, – закончил я, – я оставляю вас на свободе, но предупреждаю, что всякое отклонение от нашей договоренности будет иметь для вас далеко идущие последствия, какие вы себе даже и представить не можете.
Мы попили с ним чаю, беседуя при этом о разных будничных вещах. На прощание я велел ему сказать Ерохимову, что телеграмма отправлена.
После ужина ко мне ворвался стоявший на посту чуваш и сообщил, что здание комендатуры оцеплено двумя ротами Тверского революционного полка и товарищ Ерохимов держит к ним речь, извещая, что «пришел конец тирании».
Действительно, вскоре в канцелярии появился товарищ Ерохимов в сопровождении десяти солдат, которые со штыками наперевес встали у дверей.
Не говоря мне ни слова, Ерохимов начал размещать их по комнате.
– Ты – туда, ты – сюда, ты стой здесь, ты иди в тот угол, ты встань к столу, ты – у этого окна, ты – у того, а ты будешь неотлучно при мне.
Я свертывал цигарку, а когда зажег ее, был уже окружен направленными на меня со всех сторон штыками и с интересом мог наблюдать, что предпримет товарищ Ерохимов дальше.
По его неуверенному взгляду чувствовалось, что он не знает, с чего начать. Подойдя к столу со служебными бумагами, он разорвал штуки две, затем принялся расхаживать по канцелярии, сопровождаемый солдатом с примкнутым штыком.
Солдаты, окружавшие меня со всех сторон, держались очень строго, и только один из них – совсем мальчишка – спросил:
– Товарищ Ерохимов, закурить можно?
– Курите, – разрешил Ерохимов и сел против меня.
Я предложил ему табак и бумагу, он закурил и неуверенно произнес:
– Это симбирский табак?
– Из Донской области, – ответил я кратко и, не обращая на него внимания, начал разбираться в бумагах на столе.
Наступила томительная тишина…
Наконец Ерохимов тихо спросил:
– Что бы вы сказали, товарищ Гашек, если бы я был председателем Чрезвычайки?
– Мог бы вас лишь поздравить, – ответил я. – Не хотите ли еще закурить?
Он закурил и продолжал как-то печально:
– А что, если я и в самом деле им являюсь, товарищ Гашек? Если Революционный Военный Совет Восточного фронта действительно назначил меня председателем Чрезвычайки?
Он встал и многозначительно добавил:
– И если вы теперь в моих руках?!
– Прежде всего, – ответил я спокойно, – покажите мне ваш мандат.
– Наплевать на мандаты! – воскликнул Ерохимов. – Я и без мандата могу вас арестовать!
Я улыбнулся.
– Сядьте-ка спокойно, товарищ Ерохимов. Сейчас принесут самовар, и мы с вами побеседуем о том, как назначаются председатели Чрезвычайки.
– А вам тут нечего делать! – повернулся я к провожатым Ерохимова. – Давайте-ка отсюда! Скажите им, товарищ Ерохимов, чтобы моментально исчезли.
Ерохимов смущенно улыбнулся.
– Идите, голубчики, и скажите тем, снаружи, чтобы тоже шли по домам.
Когда все вышли и был внесен самовар, я сказал Ерохимову:
– Видите ли, если бы у вас был мандат, тогда вы могли бы меня и арестовать, и расстрелять, и вообще сделать со мною все, что, по вашему мнению, вы должны были совершать в качестве председателя Чрезвычайки…
– Я этот мандат получу, – тихо отозвался Ерохимов. – Обязательно получу, мой милый.
Я вынул из кармана злосчастную телеграмму Ерохимова и показал ему ее.
– Как она к вам попала? – воскликнул потрясенный Ерохимов. – Ее уже давно должны были отправить!
– Дело в том, дорогой друг, – ответил я ласково, – что все военные телеграммы должны быть подписаны командующим фронтом. Поэтому мне и принесли телеграмму на подпись. Если желаете и настаиваете на своем, я могу ее подписать. Можете даже сами отнести ее на телеграф, чтобы убедиться, что я вас не боюсь.
Ерохимов взял свою телеграмму, разорвал ее и начал всхлипывать:
– Душенька, голубчик, я ведь просто так! Прости, друг ты мой единственный!
Почти до двух часов ночи мы гоняли чаи. Ерохимов остался у меня ночевать. Спали на одной постели.
Утром мы опять попили чаю, и я дал ему на дорогу четверть фунта хорошего табаку.
Потемкинские деревни
Уже восемь суток отделяло нас от славных дней Бугульмы, а о Петроградском кавалерийском полку все еще не было ни слуху, ни духу.
Товарищ Ерохимов, который после своей последней аферы прилежно меня навещал, ежедневно внушал мне свое «твердое подозрение», что петроградские кавалеристы перешли на сторону противника.
Он предлагал: 1. Объявить их предателями республики. 2. Послать в Москву телеграмму, в которой подробно описать их подлый поступок. 3. Организовать Революционный трибунал фронта, перед которым должен предстать начальник телеграфного отделения Петроградского полка, так как он должен знать, что произошло; а если даже и не знает, все равно судить его, поскольку он начальник связи.
В своей обличительной деятельности товарищ Ерохимов был необычайно пунктуален. Он являлся ко мне ровно в восемь часов утра и твердил свои наветы до половины десятого; затем удалялся, а в два часа приходил с новым запасом аргументов, бомбардируя меня ими до четырех. Вечером он наносил мне еще один визит и во время чая заново начинал подстрекать меня против петроградцев, что затягивалось иногда до десяти-одиннадцати часов ночи.
При этом он шагал по канцелярии с опущенной головой и меланхолически бормотал:
– Это ужасно! Такой позор для революции! Нужно немедленно телеграфировать! Свяжемся прямо с Москвой!
– Все обернется к лучшему, товарищ Ерохимов, – утешал я его. – Вот увидишь, что петроградцы возвратятся.
В это время я получил телеграмму от Революционного Военного Совета Восточного фронта: «Сообщите количество пленных. Последняя телеграмма о большой победе под Бугульмой неясна. Направьте Петроградскую кавалерию под Бугуруслан к Третьей армии. Сообщите, выполнено ли все, что было в последней телеграмме; а также, сколько выпущено номеров пропагандистской газеты на татарском и русском языках. Название газеты. Пошлите курьера с подробным отчетом о своей работе. Тверской революционный полк направьте на восточные позиции. Составьте воззвание к солдатам белой армии с призывом переходить на нашу сторону и разбросайте его с аэроплана. Каждая ошибка либо невыполнение отдельных пунктов карается по законам военного времени».
Вслед за тем пришла новая телеграмма: «Курьера не посылайте. Ожидайте инспектора Восточного фронта с начальником Политического отдела Революционного Военного Совета и членом Совета товарищем Морозовым, которые облечены всеми необходимыми полномочиями».
Товарищ Ерохимов был как раз у меня. Прочтя последнюю телеграмму, я подал ее Ерохимову, чтобы посмотреть, какое впечатление произведет на него такая страшная инспекция, которую он все время жаждал вызвать.
Чувствовалось, что в нем началась тяжелая внутренняя борьба. Какая великолепная возможность отомстить мне, восторжествовать надо мною!
Проблеск радостной улыбки, который в первый момент заиграл на его лице, вскоре все же исчез, уступив место выражению озабоченности и душевного терзания.
– Пропал, голубчик, – произнес он печально. – Не сносить тебе буйной головушки.
Он принялся шагать по канцелярии и напевать мне тоскливым голосом:
Голова ты моя удалая,
Долго ль буду тебя я носить…
Затем он уселся и продолжал:
– Я бы на твоем месте удрал в Мензелинск, оттуда в Осу, из Осы – в Пермь, а там – поминай как звали… Передашь мне командование городом и фронтом, а я уж тут наведу порядок.
– Мне кажется, что у меня нет оснований опасаться, – заметил я.
Ерохимов выразительно свистнул.
– Нет оснований опасаться! А ты мобилизовал конский состав? Не мобилизовал. Есть у тебя где-нибудь заложники из местного населения? Нет. Наложил ты контрибуцию на город? Не наложил. Посадил контрреволюционеров? Не посадил. Нашел ты вообще какого-нибудь контрреволюционера? Не нашел.
А теперь скажи мне еще: приказал ты расстрелять хотя бы одного попа или купца? Не приказал. Расстрелял бывшего пристава? Не расстрелял. А бывший городской голова жив или мертв? Жив.
Ну, вот видишь! А ты еще говоришь: «Нет оснований опасаться». Плохо твое дело, браток!
Он снова поднялся, начал ходить по канцелярии и насвистывать:
Голова ты моя удалая,
Долго ль буду тебя я носить…
Потом он схватился за голову и, пока я спокойно наблюдал, как копошатся тараканы на теплой стене у печки, бегал от окна к окну, от окон к дверям и причитал:
– Что делать! Что делать! Пропал, голубчик! Не сносить тебе буйной головушки!
Побегав так около пяти минут, он с безнадежным видом опустился на стул и произнес:
– Тут уж действительно ничего не поделаешь! Если бы ты хоть мог сказать, что у тебя тюрьма переполнена. А кто у тебя там есть? Да никого. Или если бы, по крайней мере, ты мог показать инспекции, что спалил какой-нибудь дом, где скрывались контрреволюционеры. Так ведь ничего же нет! Совершенно ничего! Даже обысков в городе не произвел… Люблю я тебя, но, говоря откровенно, мнение у меня о тебе самое неважное.
Он встал, опоясался ремнем, засунул за ремень револьвер, кавказский кинжал длиною в полметра, подал мне руку и сказал, что поможет мне; пока еще не знает, каким способом, но наверняка что-нибудь придумает.
После его ухода я отправил в Симбирск ответную телеграмму:
«Количество пленных выясняется. Подвижность фронта и отсутствие карт не дают возможности подробно описать победу под Бугульмой. Инспекция уточнит все на месте. Издание газеты на русском и татарском языках связано с трудностями: нет татарских наборщиков, не хватает русских шрифтов, белые забрали с собой печатный станок. Когда в Бугульму прибудет авиационный парк, смогу разбрасывать воззвания к солдатам белой армии с аэроплана. Пока что сижу без аэроплана. Тверской революционный полк находится в городе, в резерве».
Спал я в эту ночь сном праведника. Утром ко мне явился Ерохимов и сказал, что уже кое-что для моего спасения он придумал. Провозился с этим всю ночь.
Он провел меня за город, к бывшему кирпичному заводу, где был выставлен караул из солдат пятой роты Тверского полка. Они стояли с примкнутыми штыками и, когда кто-нибудь проезжал мимо, кричали:
– Давай налево! Сюда нельзя!
В середине оцепленного пространства меня ожидал небольшой сюрприз: три свежие могилы. Около каждой стоял крест с прикрепленной к нему дощечкой с надписью. На первом кресте была надпись: « Здесь похоронен бывший пристав. Расстрелян в октябре 1918 года за контрреволюцию». На втором кресте было начертано: « Здесь погребен расстрелянный поп. Казнен в октябре 1918 года за контрреволюцию». Третья могила была снабжена надписью: « Здесь покоится городской голова. Расстрелян за контрреволюцию в октябре 1918 года».
У меня затряслись колени… С помощью Ерохимова я кое-как добрался до города.
– Мы все это обделали за ночь, – хвастался Ерохимов. – Я же обещал тебе помочь, чтобы было что показать инспекции, когда она прибудет. Долго ничего не приходило в голову. И вдруг вот придумал эту штуку… Хочешь их видеть?
– Кого? – спросил я испуганно.
– Ну, этих: попа, городского голову и пристава. Они у меня все заперты в свином хлеву. Как только инспекция уедет, мы их отпустим по домам… Ты не думай, никто ничего не узнает. К могилам никто не допускается. Мои молодцы умеют держать язык за зубами. А ты сможешь все-таки кое-чем похвастаться перед инспекцией.
Я взглянул на него. В профиль его черты напомнили мне князя Потемкина… Пошел проверить, правду ли он говорит, удостоверился, что все так и было. Из свиного хлевка доносился поповский бас, который гудел какие-то очень жалобные псалмы, сопровождаемые неизменным рефреном: «Господи, помилуй, господи, помилуй».
Ну, как тут было не вспомнить о потемкинских деревнях?
Затруднения с пленными
Подозрения товарища Ерохимова не оправдались: Петроградский кавалерийский полк не только не переметнулся к врагу, но и привел еще с собой пленных – два эскадрона башкир, которые взбунтовались против своего ротмистра Бахивалеева и добровольно перешли на сторону Красной Армии. А взбунтовались они потому, что Бахивалеев не разрешил им поджечь при отступлении какую-то деревню. Искали теперь счастья на другой стороне.
Кроме башкир, петроградцы привели и других пленных. Это были парни лет по 17–19, в лаптях; насильно мобилизованные белыми, они выжидали благоприятной возможности, чтобы разбежаться по домам.
Пленных насчитывалось около трехсот человек, худых, в потрепанной домашней одежде. Среди них были мордвины, татары, черемисы, которым смысл гражданской войны был понятен не более, чем, скажем, решение уравнения десятой степени.
Перешли они в полном порядке, с винтовками и боеприпасами, и привели своего полковника, которого гнали перед собой. Старый царский полковник был разъярен до предела. Он дико вращал глазами и даже в плену не переставал кричать на своих бывших подчиненных, обзывая их сволочами и грозя, что «набьет им морду».
Я распорядился разместить пленных в пустующем винокуренном заводе и зачислить их на довольствие – часть при Петроградской кавалерии и часть при Тверском полку.
Получив этот приказ, ко мне тут же примчались товарищ Ерохимов и командир Петроградской кавалерии и категорически потребовали, чтобы я, как командующий фронтом и городом, взял заботу о снабжении пленных на себя.
Товарищ Ерохимов даже пригрозил при этом, что скорее велит перестрелять тех пленных, которые падают на его долю, чем будет их кормить. Тут командир Петроградской кавалерии наступил ему на ногу и посоветовал не болтать глупостей. Он своих пленных никому не даст расстреливать. Это можно было делать на фронте, а не сейчас, когда его ребята все это время делились с ними хлебом и табаком.
Если уж кого-то нужно расстрелять, так это только того полковника из 54-го Стерлитамакского полка – Макарова.

Против этого возразил я, сказав, что, согласно декрету от 16 июня 1918 года, все офицеры старой царской армии, даже если они попадают в плен, считаются мобилизованными.
Полковника Макарова нужно будет отправить в штаб Восточного фронта, где уже сидят несколько бывших царских офицеров, неся службу непосредственно в штабе.
Товарищ Ерохимов заметил, что вот таким образом контрреволюция и проникает в штабы Красной Армии. Пришлось объяснить ему, что там за ними осуществляется надзор со стороны политических органов и что они используются исключительно в качестве специалистов. Но Ерохимов не сдавал своих радикальных позиций и чуть ли не со слезами на глазах продолжал клянчить:
– Голубчик, ничего у тебя не прошу – выдай мне только этого полковника.
Затем он перешел на угрожающий тон:
– Не забывай, что в ближайшие дни сюда приедет инспекция. Что она скажет? В наши руки попал полковник и выбрался от нас жив и невредим. Наплюй ты на декреты! Может, их составляли такие же «специалисты».
Командир петроградцев быстро вскочил и закричал на Ерохимова:
– Ты что?! Ленин тебе «специалисты»?! Говори, негодяй! Совет Народных Комиссаров, который издает декреты, тоже «специалисты»?! Сволочь ты, сукин сын!
Он схватил Ерохимова за шиворот, вытолкал за дверь, а сам продолжал бушевать:
– Где был его полк, когда мы брали Чишмы и захватили два эскадрона башкир и батальон 54-го Стрелитамакского полка вместе с полковником? Где он скрывался вместе со своим Тверским революционным полком? Где он был со своими паршивцами, когда каппелевцы и поляки подступили к самой Бугульме?
Вот возьму свою кавалерию и выволоку весь его славный революционный полк на позиции! А пулеметы велю расставить сзади, за полком, и погоним их в атаку! Сволочь паршивая!
Попутно он упомянул матушку Ерохимова да и матушек всех его солдат. Умолк он лишь после того, как я заметил ему, что проводить подобные дислокации войск имеет право лишь командующий фронтом на основе приказа Верховного штаба.
Тогда он вернулся к началу нашего разговора, повторив, что обеспечение пленных продовольствием падает исключительно на коменданта города и командующего фронтом. Он не даст на это дело ни копейки. У него в полковой кассе всего 12 тысяч рублей, и он уже трижды посылал в военное казначейство за деньгами, но пока не получил оттуда ни гроша.
Я сообщил ему, что в моей кассе осталось всего-навсего два рубля, а если сосчитать, сколько я задолжал за месяц разным организациям, снабжавшим проходящие части, получится сумма, превышающая миллион рублей. И хотя я посылал счета в Симбирское интендантство через государственный контроль, до сих пор ни один из них не был оплачен. Так что баланс моего месячного пребывания здесь составляет: актив – два рубля, пассив – свыше миллиона рублей.
И при таком колоссальном обороте я уже третий день – утром, в обед и вечером – пью только чай с молоком да с белым хлебом. Сахару нет ни кусочка, мяса не видел больше недели, щей не ел свыше двух недель, и как выглядит мясо или сало, даже не помню.
У командира Петроградской кавалерии слезы навернулись на глаза.
– Если уж дело так плохо, буду кормить всех пленных, – сказал он, явно тронутый. – Запасов у нас порядочно. Мы немножко поднабрали в тылу врага.
Выяснив точное число пленных, он ушел. После его ухода я связался непосредственно со штабом Восточного фронта и передал туда несколько депеш: две чисто хозяйственного характера и одну – относительно пленных.
Тут же получил ответ: «Военному казначейству был дан приказ выдать вам авансом 12 миллионов рублей. Пленных зачислите в воинские части: башкирские эскадроны – в Петроградский кавалерийский полк, в качестве самостоятельной единицы, которую пополняйте пленными башкирами вплоть до создания Первого советского башкирского полка. Батальон 54-го Стерлитамакского полка включите в Тверской полк. Распределите пленных по ротам. Полковника Макарова немедленно направьте в распоряжение штаба Восточного фронта, в случае сопротивления – расстреляйте».
Я послал за Ерохимовым и командиром Петроградской кавалерии. Пришел лишь командир петроградцев, а вместо Ерохимова явился полковой адъютант, который сообщил, что товарищ Ерохимов только что вывел из винокуренного завода, где находятся пленные, полковника Макарова и, взяв с собой двух вооруженных солдат, направился с ним к лесу.
Я вскочил на лошадь и догнал Ерохимова в низком ельнике, когда он со своими солдатами и полковником Макаровым уже поворачивал на Малую Бугульму.
– Куда? – заорал я на него.
В этот момент Ерохимов был похож на школьника, которого учитель застиг в своем саду запихивающим в карман наворованные груши. Некоторое время он беспомощно глядел на полковника, на ельник, на солдат, на свои сапоги, потом отозвался несмело:
– Иду с полковником в лес… немного прогуляться!
– Ну, – сказал я, – нагулялись уже достаточно! Идите вперед, а я возвращусь с полковником один.
На перекошенном злобой лице полковника не видно было никаких следов страха. Я повел коня за узду, полковник шел возле меня.
– Полковник Макаров, – обратился я к нему, – я только что высвободил вас из весьма неприятной ситуации. Завтра вы будете направлены в Симбирск, в штаб. Вы мобилизованы…
Едва я это произнес, как полковник внезапно ударил меня своей громадной медвежьей лапой по виску, и я, не успев даже вскрикнуть, повалился в придорожный снег.
Так бы я там и замерз, если бы несколько позднее не нашли меня двое мужичков, ехавших на санях в Бугульму. Они взвалили меня на сани и доставили домой.
На другой день я вычеркнул из списка пленных полковника Макарова, а из реестра конского состава комендатуры – своего верхового коня, на котором исчез полковник, чтобы от красных снова попасть к своим белым.
А в это время товарищ Ерохимов выехал в Клюквино и через железнодорожное телеграфное отделение отправил Революционному Военному Совету в Симбирск телеграмму:
«Товарищ Гашек отпустил на свободу захваченного в плен полковника 54-го Стерлитамакского полка Макарова и подарил ему свою лошадь, чтобы тот мог добраться на сторону противника.
Ерохимов».
На этот раз телеграмма до Симбирска дошла.







