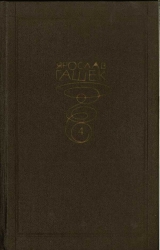
Текст книги "Собрание сочинений. Том четвертый"
Автор книги: Ярослав Гашек
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц)
Археологические изыскания Бабама
I
Между истоками Белой Тиссы и Черемоша все хорошо знали Бабама. Недаром он обшарил каждую гору в Лесистых Карпатах. Переночевав на горе Говерла, самой высокой во всей Роденской горной цепи, два дня спустя он засыпал под горными соснами на Негровце, на другом конце Мармарошского комитата. Он лазал по скалам с искусством, достойным изумления, но еще более поразительно было то, что его не трогали гуцульские разбойники, постоянно тревожившие жителей северной части комитата. Поговаривали, будто в те дни. когда золото, намытое в Борше, Кабола-Поляне и Будафале, еще возили по тропе – теперь там проложена дорога, – Бабам указал гуцулам место в одном ущелье, где можно было завалить путь валунами и грабить возы с золотом. И хотя в этих слухах была, по-видимому, доля истины, Бабаму не смогли предъявить никакого обвинения. Не могли даже решить, какому участку окружного суда следовало разбирать это дело – мармарошсигетскому или берегсаскому. В то время был, говорят, в Сигете очень хороший судья, сам уроженец непроходимых карпатских лесов, раскинувшихся где-то у Шагатага. Он хорошо разбирался в подобных делах, случавшихся довольно часто. Обычно такие операции совершались без кровопролития, и сам отец главного судьи помогал сбрасывать с возов мешочки с золотым песком.
Итак, не было ничего удивительного в том, что Бабам выпутался из этого дела. Он сам говорил, что два волка не перегрызутся. Более удивительным было, однако, то, что с Бабамом вообще никогда ничего не случалось, даже если он целыми ночами бродил по Лесистым Карпатам, где в девственных лесах обитают медведи, волки, лисы, вепри, рыси и дикие кошки. Ни для кого не было тайной его знакомство со старым черным медведем, жившим в пещере под Попадьей; проходя поблизости, Бабам приносил своему другу диких кроликов, которых убивал палкой с топориком на конце. Говорили даже, что он частенько спал в пещере медведя, и люди действительно видели, как медведь провожал его по лесу и как Бабам вполне серьезно говорил ему: «Помни же, старый дурень, что тот кролик, которого я тебе принес, был от самого Свидовца».
Однажды Бабам, заглянув к своему приятелю медведю, сообщил ему, что через Лесистые Карпаты на соляные копи собираются прокладывать дороги, так что очень затруднительно будет добывать золото тем, другим, путем. Он рассказал медведю о людях, которые уже измеряют расстояние от Акна-Слатины до Мармарош-Киш-Бочко, от Шокаманы на Шугатаг и Шокамара-Ронашек, и о том, что уже делают насыпь на Тарацкез-Терешельпатаг через тисовые и буковые леса.
Неделю спустя он сообщил своему медведю, что против гуцулов, которые снова перешли с галицийских границ в Роденские горы, движутся солдаты 85-го пехотного полка, посланные командованием резерва в Мармарошсигете.
Эти новости, казалось, произвели на старого медведя необычайно сильное впечатление, ибо он заворчал и судорожно вытянулся.
Наутро, когда Бабам стал будить его, оказалось, что старый медведь совсем окоченел: он навеки покинул своего друга.
Бабам содрал с него шкуру со всей учтивостью, на которую был способен, мясо закопал, а на дереве, под которым был похоронен медведь, вырезал ножом крест. Медвежью шкуру он отнес вниз на равнину и в Сигете Мармарошском предъявил ее чиновникам, за что получил установленную премию – двадцать гульденов, Потом заказал себе шубу из шкуры. Это была та самая шуба, в которой впервые, как это выяснится впоследствии, увидел Бабама ученый-энтузиаст профессор Фальва.
Так и ходил Бабам в одежде своего умершего друга, как говаривал он, утверждая, что шуба перешла к нему по наследству от знакомого. Он продал одному еврею в Буковине мешочек золотого песка и зажил благонамеренной, упорядоченной жизнью. У него был свой банк в пещере под Попадьей, и когда ему было нужно, он доставал из земли гульден-другой; зная, что в Густе родится доброе вино, он отправлялся туда, а на другой день мог вполне довольствоваться хотя бы минеральной водой, которую черпал прямо шапкой в Шулигули, что за Фельшё-Вишо.
Однажды он пришел в Акна-Слатину и рассказал, что в Шулигули уже ни один бедняк не может напиться целебной воды прямо из источника, так как источник огородили и вокруг него строят курорт.
Мужчины из Акна-Слатины отправились вместе с ним, чтобы поглядеть на эти перемены, подожгли все сооружения и сломали ограду у источников.
По этому поводу у Бабама снова возникли какие-то неприятности с властями в Берегсаге, и ему пришлось дважды навестить свой пещерный банк; он приходил не только за серебром, но и за бумажками, на которые судья Варга, человек, несомненно, разумный, купил себе потом пару прекрасных коней, что вовсе ни для кого не секрет.
В те времена на Негровце обосновался пустынник, и когда Бабам попал во время своих странствий на эту гору, пустынник принялся уговаривать его покончить с кочевой жизнью. Бабам слегка стукнул его топориком по голове, а когда выяснил, что пустынник этого не перенес, похоронил его с великим благочестием и на могиле поставил большой деревянный крест.
Поговаривали, что Бабам завладел наследством пустынника, состоящим из грубо сколоченной хижины. Он нашел там в горшке триста золотых, что повергло его в глубочайшую набожность. Целый месяц он усердно молился у могилы пустынника, питаясь все это время только мамалыгой – кукурузной кашей, которую варил из запасов, обнаруженных в хижине.
Молился он так:
– О господи, сделай милость, прости все грехи этому пустыннику, ведь он, конечно, был порядочным и достойным человеком. Господи, клянусь тебе, это был очень хороший человек, и да прославится имя твое, коли ты примешь его на небо, а я никогда не забуду твоей услуги. Я думаю, ты меня понял, господи. А если нет, ниспошли мне какое-нибудь знамение.
Прождав месяц, но так и не получив знамения, Бабам решил, что помолился достаточно; он навалил камней на могилу, чтобы волки не вырыли и не сожрали пустынника. После этого Бабам ушел на Киш-Бочко и за десять гульденов поставил в местном костеле большую свечу в память о пустыннике.
«Теперь я сделал для него все, что мог», – сказал себе Бабам и отправился обратно в горы, на Шокамару.
Там он купил небольшое хозяйство и стал жить-поживать, избавляя крестьян от забот об овцах, что, конечно, было большим благодеянием для всей округи. Однако крестьяне не оценили его добрых намерений и сочли это просто-напросто грабежом. В один прекрасный день к Бабаму явились шестеро шокамарских пастухов и вывели его за околицу. По дороге они обратили внимание Бабама на то, что ему предоставляется право выбора: быть повешенным немедля или позже, в том случае, если он вздумает вернуться на Шокамару. Бабам пообещал и не думать о возвращении, прибавив, что хотя ему очень грустно покидать таких хороших людей, но он никогда не совался туда, где ему не рады. Он сказал еще, что Шокамара – самая паршивая деревушка на свете и он просто понять не может, как он мог там так долго выдержать. После этого он выпил с пастухами вина в Шугатаге, сердечно попрощался и прочно осел в Кабола-Поляне, где его и обнаружил молодой ученый, профессор Фальва, страдавший навязчивой идеей, что все нации вышли в доисторические времена откуда-то с Борицы и Будафала, с горных плато Роденской цепи Лесистых Карпат.
II
В Кабола-Поляне Бабам поселился в заброшенном цыганском шалаше, обитатели которого перемерли от черной оспы, и снова зажил веселой, беззаботной жизнью. Каждый день уходил он в горы и однажды принес домой молодую рысь и приручил ее, как кошку. Рысь приносила ему разную живность, водившуюся в окрестностях, и так они жили в страхе божьем. В поросших лесом долинах уже свистели локомотивы, сюда приезжали туристы – явление новое для Лесистых Карпат. Бабам частенько встречал их в лесу, его не раз так и подмывало выкинуть с ними какую-нибудь штуку, но он всегда успевал вовремя одуматься и вместо этого за скромное вознаграждение бродил с туристами по горам и продавал им маленькие, правильной формы кристаллы хрусталя – так называемые мармарошские алмазы, которые он собирал в горах.
Тут, около Кабола-Поляны, Бабам и познакомился с профессором Фальвой. С любопытством следил Бабам, как мужчина с киркой и лопатой на плече направляется из Кабола-Поляны в лес; Бабам пошел туда, просто желая быть полезным даже этому чудаковатому незнакомцу, если только, не дай бог, его не одолеет злое искушение…
К счастью, искушение не одолело Бабама, хотя незнакомец и он были одни в лесной чаще. Незнакомец как одержимый скитался по холмам, внимательно рассматривая местность через очки. На одном холме, поросшем низким кустарником, где почва местами была обнажена, он начал копать.
Тут искушение стало все больше одолевать Бабама. «Если этот человек ищет клад, – решил он наконец, – пусть себе копает. Зачем мне утруждать себя? Если он найдет клад, я всегда успею отобрать его». Он с интересом следил за работой, как вдруг незнакомец воскликнул: «Я так и знал!» – и, вытащив из земли какой-то глиняный черепок, внимательно стал его рассматривать.
Бабам, стоявший на самом краю обрыва, от любопытства наклонился немного ниже, чем следовало, потерял равновесие и мигом скатился к ногам профессора, который приветливо сказал ему:
– Это пепелище не моложе восьмого века до рождения Христова.
Бабам так рот и разинул, а незнакомец в очках еще спросил его, нет ли здесь каких-нибудь языческих захоронений.
Затем Бабаму пришлось выслушать целый поток слов, из которых он понял, что этот господин интересуется какими-то разбитыми горшками.
Вечером в трактире «У великого старого святого Яна» Бабам завел со своими соседями разговор на эту тему. Староста, который больше месяца провел в столице, рассказал, что немало таких чудаков бродит по свету. У некоторых это от запоя, у других – с горя. Неладное что-то творится у них с головой, вот и начинают они собирать коробки от спичек или бумажки на улицах. У каждого это по-разному. Староста клялся, что знал человека, который после такого затмения в голове собирал даже почтовые марки.
Бабам рассудительно заметил, что, верно, это очки виноваты, коли речи у того господина такие странные. Все толковал о чем-то до Христа и о чем-то после Христа, о язычниках и каких-то нациях. А под конец сказал Бабаму:
– За каждый большой глиняный черепок, который вы найдете и принесете мне, получите пять крейцеров, а за маленькие черепки – по два крейцера.
На прощание староста подчеркнул, что не одобряет поведения незнакомца, хотя, конечно, жаль, что это случилось с ним в столь молодом возрасте.
– Впрочем, – веско добавил он, желая дать понять всем, что он ничего не упускает из виду, – кто знает, не кроется ли здесь что другое. Говорят, бродят тут люди, которые намереваются продать венгерские земли русским.
– Ничего такого я за ним не приметил, – возразил Бабам.
И они расстались.
Бабам вытянулся на траве перед своей хижиной; в ногах его урчала рысь, словно мурлыкающая кошка. Бабам смотрел на ясные звезды над Лесистыми Карпатами и думал о маленьких и больших черепках и обещанном за них вознаграждении; и чем дольше он размышлял, тем яснее становилась разгадка.
Через полчаса вся археология стала ему ясна. Он встал и сбежал вниз, к еврейской лавке.
– Эй, хозяин! – крикнул он, стукнув в окно. – Продай мне горшки! Знаешь, вичербачские, необлитые, языческие такие горшки.
Лавочники старались угодить Бабаму даже ночью, поскольку много о нем понаслышались. Хозяин лавочки быстро принес три глиняных горшка, с которыми Бабам и удалился, заверяя, что с деньгами все будет в порядке, а глупых напоминаний он, дескать, не любит.
Перед своей хижиной Бабам поставил горшки на землю, с минуту любовался ими при свете месяца, потом воскликнул:
– Ньольц сав эввле Кристуш элёт, восемь веков до рождества Христова! – и, перекрестившись, разбил горшки топориком на большие и маленькие куски.
Затем он, раскопав землю напротив, на другом берегу Черемоша, уложил черепки в яму, а наутро отправился в полянскую корчму навестить профессора Фальву, прихватив с собой вещественное доказательство своих исследований старины.
– Друг мой, это превосходит мои ожидания! – вскричал профессор. – Я поистине в восторге.
– Они здорово старые, – бросил Бабам, раскуривая трубку, чтобы скрыть, насколько взволновала его радость ученого.
– Ведите меня туда, – кричал профессор, надевая пальто наизнанку, – скажите, пусть запрягают…
– Это недалеко отсюда, – скромно произнес Бабам, – я постарался избавить вас от долгой ходьбы, а добра этого там хватает.
По пути профессор расспрашивал, не рассказывают ли что в окрестностях о месте находки.
– Я знаю мало, – ответил Бабам, – вот будто бы старые люди рассказывали, а они, в свою очередь, слышали это от своих прадедов, которым эти сведения передали древние люди, только в давние-предавние времена здесь находились совсем чужие солдаты и что потом они ушли в Румынию.
– Древняя Дакия! – радостно вырвалось у профессора. А когда вслед за тем они стали выкапывать сокровища на указанном Бабамом месте, он воскликнул с благодарностью:
– Я так и предчувствовал! Эти черепки римского происхождения.
– Что это? – восторженно воскликнул он, осмотрев в лупу один из осколков. – Смотрите, тут типичными древнеримскими буквами вытиснено «МА». Это осколки сосудов, – продолжал он, обнимая удивленного Бабама, – которыми пользовались воины римских легионов Марка Аврелия, проникшие сюда, на север Паннонии. А уже отсюда они ушли в Дакию, как я и предполагал.
III
Вичербачский горшечник Миклош Адам до сих пор выдавливает на своих самодельных горшках неуклюжее обозначение «МА». Черепки Бабама хранятся в новом городском Мармарошсигетском музее с надписью, гласящей, что это остатки древнеримских сосудов времен Марка Аврелия.
А Бабам сделался смотрителем нового музея, он часто вспоминает профессора Фальву, и ему кажется, что бедняга, верно, уже не вылечится никогда.
Законное вознаграждение
В Кёрёшмезё никогда не сохранялось спокойствие, но после того как его взялся восстановить пан Павел, дело пошло еще хуже. Пан Павел был нотариусом, и в его обязанности входило разрешать разные спорные вопросы, которые он сам и затевал, ибо следовал принципу, что к ленивым карпам, чтоб их расшевелить, всегда нужно подпустить щуку.
Так вот и жил он своими интригами, непомерно радуясь всякой драке, которую затевали в корчме соседи, после чего они приходили к нему, прося рассудить.
– Слышь, бача, – говорил он, к примеру, будто бы случайно соседу Деаку, – ты вот намедни отправился на базар в Дармат, а люди приметили, что у вас побывал Мега. Ну чистый воробышек, и, видать, – того… этого…
Я привел это просто как пример, из которого следует, что пан Павел был самым обыкновенным интриганом, не увлекавшимся слишком сложными выкрутасами. Себя он считал весьма свирепым и даже жестоким человеком, и я собственными глазами видел его письмо, где он подавал себя в самом невыгодном свете.
Объяснялось это тем, что он, влюбившись в дочку помещика Мюрагади, решил, что чем суровее он станет держаться, тем выгоднее это будет.
«…признаюсь вам по секрету, прекрасная барышня, что я – невыносимый тиран, и кёрёшмезейским жителям кажусь просто-таки извергом…»
Послание сие возвратилось к нему обратно с припиской, что с извергами наша барышня дел не имеет и разговаривать ей с ними не о чем.
С той поры пан Павел возненавидел весь белый свет, а главное – народ, населяющий долину Тиссы, где он развивал свою деятельность, полагая, будто страшнее его нет никого во всей округе.
С виду он всегда был строг, но все уверяли, что это он просто так – играет, и никому не страшно.
Однажды старуха Галасова при разбирательстве ее дела в суде назвала его справедливым, а он как рыкнет на нее – дескать, молчи, бабка, никакой во мне справедливости нету.
Присуждая спорщиков к штрафу, он по вынесении приговора всякий раз приговаривал: «Вот видите, дети, как я к вам суров и непримирим». Эту фразу пан Павел всегда произносил очень весело и радостно, будучи доволен, что еще и еще раз может доказать свою суровость.
Случалось, выйдет он в поле, а навстречу – Зонгора, клянет бедняга своих буйволов – остановились, дескать, – и ни с места. Зонгора и проклятья на них насылал, и несколько раз водою обливал – все без толку.
– Ну как дела, бача?
– Да вот, проклятые, битый час тут с ними мучусь.
– Да это бы еще ничего, такие-то муки. Бывают, Зонгора, и похуже мученья. Вот бают, будто сосед твой Апар милуется с твоею женою. И кто бы подумал – ишь ведь, безрукий пес…
И пан Павел шел дальше вдоль кукурузного поля и усмехался, довольный, накручивая на палец свои гусарские усы с обильной уже проседью.
Он находился в полной уверенности, что с Зонгорой произойдет то же, что с Деакой и Мегой. Только участники драки будут другие, вместо Деаки драку затеет Зонгора, вместо Меги – Апар. А эффект – одинаковый. Придут к нему – мириться, и он назначит им штраф, а деньги положит в свою обитую железом шкатулку. Без сомнения, все эти столбики серебряных монет скопились у него именно в результате сложных интриг. Справедливости ради следует отметить, что в Кёрёшмезё трудно отличить случаи всамделишных супружеских измен от ненастоящих.
Однако по всей округе идет слух, что местечко Кёрёшмезё славится двумя вещами: черным перцем и верностью женщин. Габари, по крайней мере, настолько уверовал в непогрешимость своей супруги, что не дал сбить себя с толку даже подстрекательствами пана Павла, хотя тот, встретив его однажды у колодца на правом берегу, бросил невзначай: «Слышь, бача Габари, не по нраву мне, что молодой Бела Гатари водит сюда своих буйволов, когда твоя жена приходит за водой».
Пан Павел не упомянул о том, что он тоже подходил к колодцу неоднократно именно в тот момент, когда жена Габари брала оттуда воду, но крепко получил по носу за то, что будто невзначай попытался ущипнуть ее за плечико.
– Да как же Беле не поить здесь своих буйволов, ежели прошлой осенью их собственный колодец Тисса песком занесла, ясновельможный пан?
– Что правда, то правда, бача, однако ты примечай. Бела – парень пригожий, не ровня потасканному мужику вроде тебя. Мы, старики, не в счет. Не нужны мы бабам. Понял, старый седой дурень?
– Оно конечно, ясновельможный пан, но моя жена – совсем другое дело. Что правда, то правда, Бела частенько нас навещает, так что в Кёрёшмезё даже слух об этом идет. Да ведь кому-кому, а тебе-то хорошо известно, что я из-за жены уже со всеми соседями на левом берегу передрался. А тут я спокоен, тут никакого греха нет. Вон сушили мы перец, и прослышал я, будто Бела помогает жене вешать его в каморку. Переругался с соседями и – бегом домой. Прибегаю: Бела – перед нашим домом, покуривает себе трубку, а шагах в двадцати от него – моя жена, сидит и почем зря его ругает. Не выносит она его. Сколько раз говорила, что очень он ей противен. Я сам ее уговаривал быть к парню поласковей. «Да ведь он такой дурной!» – отмахивалась жена. А чего только я из-за нее не испытал! Иштвану голову разбил, Масу руку сломал – все из-за сплетен. А сколько деньжищ извел на штрафы, тебе-то лучше всех известно, ясновельможный пан! Бела – золотой парень. Я уезжаю на торги – жену на Белу оставляю, чтоб он за ней приглядывал. И он, бедняжка, целыми днями пропадает у нее, даже свое хозяйство забросил. А спрошу, как, мол, дела, и что моя женушка, только отмахнется: «Да что, все по-старому, все четыре дня бесперечь меня ругала. И псом-то обзывала ни за что ни про что, а потом отослала на речку коноплю мочить и ворошить». А вот поди же ты – сплетни, драки да штрафы все идут и идут.
Пан Павел усмехнулся и не без намека изрек, дескать, однако, бача Габари, все ж таки примечайте. Бывает, и наилучший сторожевой пес сторожит-сторожит, а там – хвать! – и укусит своего хозяина.
Илона Габари снова отправилась переворачивать коноплю, которую вымачивала в Тиссе. И черт знает, как это вышло, но именно в том месте, где она сидела, искал брод Бела, приехавший на коне.
– Isten ald meg, Илона! [5]5
Храни тебя господь, Илона! ( венг.).
[Закрыть]
– И тебя храни господь, Бела, тебе это ох как надобно! Носишься будто оглашенный, прямо что твой мадьяр пастух.
– Ежели здраво рассудить, – произнес Бела, соскакивая с коня, – тебе-то что до того, как я ношусь. Нет, чтобы хоть разок со мной поласковее обойтись.
Он уселся рядом с нею на траве. Илона загляделась на противоположный берег, а Белу вдруг осенило, что у нее прямо-таки крохотная ножка, а глаза полыхают, словно волчьи, если за ними во тьме наблюдать.
Илона прогнулась, и ее острые груди высоко подняли материю белой кофточки.
– Посади меня к себе на колени, – вдруг произнесла она каким-то необычным голосом, – и не будь ты таким дурнем, Бела.
Усевшись к нему на колени, Илона погладила Белу по спине.
– У тебя очень крепкое тело, Бела, небось и сам понимаешь, как не хочется мне называть тебя «дурнем», да ведь раз ты такой, то и слова другого не подберешь. Обними-ка меня, дурашка, за талию, да покрепче.
– Совет да любовь! – раздалось вдруг позади, и тут же пред ними собственной персоной предстал пан Павел, добавив с довольной ухмылкой: – Ну вот, теперь снова пойдут такие славные пересуды!
И ушел, попыхивая дымком из короткой трубки, оставив парочку в полном недоумении.
Первым опомнился Бела. Вскочил на коня и, уже не разбирая брода, рысью помчался в Кёрёшмезё и остановился лишь возле дома Габари.
К вечеру пан Павел подкараулил Габари, гнавшего стадо, и поделился с ним своими наблюдениями: дескать, не ругайся, бача, я их застукал.
Габари только усмехнулся в ответ.
– Знаю, что ты хочешь мне рассказать, да Бела тебя опередил: еще утром признался, как они тебя разыграли, ясновельможный пан. Это тебе за шпионство. Завидели они тебя, ну, Илона – плюх Беле на колени, это, значит, чтоб тебе снова было о чем наушничать. Ладно, давай, толкуй дальше, может, я еще с кем побьюсь, заплачу штраф, да только всем станет известно, как они тебя надули. Это ведь она сама к Беле на колени прыгнула, а он и не сажал ее вовсе, ну не смех ли?
Пану Павлу ничего не осталось, как только отговориться по привычке: «Так то оно так, бача, однако мне это не по вкусу, я бы на твоем месте все ж таки стал примечать».
И Габари снова пришлось драться со всеми соседями и платить штраф.
После этого случая Габари повсюду распустил слух, будто едет он на базар в Клуж – торговать лошадьми. И по сему случаю, как обычно, призвал Белу, чтобы тот стерег его жену и хозяйство.
К ночи доехал он до Фюзеса, но потом словно передумал и воротился – позже он признавался, что повстречал там румынских конокрадов.
Так вот, значит, вернулся он нежданно-негаданно домой, а утром Белу Гатари нашли возле его усадьбы сильно избитого и без носа.
Когда Белу привели в чувство, то староста, вне себя от испуга, перво-наперво спросил, куда девался нос.
Бела ответил, что, наверное, где-то в горнице. Пошли в дом, а на дворе обнаружили Илону – голую, привязанную к колу, и Габари с длинным кнутом, которым погоняют буйволов.
На вопрос, чего это он делает, Габари ответил, – так, мол, малость наводит порядок. Пан Павел, при сем присутствовавший, рассказывал потом, что сам не знал, куда глаза девать, хотя он и жесток, и безжалостен.
Бача Габари бросил расправу и отправился в корчму, а там сказал, что толковать не о чем. Понятно, дело было яснее ясного, строить догадки тут не приходилось, так что о происшествии вроде и позабыли. Приволокли цыган и заставили их играть. Общее мнение, высказанное старостой, было таково, что все вроде обойдется по-хорошему. Однако на другой день пошел Габари с женой вдоль Тиссы – проверить коноплю, прижатую огромными каменьями, и тут, с высокого берега, где прежде стоял деревянный мост, Илона Габари бросилась в реку – по дороге она все твердила мужу, что не перенесет пережитого позора и утопится.
Мгновенье Габари смотрел, как волны уносят ее тело, еще несколько раз пыхнул своей короткой трубочкой – и сиганул следом за женой. Когда в половодье теченье несет огромные коряги с Карпатских гор, это очень опасно для жизни, но Габари и с корягами справлялся, поэтому нет ничего удивительного, что выхватить жену из воды – для него дело пустячное. Приведя супругу в чувство, Габари надавал ей по шее и отвел домой.
А на следующий день отправился к нотариусу пану Павлу требовать законного вознаграждения за спасенье собственной жены.
Пан Павел покрутил головой в знак отрицания, но бача Габари горячо возразил:
– Кому-кому, а тебе лучше других известно, сколько деньжищ я переплатил за то, что бился, доказывал ее невинность. Так пусть хоть теперь мне перепадет малая толика, какое ни то вознагражденье, ясновельможный сударь.
Повысив голос, он добавил:
– Слышь, nagyságos úr, [6]6
Ясновельможный пан ( венг.).
[Закрыть]я желаю получить законную награду за твою тупость.
Жестокосердный пан Павел прослезился над его убогостью.







