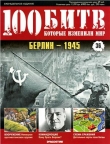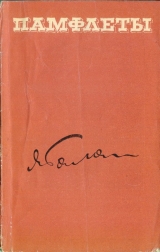
Текст книги "Памфлеты"
Автор книги: Ярослав Галан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
В НЮРНБЕРГЕ ИДЁТ ДОЖДЬ…
Трудно завидовать жителям города, где осень, зиму и весну можно измерять только продолжительностью дня. С октября но сегодняшний день над Нюрнбергом висит, кажется, всё одна и та же туча, мутная смесь пепла и сажи. Иногда утром северный ветер внезапно будит её от летаргического сна. Тогда туча лениво колеблется над городом и только под вечер отползает к франконским горам, чтобы к рассвету снова осесть на искалеченных башнях собора святого Лоренца.
Новый день, как и вчера, рождается в тех самых потоках воды, что напрасно пытаются найти выход из лабиринта заваленных руинами улиц.
Автомашина с трудом пробивается сквозь море застывшей мглы, и только мрачные тени сосен вдоль дороги говорят о том, что город остался позади нас. Асфальт становится ровнее, с него постепенно исчезают мутные лужи. Один за другим мелькают мимо нас франконские посёлки.
В одном из таких посёлков машина сворачивает в боковую улицу. Шофёр выключает мотор перед зданием редакции немецкой газеты.
Поднимаюсь на второй этаж. В коридоре могильная тишина, словно тут не редакция, а картинная галерея в час, когда нет посетителей. Открываю первую дверь. Молодой человек в роговых очках встаёт из-за стола и, услышав слово «редактор», ведёт меня в другой конец коридора.
Мои ноги тонут в пушистом ковре. Я в кабинете шефа редакции. Худощавый человек с морщинистым жёлтым лицом высоко поднимает брови, и в его глазах искра удивления и тень страха. Редактор нерешительно подаёт мне руку. Увидев советский паспорт, он протягивает её вторично. Тень в его глазах исчезла. Он предлагает мне сесть.
Я прошу его дать мне просмотреть несколько последних номеров газеты, так как из-за малого тиража их нельзя было достать в городе.
Редактор торопливо кивает головой.
– Фрейлен Эдда!..
В дверях соседней комнаты появляется белокурая девушка, лет двадцати. На ней тёмно-синее платье, на груди кокетливо поблёскивает миниатюрное золотое распятие. Едва слышными шагами она направляется к шкафу и через минуту кладёт на стол подшивки газет. Не поднимая головы, девушка уходит в свою комнату.
…Пора бы и попрощаться, однако редактор просит меня побыть ещё немного. Я благодарен ему за это. Мне неудобно сказать этому человеку, что меня не так интересует его газета, как её читатели.
Он рассказывает о долгих годах, проведённых им и Дахау. Говорит больше о других, чем о себе. Потом сразу замолкает и, словно вспомнив о чём-то, подходит к окну. Его подвижные и беспокойные глаза ищут кого-то на улице.
– Вы кого-то ждёте? – решаюсь спросить его.
Редактор быстрым шагом возвращается на своё место.
На его щеках красные пятна, он явно взволнован. Дрожащей рукой он зажигает спичку, и лицо его прячется на миг в облаке папиросного дыма.
– Нет, я никого не жду. Несколько первых недель ждал, а потом махнул рукой – что я им могу сказать, кроме нескольких туманных фраз о туманной демократии.
– Они…
– Они, как все живые люди, хотят знать, каким будет их завтрашний день, и хотят лепить этот день собственными руками.
Редактор вытирает платком вспотевший лоб.
– В мои руки иногда попадают газеты вашей зоны. Жители Дрездена с утра до ночи восстанавливают свой город, и я знаю своих земляков: через несколько лёг Дрезден опять станет Дрезденом. Мне рассказывали о дыме над заводами Восточной Германии. А что вы увидите у нас, кроме деревянных пуговиц да грошовых самоучителей английского языка? Библию? Её популяризировал покойный Мартин Лютер. С каким эффектом – сами знаете. Сегодня – история повторяется. Фрейлен Эдда!
Стук машинки стихает, я услышал деловитые шаги секретарши.
– Дайте нам, пожалуйста, синюю папку.
Не прошло и полминуты, как маленькие, услужливые руки в кружевных манжетах положили перед нами синюю папку. Я заметил, что она была такого же цвета, как и платье фрейлен Эдды.
Редактор встал.
– Читайте, я вам не буду мешать.
Я перелистал несколько страниц. Это была коллекция анонимных писем. Читаем в первом из них:
«Почему сегодня каждый немец, – горько жалуется автор анонимного письма, – не имеет права сказать правду?»
Через несколько строк мы узнаем, о какой «правде» пишет автор письма.
«Почему сегодня никто не имеет права рассказать миру обо всех благодеяниях, которые принесли немецкие солдаты жителям оккупированных областей?»
Всё это написано совершенно серьёзно и даже с пафосом.
Ещё одно письмо, под ним подпись: «Студенты Эрлангенского университета».
«Господин редактор! Вам не правится наша демонстрация против вашего единомышленника Пимеллера? Ну что ж, продолжайте писать так. Скоро вы убедитесь, что ваши деревья не растут до небес. Вы уже однажды сидели, но вам, видно, придётся ещё раз сесть, если не перестанете писать возмутительные сказки о концентрационных лагерях, если не перестанете оплёвывать наших великих патриотов, которых враги судят теперь, как «военных преступников». Предупреждаем вас!»
А вот передо мной целое послание – девять печатных страниц без интервалов. Автор его, как можно догадаться по стилю, является представителем нынешнего поколения немецких «интеллектуалистов». В самом начале он предупреждает, что с нацистами не имел и не имеет ничего общего. Между тем это нисколько не мешает ему писать такое:
«Нюрнбергский процесс – это затея, подобная рабочим забастовкам до прихода Гитлера к власти. Вы посадили немецкого медведя в клетку. По этот медведь ещё покажет свои когти, и тогда трепещите, враги!»
Из аккуратно сложенных и приколотых заботливыми руками фрейлен Эдды писем я вынимаю зелёный конверт, который очутился здесь, наверное, на правах гостя для пополнения коллекции. На нём адрес редакции «Люпебургер пост» и штамп города Куксгафен (английская зона оккупации Германии). Автор отважился поставить в начале письма инициалы, желая, наверное, подчеркнуть таким образом свою непричастность к «вервольфу». Он, кажется, довольно искренно озабочен ростом нацистских влияний:
«…Несколько дней тому назад я ехал поездом Лангведель-Бремеи. В вагоне завязалась беседа, в которой скоро приняли участие все пассажиры. Речь шла о снижении продовольственных норм, о безработице, о том, что никто не знает, к чему всё клонится. Кто-то из присутствующих заявил, что если бы Гитлер срубил вдвое больше голов, не было бы этого горя. Он не успел сделать это. Я не выдержал и напомнил людям о миллионах замученных нацистами людей, назвав при этом наши концлагеря позором двадцатого века. Мои слова вызвали среди присутствующих такое возмущение, что я мог ожидать самого худшего. Какой-то прилично одетый человек сказал мне: «Ещё одно ваше слово, и мы вышвырнем вас из вагона».
Растерянный автор письма заканчивает его такими словами: «Я не вижу выхода из этого тупика. Всё это прежде всего является результатом двусмысленных и лицемерных методов английских властей, которые карают тюрьмой крестьянина за то, что он самовольно продал свинью… в феврале 1945 года, когда нами ещё правил Гитлер, а между тем кормят целые дивизии матёрых гитлеровцев. Вот почему в английской зоне немцы ругают Томми. Этот факт не опровергается тем, что те или иные проститутки ходят сейчас с Томми под ручку».
Я поднял голову. Мимо меня прошелестело прорезиненное пальто фрейлен Эдды:
– Грюс ди готт [6]6
С богом (нем.).
[Закрыть],– бросила она, закрывая за собой дверь.
– Интересный материал? – любезно спросил меня редактор и, не ожидая ответа, добавил: – У меня есть ещё один документ, который не в меньшей мере вас заинтересует…
Он достал из кармана листок бумаги, но, прежде чем показать его мне, подошёл к двери и заглянул в коридор.
– Прочитайте.
Это было одно из анонимных писем такого содержания: «Осуждённых на бельзенском процессе лучших немецких людей повесили. Но немецкая молодёжь отомстит за это. Жаль только, что перед приходом англичан не задушили газом всех этих заключённых. Мы проиграли войну из-за предателей. Теперь эти преступники ходят по белу свету и пишут в газетах. Но дрожите – вервольф не спит!»
Я был немного удивлён таинственным поведением редактора, потому что это письмо ничем не отличалось от предыдущих.
– Обратите внимание на букву «К». Она слегка наклонена вправо. Видите? Ещё одна деталь: под восклицательным знаком только полточки. А теперь попрошу вас пройти за мной в ту комнату.
Редактор заложил в машинку лист чистой бумаги и выбил на нём букву «К», потом восклицательный знак. Точка под восклицательным знаком была сломана под таким же углом, что и в анонимном письме.
– Теперь вы понимаете, почему мои нервы не всегда в порядке?
Я смотрел на клавиши машинки, по которым несколько минут назад бегали пальчики фрейлен Эдды.
– Я думаю, что вы сами усложняете дело…
Редактор вытащил из машинки лист и разорвал его на
мелкие части.
– А кто даст мне гарантию, что вместо неё не придёт худшая? Эта хоть старательно выполняет свои обязанности…
…Мы попрощались.
В нескольких километрах от города в моторе что-то подозрительно зашуршало. Шофёр остановил машину. Возле нас плакучая верба роняла обильные слёзы. Я взглянул вверх: на её ветвях, покрытых едва заметным в этой проклятой мгле кружевом зелени, я впервые в этом году увидел весну.
И меня с невиданной силой потянуло домой, на родину.
1946
Перевёл Н.Шевелев
ОСТРОВ ЧУДЕС
Около одиннадцати часов утра трудно перейти площадь, находящуюся перед мюнхенской ратушей. Недвижимая толпа заполняет тротуары и в торжественном молчании ждёт момента, когда на башне ратуши заиграют знаменитые куранты, когда на восьмидесятипятиметровой высоте начнётся турнир рыцарей и под музыку курантов бронзовые кавалеры закружатся в баварском танце. Ровно десять минут длится этот спектакль с концертом звонков и звоночков, и всё это время тысячеголовая человеческая масса ни на минуту не спускает глаз с башни, проклиная в душе голодных голубей, которые именно сейчас взмывают над площадью, закрывая серебристым облаком чудеса мюнхенской ратуши.
Наконец, спектакль окончен. Очарованная сказкой хитрого мастера, толпа расползается по закоулкам. Мюнхен возвращается к серой, оккупационной жизни, и действительность опять начинает напоминать людям о своих жестоких правах.
И в этом весьма невесёлом, наполовину разрушенном Мюнхене есть место, где эти права ни к чему не обязывают, это доподлинный остров чудес, остров и в переносном и в буквальном смысле этого слова. Его со всех сторон омывают зелёные и прозрачные, как кристалл, воды горной речушки Изар. На острове только одно сооружение: величественное железобетонное здание «Немецкого музея». Добавлю: бывшего музея, потому что то, что творится сегодня в его стенах и у его стен совершенно не пристало храму культуры…
Убедиться в этом нетрудно. Достаточно пройтись по набережной, которая отделяет здание от быстрых волн Изара. Она заполнена молодыми людьми в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет. Увидев их, вы инстинктивно снимаете с руки часы и прячете их в самый Глубокий карман.
Инстинкт не обманул вас. Едва вы успели дойти до середины набережной, как вас окружает суетливая, визгливая толпа.
«Сигареты!», «Зажигалки!», «Парфюмерия!», «Бритвы!», «Сало!», «Консервы!», «Чулки!», «Сахар!», «Не хотите ли шоколада? Не хотите ли часики? Настоящие швейцарские, на семнадцати камнях…» Всё это звенит у вас в ушах на всех языках европейского Запада и Юга.
Насилу откупившись коробкой спичек, вы доходите до стен музея. Тут вас встречают пять огромных букв – ЮПРРА – и опрятненький швейцар с лицом типичного немецкого бюргера.
Спрашиваю у него, кто эти люди. Швейцар поднимает на меня серые мутные глаза. В них – удивление и подозрительность.
– Вот эти-то? – спрашивает он на чистом русском языке. – Студенты нашего университета, – добавляет он с вящей гордостью, измеряя меня испытующим взглядом.
Но американский пропуск успокаивает его.
На противоположной стороне громадного, до предела замусоренного двора каменная лестница, облепленная молчаливыми девушками. Это уже территория юнрравского университета. На почерневшей от грязи стене вестибюля – транспаранты на английском, польском и немецком языках (надписей на украинском языке здесь нет, потому что украинские питомцы ЮИРРЛ называют себя здесь поляками…). В этих стенах, невзирая на запрещение, Меркурий (бог купцов и жуликов) тоже господствует безраздельно. Поблёскивает в полумраке никель часов, шуршит бумага свёртков, передаваемых украдкой. Какой-то сухощавый блондин в спокон веку не стиранной рубашке спрашивает меня, не видел ли я случаем брюнета с перебитым носом. Этот брюнет лишь полчаса тому назад вытащил у него деньги за проданный только что костюм, не оставив никаких следов. Советую блондину искать следы в лекционных залах университета, по тот безнадёжно машет рукой. Это означает, очевидно: «Ищи ветра в поле…»
Большая чёрная стрелка показывает: «К общежитию студентов». Открываю дверь. Длинный ряд двухъярусных ящиков из неоструганных досок, ящиков, которые напоминают незаконченные гробы. Из них торчит солома, а местами растрёпанные человеческие волосы. Хоть на дворе и жара, но окна тут наглухо закрыты, и лучи весеннего солнца едва-едва пробиваются сквозь пыльную мглу. Воздух – хоть ножом режь. От смрада голова моментально наливается свинцом. То же самое и в другой комнате, и в третьей, и в четвёртой.
Этот коридор тянется в бесконечность. Наконец, что-то достойное внимания! На дверях надпись: «Во время занятий вход студентам воспрещён». Эта надпись становится попятной, когда вы входите в комнату. Она до отказу набита молодыми людьми обоего пола. За длиннющим столом брюнетка в зелёной юнрравской куртке, не поднимая презрительно прищуренных глаз, с размаху бросает на стол коробки консервов, плитки шоколада, пачки сига-рет. Другая, с суровым лицом Юноны, пододвигает клиентам бумагу для подписи. Третья, с выражением арканзасскою ковбоя, пристально следит за движением рук студентов и студенток.
Задержавшись в коридоре, снова чувствую присутствие бога Меркурия: субъект в роговых очках предлагает такому же субъекту без очков купить кусок только что полученного сала.
– Сто двадцать марок и ни пфеннинга меньше! – горячится на украинском языке субъект в очках.
– Дам сто марок и пи пфеннига больше. Кто мне может гарантировать, что я на этом… заработаю хотя бы пять марок, – не сдаётся на польском языке другой…
Вхожу в приёмную ректора.
– Господина ректора нет уже, придёт поело пасхи, – отвечает секретарша по-немецки с литовским акцентом.
Около канцелярии ректора развешаны объявления учебной части. Список преподавателей естественно-математического факультета. Ищу знакомые фамилии: Беляев, Гора, Залуцкий, Повиковац, Храпливый… Припоминаю. Храпливый – правая рука львовского губернатора Вехтера. Старался господин Храпливый. Даже сам генерал-губернатор Франк не мог найти для него достойных слов похвалы. Храпливый просьбами и угрозами вымогал у крестьян хлеб для «третьей империи». Он в поте лица организовывал эсэсовцев из янычар униатского вероисповедания. Он собственноручно пломбировал вагоны с украинской рабочей силой для гитлеровской Германии… Герр Храпливый нацист над нацистами, эсэсовец над эсэсовцами, гестаповец над гестаповцами, – бесценный герр Храпливый воскрес на кафедре контролируемого и финансируемого американцами «университета» ЮНРРА!
Полный впечатлений, оставляю тёмные стены дома на острове чудес. В углу вестибюля что-то недвусмысленно щёлкнуло.
Новенький парабеллум, к нему сто патронов. Даёшь шестьсот марок союзническими…
На этот раз продавцом был субъект в чёрном берете андерсовца.
Через улицу направляюсь в редакцию баварского официоза «Зюддейче цейтунг». Седой редактор беспомощно разводит руками:
– У нас масса хлопот с денацификацией. Они перекрашиваются как только могут в христианско-социальные партии, где явных и замаскированных нацистов хоть метлой мети, а тут ещё эти «ди-пи» («дисплейсед персонс», то есть «перемещённые лица»).
Редактор показывает полицейскую хронику за последние два дня. Только по Мюнхену: две кражи и три вооружённых нападения. В каждом из этих случаев были выявлены участники. Это «ди-пи»…
– Но ведь известно, что за незаконное хранение оружия оккупационные власти карают смертной казнью, – осмеливаюсь сказать.
Редактор явно удивлён.
– Кого? «Ди-пи»?
Редактор начинает волноваться. У него на щеках растут багровые пятна.
– Прискорбнее всего то, что и без этих «ди-пи» наша Бавария напоминает теперь Кобленц во время французской революции. Сюда в последний год войны съехались со всего рейха, напуганные бомбардировками и наступлением союзных войск, целые косяки немецких плутократов, то есть самой чёрной реакции из всех реакций мира. Здесь также нашли своё последнее убежище недобитые гитлеровские войска, отборные эсэсовские дивизии. Они теперь называют себя «пиратами эдельвейса» и, словно волки, рыскают в Баварских Альпах.
– А не подумали ли вы, что пираты эдельвейса могут, чего доброго, зацвести и на скалах мюнхенского острова чудес?
– Об этом мог бы, может быть, кое-что сказать президент полиции. Я знаю пока что лишь одно: через этот остров проходит около шестидесяти процентов товаров строго запрещённого чёрного рынка.
Президент полиции также неохотно говорит на эту тему.
– Позавчера в Пасинге под Мюнхеном «ди-пи» в течение одной ночи разворовали целый вагон (десять тонн) юнрравского шоколада. Обыск не дал никаких результатов.
Разузнаю ещё об одной истории. Несколько дней тому назад отряд смешанной американско-немецкой полиции произвёл обыск в одном из лагерей «ди-гги». В полицейских посыпались выстрелы. В результате перестрелки одного «ди-пи» ранили. Его перевезли в лазарет, где его положили под охраной часового. Ночью персонал лазарета услышал выстрел в коридоре. На полу лежал солдат с простреленной головой, а раненого бандита и след простыл. Остров чудес давал знать о себе…
Некоторым комбинаторам из ЮНРРА на руку деятельность этой фашистской малины, хотя бы уже потому, что она даёт неограниченные возможности строить комбинации и набивать свои карманы.
Есть и такие, на кого сегодня показывают пальцем, как на тех, кто в мутной воде комбинации с «ди-пи» хочет ловить свою рыбку. Речь идёт о «Си-ай-си» – отдел американской стратегической службы. О характере этой почтенной организации говорит само её название. Хорошо ли подумали офицеры этой хитроумной и пока ещё всесильной туг организации о том, что палка, которую они смастерили, имеет два конца, нам в данном случае не безразлично. Мы хотим только лишний раз подчеркнуть, что чудес на нашей планете не бывает. Если же джентльмены из «Си-ай-си» своими – деликатно говоря – не джентльменскими методами всё-таки надеются творить «чудеса», то они просчитаются.
Жестоко просчитаются!..
1946
Перевёл В.Щепотев
ГЕРИНГ
Герман Геринг на первый взгляд – не Геринг, а баба, толстая, пятидесятилетняя баба-торговка.
И эта баба, баба с подстриженными волосами, сидит перед вами; ноги её укутаны в одеяло, а держится она так, словно и впрямь на базаре. От её внимания не ускользает ни одно слово. Во время перерыва она развешивает уши то влево, то вправо, злыми, заплывшими салом глазами водит по всему залу и с любопытством пристально присматривается к каждому новому лицу. Когда в руках защитника появляется газета, баба вытягивает шею из складок красного платка и бегает глазами но сторонам, ища свою фамилию. А когда фамилия находится, улыбка удовлетворённого честолюбия растягивает её тонкие губы до ушей.
Так непринуждённо продолжает Геринг вести себя и во время заседания суда. Он живо, чересчур живо реагирует на всё, о чём говорят вокруг: водит головой то сверку вниз, то слева направо. Улыбается – если в сторону трибунала, то льстиво, если в сторону обвинителей, то с провоцирующим сарказмом.
Особенно недоброжелательно относится Геринг к свидетелям обвинения. Сначала смотрит на такого свидетеля взглядом разжиревшей гадюки, словно желая его загипнотизировать, а когда это не помогает, торговка начинает жевать проклятья, сжимает руки в кулаки и кладёт их перед собой, как две ручные гранаты.
Чрезвычайно раздражают бабу-Геринга свидетели обвинения из прежних её подчинённых. Тут уж темперамент этой ведьмы не знает удержу. Когда палач Украины и Польши, генерал СС Бах-Целевский сказал и об Геринге несколько слов правды, тот не выдержал и зашипел по адресу генерала: «Шелудивый пёс…»
…Но вот баба вынырнула из шалей и платков и взгромоздилась на своё место за пультом для свидетелей.
Уже первое впечатление от её слов подтверждает общепринятое мнение о ней: эта баба честолюбива до крайности, до безумия.
Так и слышишь всё время: «Моя авиация», «моя промышленность», «моя политика». «Такой риск, как гнев Гитлера, мог только я взять на себя». «Только я, как пламенный патриот…»
Когда свидетель защиты Мильх, желая спасти Геринга, говорит об его отсутствии на одном из совещаний, тот с возмущением восклицает:
– Не может быть, чтобы таких-то господ фюрер пригласил, а меня нет…
Пьяный от самовлюблённости Геринг порой сам лезет на рожон. Вот его слова на одном из заседаний: слова, тщательно застенографированные и старательно записанные на плёнку, как и всё сказанное на процессе:
– Я приказал работать над самолётами, которые могли бы достигать США и возвращаться на свои базы… Я приказал также работать над улучшением типа снарядов «ФАУ-1» против Англии и очень сожалею, что у меня этих «ФАУ» было так мало…
Геринг не лишён также и чувства юмора:
– Но примеру США мы с фюрером порешили объединить власть премьера и власть и резидента…
На вопрос обвинителя, остаётся ли он сторонником теории «народа господ», Геринг с усмешкой отвечает:
– Нет, я её никогда не признавал. Если кто-нибудь и в самом деле является господином, то ему никогда по следует это подчёркивать…
В своих показаниях Геринг очень охотно рассказывает о чёрных делах Гитлера. Когда речь идёт о самых тяжких преступлениях, он, как правило, перекладывает ответственность за них на Гитлера (или Гиммлера). При этом Геринг дискредитирует своего фюрера утончённо, по-своему, словно мимоходом, нечаянно, истины ради.
Геринг – правда, скупыми красками – рисует портрет Адольфа Гитлера: кровавого комедианта-параноика и
обыкновенного мазурика с шарлатанским амплуа. Он со злопыхательским скрежетом в зубах рассказывает о том, как нахально «фюрер Великогермании» крал украденные им, Герингом, картины. Он, чуть ли не причмокивая от удовольствия, рассказывает нам истории, – срывает один за другим лавровые листики, которыми так добросердечно венчали голову Гитлера Геббельс и геббельсята.
В 1943 году, в день разгрома немцев на Кавказе, Гитлер укорял Иодля в том, что тот повёл войска через Эльбрус. Иодль вспылил.
– Мой фюрер! Ведь вы сами приказали мне это сделать…
Услыхав об этом, Гитлер отвернулся н вышел, не простившись со своим фельдмаршалом. «Он даже имел намерение сместить Иодля, а на его место поставить окружённого тогда в Сталинграде фон Паулюса, фон Паулюса, – добавил Геринг, смакуя, – к которому Гитлер имел особенно большое доверие…»
Говоря об украинских (и не только украинских) националистических телохранителях нацизма, Геринг с подчёркнутым презрением кривит губы:
– Я их глубоко презираю, но ведь во время войны берут то, что есть под рукой.
И Геринг действительно брал всё, что у него было «под рукой». А «под рукой» у него было в то время немало всякой всячины, не только квислингов и квислинжат. Одних лишь художественных ценностей он «собрал» у себя на сумму пятьдесят миллионов марок золотом. Набрал он со всех концов Европы, не забыл и об эскизах Альбрехта Дюрера из львовских музеев.
Герман Геринг начал свои показания с краткой, удивительно краткой автобиографии. Он не без гордости информировал своих судей о том, что его отец был в своё время губернатором немецких колоний в Восточной Африке. К сожалению, он не добавил при этом, что его высокочтимый папаша поголовно уничтожил многотысячное туземное племя гереро. Причина– пассивное сопротивление колонизаторам. Методы его убийства были, наверное, источником вдохновения для Германии в его будущих делах. Всё племя, вместе с грудными детьми, было изгнано Герингом-отцом из своих жилищ в пустыню, где за несколько недель погибло от жажды и голода.
Один из свидетелей рассказывает о концлагере в Маутгаузене. Геринг слушает внимательно, но, как всегда в таких случаях, лицо его неподвижно и застыло в напряжённом ожидании. У вас создаётся впечатление, что перед вами не Герман Геринг, изобретатель и организатор маутгаузенов, а беспристрастный эксперт, которого лишь на несколько дней пригласили в суд.
«Комендант Маутгаузенского концлагеря обратил внимание на исключительно красивые зубы двух молодых евреев, привезённых сюда из Голландии. Несчастным вырезали желудки и по одной почке, потом впрыснули им в сердце бензин, головы отрубили, а после соответствующего препарирования этих голов комендант лагеря поставил их у себя на письменном столе».
Геринг слушает и глазом не моргнёт. У него за пазухой готов уже «контраргумент»: рассказ о еврейской семье Баллин из Мюнхена. Этот рассказ немного погодя вытащит из-за пазухи защитник Штаммер, который вложит его в уста свидетеля генерала Баденшаца. О том, как Геринг спас эту семью от своих же рук, своевременно выслав её как будто за границу.
Почему именно семью Баллин и почему только её? Потому что семья Баллин во время мюнхенского путча спасла Герингу жизнь. За эту свою фатальную ошибку семья Баллипа двадцать лет спустя удостоилась награды: она стала единственной из миллионов еврейских семей, которой Геринг любезно разрешил жить. Разрешил этой семье жить для того, чтобы она сегодня его вторично спасла, на сей раз от виселицы. Так выглядит двойная бухгалтерия арийской морали, осуществлённая рукой примерного арийца.
Свидетель, статс-секретарь Пауль Кёрнер, одна из живых карикатур Гросса, ближайший клеврет и наушник «рейхе маршала», типичный гомункул из реторты Адольфа Гитлера, во время допроса назвал Геринга «человеком Возрождения». Что или, точнее говори, кого подразумевает Пауль Кёрнер иод словом «Возрождение», не трудно догадаться. Возрождение – это для него не Петрарка, не Леонардо да Винчи и не Микеланджело; это прежде всего и исключительно кровавый тиран Людовик Сфорца и безгранично распутный Цезарь Борджиа,
– В 1922 году я получил в СА наивысший командный пост, какой только можно было получить, – хвалится на процессе Герман Геринг. О том, почему именно он, Герман Геринг, получил этот «пост», говорит нам история первых лет нацистской партии: не было тогда почти ни одного «мокрого дела», следы которого не вели бы к кабинету Геринга.
Опыт создаёт мастера. Когда в голове Геббельса зародилась идея поджога рейхстага, он знал, что её лучше всего может выполнить Геринг. Сегодня «человек Возрождения» удивлённо пожимает плечами, когда ему напоминают об этой истории. Он как будто забыл даже фамилию главного участника поджога СА – фюрера Эрнста, который, предчувствуя смерть от руки Геринга, оставил нам письменное свидетельство, в котором описывает но только роль Геринга в поджоге, по и технические подробности этого предприятия. Эрнст? Живот Геринга трясётся от смеха. Да, хорошая идея была с этим Эрнстом! Под шумок 30 июля не трудно было перенести своего пособника в лоно Авраама. Иначе за этим проклятым пультом появился бы ещё один лишний свидетель и была бы ещё одна лишняя неприятность…
Ему читают показания генерала Гальдера.
«Как-то в небольшом кругу завязался разговор о рейхстаге. Геринг сказал тогда: «Единственный человек, который знает как следует рейхстаг, это я. Потому что я его поджёг».
В ответ Геринг легкомысленно машет рукой. Глупости, мол, обыкновенные сплетни. Да неужто рейхстаг стоил того, чтобы его поджигать? Другое дело, если бы речь шла, например, об оперном театре. И тут же этот бессменный глава нацистского рейхстага добавляет:
– Опера всегда была для меня чем-то более важным, чем рейхстаг…
Есть ситуации, когда даже на скамье подсудимых Геринг возвращается к роли первого шефа гестапо, несмотря на то, что в этом случае весь аппарат Геринга состоит лишь из одного человека: его адвоката. Да, как выясняется, для шантажа и этого аппарата достаточно. Не лучше ли всего продемонстрировал это случай со свидетелем Шахта, известным уже сегодня Гизевиусом, человеком 2 июня… и американской разведки и автором неприятной для Геринга книги о «третьем рейхе». Накануне выступления свидетеля к нему пришёл адвокат Штаммер и, не церемонясь, сказал:
– Мой клиент предупреждает вас, чтобы вы были осторожны в своих показаниях, иначе… гм!..
Но на беду Геринга случилось так, что Гизевиус не испугался этого «гм» и рассказал столько новых подробностей из биографии рейхсмаршала, что даже доктор Штаммер схватился за голову…
Однако ещё «более яркий» материал дают фрагменты стенографического отчёта совещания Геринга с рейхскомиссарами оккупированных областей и представителями военного командования о продовольственном положении. Совещание происходило в четверг 6 сентября 1942 года в «зале Германа Геринга» в министерстве авиации.
Геринг: «…Я вижу, что люди в любой оккупированной области жрут до отвала… Боже мой, ведь вы посланы туда не для того, чтобы работать для благополучия порученных вам народов, а для того, чтобы выкачать оттуда всё возможное, для того, чтобы мог жить немецкий народ. Этого я жду от вас. Нужно, наконец, прекратить эту вечную заботу об иностранцах…»
«Неподалёку от границ Рурской области находится богатая Голландия. Она могла бы послать сейчас в эту изнурённую область значительно больше овощей, нежели это делалось раньше. Что об этом думают господа голландцы, мне совершенно безразлично. Вообще в оккупированных областях меня интересуют лишь те люди, которые работают на вооружение и обеспечение продовольствием. Они должны получать столько, чтобы как раз могли выполнять свою работу. Являются ли господа голландцы германцами или нет, мне совершению безразлично, потому что если они действительно германцы, то тем более они дураки, а что надо делать с глупыми немцами, уже показали в прошлом выдающиеся личности…»
Теперь Геринг продемонстрирует нам свои чувства к другим странам.
«…Я забыл об одной стране, потому что оттуда ничего не возьмёшь, кроме рыбы. Это Норвегия. Что касается Франции, то я считаю, что земли там обрабатывается недостаточно. Франция может обрабатывать землю совершенно иначе, если крестьян там немного иначе принуждать к работе. Кроме того, в этой Франции население обжирается так, что просто стыд и срам…»
«Я ничего не скажу, наоборот, я обиделся бы на нас, если бы мы не имели в Париже чудесного ресторанчика, где бы могли как следует поесть. Но мне мало удовольствия доставляет, что французы лезут туда. Для нас «Максим» должен содержать самую лучшую кухню. Для немецких офицеров и немцев, и ни в коем случае не для французов, должны существовать три-четыре первоклассных ресторана. Французам такая пища не нужна…»