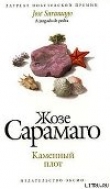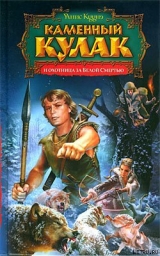
Текст книги "Каменный Кулак и охотница за Белой Смертью"
Автор книги: Янис Кууне
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Часть 2
Кайя
Весна
Весна в тот год пришла очень рано.
На Ярилов день[138]138
Ярилов день – согласно славянскому календарю день весеннего равноденствия, праздник перерождения Хорса (зимнего Солнца) в Ярило (летнее Солнце).
[Закрыть] снега уже сошли. А через седмицу по Волхову пошел Ильменьский лед. Только в борах кое-где еще серели ноздреватые сугробики.
Цветень[139]139
Цветень – апрель по славянскому календарю.
[Закрыть] только начался, а земля на полях уже была готова под ярь.[140]140
Ярь – яровые весенние посадки в отличие от озимых, которые делались осенью, перед зимой.
[Закрыть] Старики кряхтели и пророчили возврат холодов. Дескать, иной год и в начале Травеня[141]141
Травень – май по славянскому календарю.
[Закрыть] бывали такие морозы, что весь посев вымерзал, и приходилось пахать и сеять сызнова.
Ладонинцы ходили к Ладе за советом: орать или подождать? А та только разводила руками. По одним приметам, точнее которых и быть не может, холода ушли окончательно. А по другим, которые испокон веку не обманывали, выходило, что зима злобится где-то за Белоозером и, того и гляди, еще предъявит свои права. Она даже в Навь ходила, спрашивала. Только и дасуни ничего путного про погоду сказать не смогли.
– Тут уж как Мокша свою кудель спрядет.[142]142
Мокша … куделью прядет – по славянскому верованию богиня судьбы прядет нить, на которой и висит человеческая жизнь.
[Закрыть] Может и так, и так повернуться. Такой уж странный нынче год.
Хорс первым решил поверить теплу и вышел пахать.
От зимней болезни его щеки ввалились и покрылись сеткой морщин, но под бородой это было почти незаметно. Все равно, даже похудевший ягн мог вспахать поле и без быка. Однако, когда он тащил по городцу свое кузло,[143]143
Кузло – пахарьский инвентарь.
[Закрыть] соседи пялились на него как на диво дивное. Но причиной тому был не он сам и не его решение начать сев раньше других, а рыжий верзила, что топал рядом с ним. В прежние годы Олькшу видели с отцом только, когда родитель прилюдно поучал его тумаками и затрещинами. Выгнать Рыжего Люта работать в поле было совершенно невозможно. Строптивца было легче убить, чем заставить ходить за плугом.
Может, оттого и решил Хорс прежде всех выйти в поле, дабы вся Ладонь полюбовалась на его отцовское счастье. Вот ведь и он теперь, прямо как Година Евпатиевич, бок о бок с сыном орать идет! Хоть и не понимал косматый великан, как ему такая Доля улыбнулась, так ведь куда важнее, что родительская Недоля от него отстранилась.
Остаток зимы Хорс и Олькша ползали по дому, как осенние мухи. Ели, не в пример другим временам, мало. Говорили и того меньше. Только счастливая Умила лопотала без устали. Из ее трескотни и узнал хозяин дома былицу своего исцеления. И про то, как лихоманка скрутила его в бараний рог. И про то, как Олькша с Волькшей пропадали три дня в зимнем лесу в самые Каляденские морозы, когда птицы на лету мерзли. И про то, как Годинович притащил оглоушенного Ольгерда домой, и тот не мог очухаться целую седмицу. И даже про то рассказала Хорсова жена, что привели пацаны из леса карельскую шаманку, которая с Ладой-волховой одну ночь пошепталась, а на утро оседлала белую сову и была такова. Бабьи разговоры, конечно. Однако в Ладони никто большего о Ладиной зимней гостье не знал, кроме двух приятелей и самой ворожеи.
Но волхову лишний раз без важного дела Умила даже окликнуть боялась. А Годинов Волькша пироги с морошкой за обе щеки уплетал да нахваливал, а как разговор заходил об их походе за барсучьим молоком, принимался рассказывать небылицы, которыми разве что малолеток пугать, чтобы те далеко в лес не заходили. Сына же Умилы, так тот и вовсе на любой спрос молчал, как снулый окунь: глаза застылые, острые перья[144]144
Перья – то же что и плавники.
[Закрыть] во все стороны торчат, не тронь, не тревожь.
На все эти суды-пересуды Хорс только удивленно поднимал брови да вопросительно поглядывал на Ольгерда. Но тот не щерился и не сквернословил как обычно, а тупил глаза. От воспоминания о разъяренной толпе самоземцев, приходивших править непутевого забияку, мерзкий холодок пробегал по хребту ягна. А вдруг как опять набедокурил сыне? Зло накуролесил. Напакостил так люто, что боится лишний раз из дома выйти.
Так они и молчали седмицу за седмицей.
И вот, однажды, когда уже звенела первая капель, Хорс чистил стайку[145]145
Стайка – стойло, скотный двор, загон, отгороженное место для скота.
[Закрыть] и что-то бубнил себе под нос. Он устал гадать, что за шкода скрывается за Олькшиной тихостью. Но задать об этом вопрос напрямую не мог: ни в семье его отца, ни в семье деда старший никогда и ни о чем не спрашивал младшего. Не по чину. Коли есть надобность, сын сам все расскажет и совета попросит. Коли нет, так и разговора нет.
– Отече, – услышал он голос Ольгерда за спиной, – поговорить бы надо.
Хорс повернулся к сыну и с прищуром уставился на его конопатую рожу. В первое мгновение отец хотел съязвить что-нибудь. Дескать, распоносило, заговорил, лихов племянник? Но ягн сдержался, а вскоре и вовсе посерьезнел. Уж очень долго мялся его непутевый отпрыск, уж очень краснел и кряхтел от смущения.
– Давай, поговорим, – наконец подбодрил он Олькшу и сам удивился неуместной хрипотце в своем голосе.
– Отече, я знаешь… это… ну, весь Вьюжень[146]146
Вьюжень – февраль по славянскому календарю.
[Закрыть] думал… и никак у меня это из головы не идет…
Ольгерд запнулся.
Хорс прислонился спиной к стене стайки и сложил ладони на черенке навозной лопаты. Всем своим видом он показывал, что не сделает ни одного движения и не произнесет ни одного слова для того, чтобы помочь сыну выйти из затруднения. Имел глупость нагадить, найди мужество признаться. А уж там видно будет, какой суд вершить. Могучий ягн почти не сомневался в том, что его первенец вот-вот покается в какой-нибудь большой потраве или воровстве.
– Я… это… отче, я жениться хочу…
Хорс открыл, было, рот, дабы что-то сказать, но из его горла вылетело только невнятное мычание. Ольгерд с опаской поднял на него глаза. Когда отец отставил в сторону лопату и шагнул к нему, парень втянул голову в плечи, ожидая увесистую затрещину. Но вместо того, чтобы как обычно огреть сына по вихрастому затылку, отец неуклюже обнял его и ткнулся бородой в щеку.
– За ум что ли решил взяться?
– Угу, – пробасил Олькша.
– А матери сказал уже?
– Не-е-ей. Мамке-то что.
– Как что?! – сказал Хорс: – Радость-то какая! Мы-то уж с Умилой думали, что ты до самой могилы колобродить будешь похлеще варяга беспутного…
– Только, отче, – встрял Олькша в радостные отцовские словеса: – тут такое дело…
Когда сын, закончил свой рассказ, Хорс уже и не знал ликовать ему или кручиниться. По всему было видно, что крепко присушила парня олоньская девка. Ради такой зазнобы Олькша мог бы стать не то, что порядочным самоземцем, для нее он превратился бы в самого домовитого хозяина на всем Волхове. Мог бы, не дай он волю своей похоти. Лемби таких шуток не любит. Да что он знал, лоботряс, про обычаи своих дедов-карелов.
– Отче, а ты научишь меня по-карельски чирикать? – мечтательно спросил Рыжий Лют.
– Ну, попробовать, конечно, можно, – ответил Хорс, и почесывал в затылок.
И была у ягна серьезная причина скрести черепушку. Для весомости хотел он ответить сыну на языке своего отца, но тут обнаружил, что знакомые с детства слова разбегаются от него, как куры от лиса. Оно, конечно, понятно: уже, почти двадцать лет минуло, как говорил он все больше по-венедски и почитал венедских богов. Стоит ли удивляться, что бестолковый его сын, который повсюду называет себя «венедом белым», ничего не знает про Лемби. Да и знал бы, что в том толку, если Велес дурьей башки даже мизинцем не тронул, зато разудалый Ярило[147]147
Ярило – у славян летняя ипостась солнца, а так же бог плодородия и животной страсти.
[Закрыть] у него в микитках свое капище обустроил и идола там водрузил молоточной рукоятке под стать.
– У венедов говорят, – озвучил Хорс свои нелегкие мысли: – дитя надо учить, пока поперек лавки лежит… Ну, да ничего. И я в молодечестве возле мамкиного подола не шился. Тоже чуть в яму черную не угодил… Знамо дело – дурь молодецкая… Так, что ежели ты и вправду решил за ум взяться, то кому, как ни отцу, тебе в том помогать.
– Только отче, – опять замялся Ольгерд: – Не надо пока никому говорить про то, что я жениться хочу… Ну, мало ли…
– Мало ли, от ворот поворот дадут, – закончил за него отец: – Насколько я разумею, такая девка может и сватов взашей выгнать, да и самого жениха стрелой между глаз приветить. Ну, да ни беда. Домину тебе поставим. Поле раскорчуем. Самого Годину Евпатиевича в сваты позовем. Может, и уговорим твою любаву…
– Отче, а как дом-то ставить будем, все ж догадаются, – промямлил сын.
– А ты как хотел? – опешил Хорс.
– Не знам, – потупился Олькша: – Может сперва просватать, а потом уж огород городить.
– Вот ты, Ярилова палица, – озлился могучий ягн: – Хочешь и на елку влезть и морду не поцарапать?!
– Ну, отче…
– Что «отче»?! Хочешь зазнобу в отцов дом привести да на общей полати молодку пахати?! Точно смерд какой безродный?! Что мы хуже Годины стоим? Так ведь нет! И мы не воду из озерины[148]148
Озерина – большая лужа.
[Закрыть] вместо сбитня хлебаем! Не гоже так! А ежели ты в себя не веришь, так неча и на инородную девку зариться. Возьми вон какую-никакую дурочку венедскую. Да сватов от тебя половина девок по Волхову и Ладоге ждет, не дождется. Потому как я вот этими самыми руками хозяйство крепкое поднял и держу его, не дрогну.
Хорс распалился не на шутку. Еще немного и негодование отцовской души выплеснулось бы крепкой затрещиной сыну в лоб. Но из-за угла дома показалась голова младшей дочери, Удьки, Удомли – в честь бабки, и разговор оборвался.
– Ссоритесь? – ехидно спросила Удька.
– А тебе-то что? – в один голос и в один лад спросили молодой да старый.
– Если ссоритесь, значит, хворь из вас окончательно вышла, – рассудила девчонка: – Теперь опять в три горла жрать будете.
– Ты посмотри! – хохотнул Хорс: – Сама рыжая, конопатая, а языком ворочает как лопатою. Да разве тебя кто объедал раньше?
– Объедал.
– Кто? – опять в один голос спросили мужики. Но на этот раз вопрос у каждого звучал по-разному, а Олькша исподтишка показал сестре кулак.
– Он, – выпалила Удька и отбежала на десяток шагов.
– Ах, ты короб для харчей! – в шутку осерчал Хорс. Ему ли не знать, что его дети всегда были сыты, хотя и не всегда отцом привечены: – Дитё малое объедал! Вот тебе, вот!
Надавав первенцу шутейных тумаков, отец крикнул Удьке: – А ты, дереза, на кой Лих приходила? Обучи по капельным лужам мочить?
– Не-е-ей, – ответила девочка: – Мамка обедать звала. Да прежде велела подслушать, о чем вы тут толкуете.
– Подслушала? – спросил Хорс.
– Не-е-ей. Так спешила, что забыла… – созналась Олькшина сестра. Не в пример старшему, была егоза сметлива и хитра. Даром, что рыжая.
Соврала Удька и затаила проведанное до поры или и вправду ничего не слышала, но только, когда Хорс с Олькшей в начале Цветня шли на пахоту, все соседи аж рты от удивления поразевали. Никогда еще венеды так громко не желали ягну удачи в поле и дома.
Да куда ей, Удаче, в поле деваться, когда там ворочали землю два таких великана. Один крепче другого. Молодой да матерый. Кудлатый да косматый.
От натуги на быке ярмо расщепилось, так сын дышло руками тянул, а отец оралом правил. За два дня всю ярь вспахали, переборонили и засеяли. Пока прочие Ладонинские самоземцы думали да прикидывали пахать – не пахать, Хорс и Ольгерд уже с полей пахарскую утварь везли.
Может быть, оттого никто в Ладони и не удивился, когда через день-другой начали они валить деревья по соседству с Хорсовым полем. Всем же понятно, что при такой-то мощи можно и в два раза больше земли засевать. А жита никогда много не бывает, коли нажито жито без грыжи. Избыткам всегда оборот найдется.
Но не только в поле, а и в доме у Хорса все переменилось. В любое свободное время отец с сыном обосабливались в затишке и о чем-то шептались. Если бы кто их подслушал, то подивился бы, уразумев, что Рыжий Лют, который во всех языках Гардарики знал только ругательства, со всей прилежностью недоросля овладевал карельским наречием. Медленно давалась верзиле наука. Порой Хорс был готов прибить сына насмерть за тупость и короткую память. Но что-то все же задерживалось промеж Олькшеных мясистых и веснушчатых ушей: не споро, как хотелось бы отцу, но и не безнадежно медленно он начинал говорить на языке предков все правильнее и правильнее.
Однако не только карельское наречие передавал отец сыну. Все то, от чего, невзирая на побои, Олькша убегал в отрочестве, вся непростая житейская мудрость самоземца были теперь для него как былицы для дитяти. Рыжий Лют слушал и спрашивал, спрашивал и слушал.
Чем сильнее менялся Олькша, тем больше недоумевала Ладонь. Бабы не давали Умиле прохода, и так, и сяк пытая мать Рыжего Люта о том, как ее мужу удалось отвадить балбеса от праздности и бедокурства. Но она клялась самыми страшными клятвами, что не ведает, как такое и получилось-то.
Через эти чудеса соседи стали иначе смотреть и на Хорса. Раньше он был для них инородцем, пришедшимся ко двору своей небывалой силой и бескорыстной отзывчивостью. Объявился он примаком[149]149
Примак – муж дочери, которого принимали в семью жены, дабы со временем занять место хозяина дома.
[Закрыть] в семье одного из самых захудалых Ладонинских самоземцев. Через пару лет, когда Зван, отец Умилы, зачах от сухотки, он встал на хозяйство и с двужильным напором принялся его из Недоли вытаскивать. И вытащил. И теперь жил на широкий двор, так что впору было работников заводить. Да только поперек нутра было ягну на чужом хребте ездить.
Вот только детьми Дид[150]150
Дид – у славян бог супружеской любви и семейного счастья.
[Закрыть] не сильно Хорса одаривал. Что ни год ходила Умила брюхатая, да только детки мерли в родах или младенчестве. Выжило всего трое. Сыновей двое: Ольгерд, первенец, и Пекко-молчун, на шесть лет младше. И дочка одна: Удька, нежданная радость, егоза и постреленыш. Да, только так с Олькшиного малолетства повелось, что, как только речь о нем заходила, так отеческая кручина и омрачала душу могучего ягна. Ни крику, ни колотушкам не внимал детина. Баловал и сквернословил так, что казалось, не найдется на него управы. И вдруг, в одночасье из оторвы и бестолочи получился вон какой столпище для отцовской славы. Ни дать, ни взять Дид с Велесом выказали Хорсу милость за труды его.
А раз так, то соседи поведилась к ягну за житейскими советами хаживать. И от нежданного счастья и почета ходил Олькшин отец гоголем, то и дело рыжую сыновью макушку трепал ласково и только что не на руках тетешкал своего отпрыска.
А Ольгерд Хорсович то ли от любви, что маяла его по ночам, то ли от пахарской да надворной работы, но за четыре месяца схуднул в животе, зато раздался в плечах и еще подрос, став на пол головы выше могучего отца. Заветный самострел он взводил теперь одной рукой, а древесные стволы толщиной с руку запросто ломал об колено. Словом, стал он куда как завидным женихом. И даже Ладонинские отцы семейств, где были девки на выданье, стали иначе смотреть на бывшего бузотера и колоброда.
Свою дружину Олькша разогнал, сказав парням, что лиходейство ему разонравилось. Перечить своему «ярлу» никто не стал, и с тех пор установился в Южном Приладожье такой мир и покой, что прямо Ирий какой-то.
Торхова телочка
За всей этой ранней и теплой весной, спокойствием и благодатью никто в городце даже и не приметил, что два приятеля, некогда бывшие не разлей вода, с самой зимы почти не хороводятся вместе. Мало ли что промеж друзей бывает. Волькша при встречах старался как можно скорее свернуть разговор, ссылаясь на разные родительские поручения, да и Олькша отводил глаза и держался поодаль от свидетеля своего беспутства в доме на деревьях. Если бы кто и вздумал подглядывать за парнями, то ощутил бы, что между ними пролег овраг чьей-то вины. Но чьей именно не догадался бы никто.
Бывшие друзья не виделись целыми седмицами, что было немудрено, поскольку с конца Травеня, так и не принесшего коварные морозы, с той самой поры когда все Ладонинские самоземцы управились с посевами, Волькша начал пропадать из дома на целые дни. В прежние лета, когда он куда-то надолго уходил, Ятвага знала, что ее сын где-нибудь с Олькшей. Хорсович при всей его бедовости Варглоба в обиду никогда не давал. Из своих похождений они всегда возвращались вместе. И часто так случалось, что Ольгерд был сплошь покрыт синяками, в то время как на ее сыне не было ни царапинки, так уж ретиво верзила защищал своего щуплого дружка. Нынче же Олькша день-деньской помогал родителю по хозяйству, так что латвица ломала голову над тем, где и с кем пропадает ее третий сын. От расспросов Волкан не увиливал, но его рассказы о том, как он день напролет учился целиться в белку, не казались Ятве убедительными. В Ладони Година считался знатным охотником, но дичь предпочитал брать силками или капканами. И откуда у Варглоба, который сызмальства не терпел крови, могла взяться эта страсть к стрельбе? У них в доме даже и самострела-то приличного не было.
Однако Волькша не обманывал мать. Он лишь немного не договаривал о том, с кем и как он постигал науку метания стрел.
Волкан всегда честно признавался, что и в мыслях не держал искать этой встречи. Но видимо, уж так Мокше было угодно, что бы однажды Данка, одна из младших дочерей Годины, заснула на полянке, разморенная первым теплым солнцем, и не углядела, как от Ладонинского стада отбилась молодая телочка. Но спохватилась девчонка споро, пригнала остальных коров в городец, да со слезами за пропажей бежать собралась. Тут ее, зареванную, Волкан и повстречал. Вместе искать отправились. На злополучной поляне все осмотрели и нашли то место, где коровка в бурелом ушла. Дальше побежали по ее следам.
– Не хнычь, Данка, – подбадривал сестру Волькша: – Найдем мы Торхову телочку целой и невредимой. Волкам нынче и молодых косуль хватает. Медведь тоже уже поотъелся с зимы. Так что зверье нынче к человечьему жилью не жмется. Диким промыслом живет.
А коровьи следы уходили все дальше и дальше от Ладони.
– Ах, ты, леший тебя побери! – выругался Волькша, когда следы копыт привели их в болотистый распадок.
– Что такое, братка? – встревожилась Данка.
– Да, похоже, сюда наша телочка сама пришла, а отсюда ее… добрый человек увел, – Волкан хотел сказать: «тать угнал», но спохватился. Данка была не то чтобы плаксивой девчонкой, но заполошной – это точно. Услышав про «доброго человека», она часто-часто захлопала ресницами: не то вот-вот заплачет от страха, не то заголосит от радости.
Между тем «добрый человек», если судить по следам, мужиком саженного роста не был, как не был и босоногим пастушком-постреленком. Не в пример Волькше с сестрой, он не оставлял пятипалые отпечатки, потому как носил обувку. Выходило, что это был либо охотник, либо ратник. В любом случае встреча с ним не предвещала ничего хорошего.
– Данка, – наигранно спохватился Волькша, – я тут вспомнил, что мамка посылала меня за смородиновым листом, а я с тобой ушел. Давай, я за тебя телочку пойду искать, а ты за меня смородины нащиплешь, а?
Уговаривать сестренку не пришлось.
– Может тебя вначале поближе к Ладони вывести? – спросил он сестру на прощание.
– Не-е-ей. Тута не далеко. Сама добегу, – замахала руками Данка, и брат не усомнился в том, что как оно и будет.
Тать передвигался по лесу весьма споро. Он явно знал эти места лучше Волкана, который почти бежал, но никак не мог расслышать в летнем лесном многоголосье динькание коровьего ботала.[151]151
Ботало – коровий колокольчик, на случай пропажи вешался на шею корове для обнаружения ее в лесу по звуку.
[Закрыть] В какой-то миг Волькша подумал, что угонщик мог, конечно, и снять колоколец с телочки. Если так, то вполне может статься, что преследователь обнаружит себя до того, как увидит татя, поймет, что к чему, и сумеет оценить супостата. А в том, что телочку придется вызволять силой, Годинович почти не сомневался.
Волкан старался набегу продумать все возможные пути возвращения скотинки своего старшего брата. Он был готов ко всему, но только ни к тому, что на самом деле приготовила ему Мокошь.
Когда он углядел телочку за деревьями, та мирно паслась на небольшой полянке. Подобравшись ближе, паренек разглядел длинную веревку, которой коровка была привязана к дереву. А вокруг ни души. Ни дать, ни взять, западня: телочка – приманка, а он, Волькша, – неразумный зверь, который должен вот-вот попасть в волчью яму.
Можно было, конечно, во все лопатки побежать в Ладонь, звать на помощь братьев. Никто бы не осудил Годиновича за такую осторожность. Но, ощутив холодное дыхание опасности, Волькша точно стал выше ростом, шире в плечах и летовалее. На всякую хитрость можно свою сметку накинуть и все шиворот на выворот перетянуть: тот, кто был дичью, может стать охотником, а ловец превратиться в добычу.
Волькша присел за деревом и начал внимательно осматриваться. Веревка была слишком длинной: коровка гуляла по всей поляне как хотела. Значит, ямы возле нее нет, если только тать не выкопал ров вокруг всей поляны. А раз нет ямы, выходило, что тать сидит в засаде. А уж найти засадников в бору, что шумел вокруг, было куда проще.
Годинович весь обратился в зрение и слух. Ему казалось, что он способен издалека услышать даже шум чужого, потаенного дыхания, что ему по силам разглядеть едва примятые ветви кустов.
– Что там такое, венед? – раздался тревожный шепот над самым его ухом. От неожиданности Волькша оцепенел. Кровь ударила ему в затылок, как дубовая клюка.
– Ну, что там? – недоумевал голос. Неслышно, точно бегущее над лесом облако, мимо него промелькнул чья-то тень…
Мимо???
Льдинка страха мгновенно растаяла, заполнив голову перегретым паром недоумения.
Как мимо? Почему?
Если некто выслеживал не Волькшу, в чем сомнений не было, поскольку он прошел мимо, значит, этот некто тоже искал тех, кто устроил на поляне западню.
Но кем был этот некто?
И почему он говорил по-карельски?
И почему, несмотря на то, что в руках у него лук, его волосы цвета весеннего одуванчика заплетены в две девичьи косички?
– Кайя? – не то спросил, не то позвал Волькша.
– Чего орешь?! – раздалось из-за дерева.
– Это ты, Кайя? – переспросил Годинович громким шепотом.
– Я, – ответили из-за ствола: – А кого ты хотел увидеть рядом с моим домом?
– Рядом с чем?
– Все-таки вы, венеды, странные, – сказала Кайя, прокравшись обратно к Волькше: – Вон же мой дом.
Годинович оглянулся и тут же точно яркие сосновые лучины зажглись у него в щеках и ушах. Какой позор! Пусть даже его скрывали ветви деревьев, но не заметить олоньский дом было невозможно. Надо же было так увлечься погоней за татем, похитившим телочку Торха, чтобы пройти в нескольких шагах от сруба на деревьях и не увидел его!
Когда венед поведал Кайе, что за дело привело его к ее дому, та согнулась от смеха в три погибели, а потом и вовсе повалилась в черничник.
– Я же чуть не пристрелила тебя, венед! – потешалась она: – Я в ледник спустилась, чтобы настрелянных зайцев туда положить, вылезаю, смотрю, чья-то задница в кустах маячит и явно на Ладонинскую телочку зарится. Вот думаю, вор! Будь он хозяином, давно бы коровку отвязывал и домой погнал, а это высматривает что-то. Уж и не знаю, чего я сразу не выстрелила? Лук же стоял подле ледника. Стало мне любопытно, что это за олух такой объявился. Подбираюсь ближе, смотрю, а это старый знакомый крадется. Тут меня сомнение взяло, что это ты там, на полянке высматриваешь…
Волькша пялился на хохочущую Кайю, старательно лыбился и всплескивал руками, но в душе его было пакостно. Как не крути, а эта олоньская девчонка имела право называть его и олухом, и задницей. Не увидеть на деревьях ее дом, не услышать, как она подкрадывается сзади! Никакой он после этого не охотник, не следопыт. Олух он последний и все тут…
– А зачем ты телочку-то из распадка свела? – попытался Годинович перевести разговор.
– Надо было другим оставить? – съязвила девица: – В следующий раз так и сделаю, чтобы венеды глупых вопросов не задавали. Я-то хотела их животину поберечь от зверья и лиходеев, а он меня упрекает!?
Волкан уже знал, что и следующий его вопрос не покажется Кайей умным, и все же он спросил:
– Но почему ты ее к себе повела, а не в Ладонь, раз уж знала, что это Ладонинская телка?
– Ну, какой же ты глупый, венед. Я же тебе сказала про зайцев. Сказала?
Парнишка кивнул.
– Думаешь, я их как грибов возле дома насобирала?
Волькша покачал головой.
– С самого утра за ними по лесу шастала. Ноги гудят, как ветер в трубе. А телочка ваша ближе к моему дому блудила, чем к Ладони. Я и решила вначале добычу домой занести, отдохнуть, а уж после вашу скотинку возвернуть.
Волькша готов был провалиться в Навь от стыда. Вот и снова он выходил олухом перед девчонкой. Впрочем, девчонкой он называл Кайю скорее по сути, чем по облику. Лет ей было столько же, сколько Волкану или около того. Лицо она имела детское и открытое, но сама была при этом высокая, крепкая, полногрудая.
– Да ладно тебе, венед, – успокоила его юная охотница: – Раз уж пришел, пошли я тебя киселем напою.
Гордый венед хотел отказаться, забрать скотинку и двинуться домой, но от воспоминаний о вкусе велле рот наполнился слюной. Хоть и не мог Волькша жаловаться на то, что ему редко приходилось есть разные сласти и смасти, но карельский кисель запомнился ему как-то особо. Даже не столько вкусом своим, сколько благодатью, которая наполняла пузо вместе с велле.
Но овсяным киселем угощение не закончилось. Хлебосольная хозяйка выставила гостю холодной тушеной оленины с мятой брусникой в меду и черные душистые хлебцы. За едой неловкость Волькши улетучилась, и они с Кайей душевно проболтали почти до вечерней зорьки. За весь вечер они даже словом не обмолвились о том, что произошло зимой. А так успели переговорить обо всем на свете: о повадках тетеревов и лисиц, о том, где в округе самые ягодные места и где самые непроходимые болота. Да мало ли еще о чем могут говорить люди, испытывающие друг к другу простую человеческую приязнь.
Годинович, глазом не моргнув, пересказывал байки отца, как свои собственные, и вскоре превратился в глазах Кайи из «олуха» и «говорливого венеда» в Уоллека и глазастого внука Тапио.
Прощаясь, Волькша опять чуть не осрамился. Он поблагодарил хозяйку за угощение и привет со всем красноречием, на которое был способен сын Годины Ладонинца, он испросил разрешения время от времени наведываться в гости, а, получив на то радостное соизволение Кайи, двинулся домой… без телочки. Ему, конечно, удалось превратить свою оплошность в шутку, но, топая с коровкой к Ладони, он щедро надавал сам себе оплеух и затрещин.
– Вот тебе, олух. Вот тебе, – приговаривал он, с каждой колотушкой чувствуя себя все более и более счастливым.