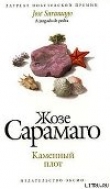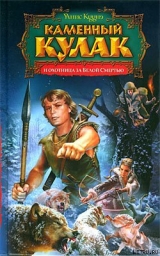
Текст книги "Каменный Кулак и охотница за Белой Смертью"
Автор книги: Янис Кууне
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Рысь
Хорс болел люто.
Еще в ночь Олькшиного вече Мара легла с ним в постель и припала к его телу, как страстная вдовица, истосковавшаяся по мужским ласкам и наконец залучившая в объятья распутного странничка. Могучий ягн горел верхом и стыл низом. Мечась по полатям, он своими холодными как лед ножищами не раз выталкивал Умилу прочь, так что той пришлось притулиться вместе с гостями на полу. На утро Хорс едва мог шевелиться. Пот крупными каплями покрывал его лоб, щеки, шею и даже бурую шерсть на груди. Гости расходились без гостинцев, молча, виновато. Все понимали, что ягн простыл накануне, стоя перед сборищем босиком, в одной рубахе и портах.
Прошла седмица. Хорс лежал лежнем. У него не хватало сил даже на то, чтобы бредить. Ладины отвары и примочки делали его кашель не таким надрывным. И все. Умила дни напролет тихо скулила возле умирающего мужа, умоляя его не покидать сиротинушек, малых детушек, а ее не оставлять горемычной вдовицей. Будь Хорс в сознании, он удивился бы тому, сколько искренней тоски и любви было в голосе его немногословной жены.
Олькша ходил как в воду опущенный. В тот день, когда окрестные землепашцы намеревались править Рыжего Люта и всю его семью, он прятался на сеннике у Торха Годиновича, а Ярку, младшего брата Волькши посылал к дому Хорса посмотреть, что там творится. Узнав, что расправа не состоялась, а гневливцы прошли в дом ягна, где мирно уселись гостевать, гроза окрестных малолеток успокоился. Однако вернуться в отчий дом не решился. Явился он туда только через день, когда гости уже утопали восвояси.
Какого же было его удивление, когда вместо Хорса с плетью на него накинулась тихая Умила со скалкой.
– Ах ты, гниль болотная, – кричала мать, охаживая его по спине: – Клянусь Укко,[110]110
Укко – у карело-финнов верховный бог. Подобно Зевсу, Тору, Перкунасу или Перуну является властителем погоды и туч.
[Закрыть] лучше бы я тебя на свет не рожала, лешака бессовестного…
Никогда в жизни Олькша не слышал от матери грубого слова. Он не мог вспомнить даже кричала ли она на него когда-нибудь. А тут Умила зашлась черной бранью до хрипоты. Смысл ее воплей был неумолим: кто будет заботиться о семье, если Хорс умрет, а по матери словам, отец должен был непременно умереть, поскольку за всю жизнь он болел всего один раз и то после веселенькой встречи с медведем. Но даже тогда подранный в лоскутья Хорс зубоскалил и покрикивал на домашних, указывая как правильно обрабатывать шкуру зверя, едва не лишившего его жизни. А вот теперь он уже два дня лежит и никого не узнает. И все из-за такой бестолочи и безручи как Олькша, Сюетар[111]111
Сюетар – в карело-финской мифологии полубог, породивший всяческие зловредные существа, некий эквивалент злой Бабы-Яги.
[Закрыть] его раздери.
Рыжий Лют побои снес стойко. Не привыкать. А вот материнские крики полоснули по какому-то потаенному месту в его разгульной душе, и огроменный детина вдруг сел возле порога и заплакал, по-детски размазывая грязь по лицу. Его душила нестерпимая жалость, осознать которую он был не в силах. Он косился сквозь слезы на огромные отцовские кулаки, на всклокоченную бороду, косматые брови и хныкал о том времени, когда он, Ольгерд, мог ни о чем не думать и жить как трава, как сорняк, беспечно скалясь на солнце и цепляясь колючками за все живое вокруг. А теперь, если Хорс умрет, ему придется встать во главе дома. Пахать и сеять, резать сено и рубить дрова. Он уже давно умел все это и даже испытывал что-то вроде гордости, когда тяжелая мужицкая работа спорилась в его руках. Но все что он делал в поле, в лесу или по дому, он делал редко, из-под палки, по отцовскому наказу и окрику. Сам же он только и думал о том, как бы улизнуть со своей дружиной в «набег». И вот этому беззаботному времени, похоже, приходил конец.
– Отече, если ты меня слышишь, – шептал Олькша сипловатым баском: – Ты, это, старый хрыч, брось. Не дело тебе болеть. Мы ж венеды белые – семижильные. Нас Морана[112]112
Морана – тоже, что и Мара.
[Закрыть] боится хуже Ярилова огня.
Но Хорс молчал и только скрипел зубами в горячечном плену.
Каждый день приходила Лада-волхова. Приносила новые взвары. Раскладывала вокруг постели пучки сухой травы. Что-то шептала. И уходила молчком, пока однажды не остановилась возле Олькши со словами:
– Хорсу помощник нужен. Один он из Нави не выберется.
Ольгерд часто-часто захлопал белесыми ресницами. Слезы опять подступили к его горлу, но плакать при чужих он не согласился бы ни за что на свете. А как не плакать, если без помощника отцу из неживых краев не выбраться. И где взять пособника для такого дела, если уж сама ворожея не в силах помочь…
– Не хнычь, – сказала ему Лада, и от этих слов две большие как смородина слезы предательски выкатились у парня из глаз.
– Твоему отцу барсук нужен, – продолжила волхова.
– Это я мигом, – вскочил Олькша, лихорадочно вспоминая, где в их обильном доме стоит горшок с барсучьим жиром.
– Ну, это вряд ли, – остановила его ворожея: – Если ты за жиром помчался, то это напрасно. Такого добра и у меня достаточно.
И действительно, как только Олькша не заметил, что от больного исходит именно этот, немного тошнотворный запах барсучьего смальца.
– Твоему отцу живой барсук нужен. Точнее барсучиха, да чтобы вместе с детенышами.
Глаза Рыжего Люта округлились от изумления.
– Барсучиху-то зачем? – все же спросил он.
– Хорсу барсучьего молоко надо. Можно, конечно, медвежьего, но барсучьего, пожалуй, легче будет добыть.
Парень осовело кивал кудлатой башкой.
– Тут понимаешь, Ольгерд Хорсович, какая загвоздка выходит, что должно быть то молоко теплым, то бишь не замороженным, а значит его надо прямо в барсучихе нести. Соображаешь?
Олькша соображал с трудом.
– А еще, чтобы после такого разора барсучиха, подруга Живы,[113]113
Жива – славянская богиня, дочь Лады. Воплощает жизненную силу и противостоит смерти.
[Закрыть] Святобору[114]114
Святобор – славянский бог лесов, господин леших.
[Закрыть] на меня за потраву помета не жалилась, кроме самой мамки надо еще и всех ее кутят из норы сюда, а потом опять в нору отнести. Если будут живы детеныши, барсучиха зимнюю побудку забудет и жаловаться лесному господину не станет. А не убережешь кутят, будет и Хорсу, и тебе дорога в Святоборовы владения заказана.
И ни говоря больше ни слова Лада направилась к дверям.
В дом вползла безнадежная тишина. Разве ж это мыслимо – зимой под снегом отыскать барсучью нору, а в ней не абы кого, а барсучиху да еще с пометом. Проще было бы, наверное, добыть молодильных яблок или другой сказочной снеди.
И все же Олькша поднялся с лавки и натянул стеганую рубаху поверх полотняной. Умила принесла ему отцовские рукавицы. Из того самого медведя, что когда-то от души повалтузил Хорса, да совладать не смог.
Детинушка уже вскидывал на плечо отцовский самострел, когда в дом опять вошла Лада, неся в руках маленькую плошку.
– На, вот, натрись этим, а то обморозишься. Коляда[115]115
Коляда – славянский бог празднеств, календарного цикла и веселья. Бог-покровитель Зимнего Солнцестояния, названного его именем.
[Закрыть] же на дворе, – сказала она, протягивая снадобье.
– А че это? – спросил Олькша, который и сам знал, что Коляда, но в силу упрямства и тугодумия не мог не задать хотя бы один глупый вопрос.
– А незнаючи не будешь натираться? По тебе лучше замерзнуть?
– Не-е-ей, – пробасил парнище: – я и сам думал гусиным жиром натереться, да потом лень стало. Я думал две пары онучей[116]116
Онучь – тоже самое что портянка, кусок полотна, которым оборачивали ногу для тепла прежде чем надеть лапоть или обучь.
[Закрыть] и рукавиц надеть.
– Как барсучью нору в двух рукавицах копать-то будешь? – осведомилась Лада: – А чтобы пузом на снегу лежать – ты два тулупа наденешь, охотничек? Раздевайся, говорю, и весь натрись тем, что я принесла. Это крапивный сок с ядом гадюки на медвежьем сале замешеные. Греть будет точно углей под рубаху напихал. Да не бойся, ты, дурень, это только если гада сама тебя ужалит, то яд ее убить может. А на жиру – он греет.
Олькша нехотя потащил с себя охотничий полушубок.
Скрипнула дверь и в облаке морозного пара явился Волькша.
– Фру[117]117
Фру(fru) – сударыня, госпожа, уважительное обращение к женщине в северо-германских языках.
[Закрыть] Умила, как Хорс Айнович себя чувствует? – спросил он с порога: – Ой, Лада, и ты здесь, – спохватился он, когда его глаза привыкли к полумраку жилища…
– Я пойду с тобой, – решительно заявил Волькша, узнав что происходит в доме больного ягна: – Я знаю дорогу к барсучьему «городу».
– А то я не знаю, – пробасил Олькша, но возражать не стал, а, видя, как приятель расторопно скидывает одежду, чтобы намазаться согревающим снадобьем, тоже начался раздеваться.
– Мешок приготовил? – спросил его Волькша.
– Эт зачем? – захлопал глазами верзила.
– Ну ты даешь, – поразился Годинович. – А барсучиху с барсучатами ты за пазухой понесешь? А лопату хоть приготовил… Нет? Ты, что, рыжий олух, мерзлую землю будешь зубами грызть? Или у тебя слово заветное есть, на которое барсуки к тебе сами из нор полезут?
– Сам ты олух! – ощерился Олькша. От злости он прихватил изрядную пригоршню мази и принялся натирать босые ноги. – Думаешь самый умный, а? Да я тебе сейчас… Вот только в бор отойдем…
– Хватит пищать, цыплята, – цыкнула Лада. – Или сейчас я вам языки пахабные в узлы завяжу, да так на всю жизнь и оставлю. А если в лесу браниться вздумаете, так я и оттуда вас услышу. Поняли?
Ребята, конечно, понимали, что в словах ворожеи больше шутовства, чем настоящей угрозы, но притихли в миг: никогда не знаешь, когда волхова от шуточек перейдет к делу. А играть с ней в игры, все равно, что на не прогорелом кострище спать ложиться, – как ни крутись, все одно опалишься.
Когда ребята, изготовленные к раскапыванию барсучьих нор, вышли из Хорсова дома змеиная мазь уже начала действовать. Лица охотничков раскраснелись, точно они вышли из парной. Так что ледяное дыхание Мороза Перуновича[118]118
Мороз (Морозко) – темный бог зимы славянского пантеона, сын Перуна. В современном мире Мороз превратился в Деда Мороза.
[Закрыть] было им даже в радость.
– Ох, и печет же ворожеева мазь, – пожаловался Олькша, погружая меховые обучи в глубокий снег.
– А ты б еще жирнее мазал, так и вообще без обувки мог бы пойти, – подтрунил над ним Волькша, но спохватился, вспомнив Ладино угрозу наслать на них порчу за бранные разговоры, и пояснил: – Я прошлой зимой тоже пожадился, так скакал по снегу точно заяц, пока пекло не прекратилось. А после у меня с пяток кожа сходила, как с ужа по весне.
– Так что ж ты не предупредил, чухонская морда?!
– Так ты ж сам с усам, – ответил Волькша и тут же отскочил в сторону, поскольку приятель собирался огреть его пустым заплечным мешком: – Вот когда у тебя язык в узел завяжется, я за тебя с девками балагурить не буду! – пригрозил он Олькше и к своему вящему удивлению увидел, что угроза подействовала.
– Будем Роопе с собой брать? – морщась от жара в ступнях, спросил верзила.
Роопе – был матерым карельским охотничьим кобелем. В охоте на белок ему не было равных. Он всегда предугадывал, куда зверек скакнет в следующее мгновение, и оказывался с нужной стороны ствола раньше мыси.[119]119
Мысь – обобщенное название ценных пушных зверьков: белки, куницы, горностая и пр.
[Закрыть] Так что гонимая его брёхом белка скакала прямо на охотника с самострелом. Кроме дупельного зверья, Роопе был способен в охоте на лис и барсуков, хотя последние как-то порвали в кровь его белоснежную морду и чуть не выцарапали глаз.
Чего только не давали Хорсу за его пса. Но ягн всегда отвечал бесповоротным отказом. Зато никогда не брал мзды с охотников приводивших к Роопе на «свадьбу» своих текущих сучек: всякому зверолову известно, что от хорошо притравленного кобеля родятся способные к охоте щенки. Но даже здесь Хорс относился к своему загонщику, как к товарищу. И если сучка «не приглянулась» Роопе, ее уводили восвояси.
Услышав свое имя, пес вылез из-под сарая, где, в отличие от других собак в городце, ему было разрешено прятаться в морозы. Увидав охотничий самострел в руках у младшего хозяина, он радостно заурчал и завилял хвостом. Застоялся, дескать, я без дела, давно пора на зимнюю белку идти, а вы все на полатях лежите.
– Не стоит, я думаю, – сказал Волькша, любуясь серо-голубыми глазами и широкой грудиной Роопе: – Он же привык зверя драть, а нам барсучиха живая нужна. Она же сейчас сонная. Мы ее голыми руками, безо всякого пса возьмем. Нам бы только нору раскопать.
Волькша приготовился и дальше отстаивать свое мнение, но Олькша на удивление быстро с ним согласился.
– Роопе, домой! – приказал он. И пес, недовольно хмуря брови и оглядываясь через плечо на неразумных людей, поплелся обратно к сараю.
Охотники пошли вверх по Ладожке. Что зимой, что летом идти по реке куда способнее, чем по чащобе. Черные леса по ее берегам постепенно сменялись борами. Накатанный калядинскими ветрами наст выдерживал даже Олькшу в его широких плетеных снегоступах. И ребятам казалось, что низкое, похожее на желток гусиного яйца солнце греет по-весеннему.
– Долго еще идти? – то и дело спрашивал верзила у своего щуплого спутника.
– Можешь здесь копать, если неймется, – отвечал ему Волькша. – Только барсук – зверь умный. Он в суглинке рыться не любит. Ему супесь милее, а лучше и вовсе песок. И копать легче, и нора суше.
– Ты-то откуда это знаешь? Сам что ли был барсуком?
– Не-е-ей, мне отец рассказывал. Он много разных разностей про зверье знает.
– Тебя послушать, так Година Евпатиевич и по-звериному лопочет, – съязвил Олькша.
– Не-е-ей. По-звериному никак. Но повадки их он знает, как людские. Мы как с ним на охоту пойдем, так я по дороге все животики от смеха надорву, буде он начнет рассказывать то про людей, точно они разные звери, то наоборот.
– А мозоль на языке не натрется, ежели мне Годиновых баек перескажешь? – спросил верзила. В глубине души он завидовал Волькше. Когда Олькша с отцом ходил на зверя или на птицу, то они ссорились до тумаков еще дома. После чего в лодку садились хмурые. И разговаривать начинали только, когда охота задавалась. Да и то больше шикали друг на друга или вопили в азарте стрельбы. А ведь и Хорс был знатным охотником и мог бы кое-что рассказать сыну о нравах тетеревов или лисиц.
Однако Годиновых баек о зверье Олькша так и не услыхал. Едва раскрыв рот, Волькша остановился как вкопанный.
– Ты чё…? – пробасил было верзила, но приятель зажал ему рот рукавицей.
– Рысь! – прошептал он в самое ухо Олькши: – Доставай тетиву!
Огромный лесной кот в завидной зимней дымчатой шубе возлежал на отлогом суку прибрежной ивы. И как только Волькша увидел его среди ряби понурых веток, да еще и с расстояния в пятьдесят шагов? За шкуру зимней рыси иной варяг на торжище мог отдать топор или два опоясных ножа.[120]120
Опоясный нож – примерно тоже, что и тесак, разновидность не обоюдоострого кинжала. Служил как для военных, так и для хозяйских нужд.
[Закрыть] Уж больно свеи да норманны ценят этого зверя. После горностая и куницы он у них в самом большом почете. Но ты пойди настреляй горностаев на шапку. А тут, один меткий выстрел и готово дело.
– Я говорил, надо было Роопе брать, – хрипел Олькша, роясь за пазухой в поисках тетивы.
Самострельная жила – это вам не простой кожаный снурок, что натягивают на лук. Чтобы самострел мог послать стрелу в палец толщиной белке в голову с расстояния в сто шагов, а при натягивании узкоплечего трехслойного лука, стрелок не заработал грыжу, тетива должна быть «живой» и упругой. Делали ее обычно из длинного сухожилья, идущего вдоль хребта быка, а лучше лося. Чтобы она не теряла свою упругость, ее долго выдерживали в липовом меду, а затем в жиру. И все равно в мороз радивый[121]121
Радивый – старательный, усердный, ретивый, ревностный.
[Закрыть] самострельщик никогда надолго не оставлял тетиву на лучке.
– Да не пыхти ты, – шикал Волькша на приятеля: – Лют, похоже, дремлет там на ветке. Небось, только что косулю завалил, нажрался и сопит себе в две дыры.
Видимо, так оно и было. Олькша нашел в складках полушубка кожаный мешочек с тетивой, захлестнул петлю на засечку левого плеча самострельного лучка, кряхтя и, багровея от натуги, натянул другую петлю на засечку правого, а зверь все не шевелился. Даже, когда предательски скрипнул, затягиваясь, узел на жиле, рысь только слегка повел ушами.
Зажав зубами стрелу сын Хорса начал медленно подползать к дереву, на котором дремала шкура, стоимостью в два опоясных ножа. Волькша последовал за ним.
– Слушай, Волькш, – прошептал верзила в самое ухо приятеля: – давай я у тебя со спины стрельну, а то у меня от натуги руки трясутся…
– Может, лучше я выстрелю? – предложил тот.
Волькша давно мечтал испытать в деле знаменитый на всю округу самострел могучего Хорса. Но попросить об этом, значило попасть в дурацкое положение: ведь натянуть тетиву у него наверняка не хватило бы сил. А тут, вот он. Уже взведен. Клади стрелу в ложе и стреляй.
– Не-е-ей, ты промажешь, – заартачился Олькша.
Стрелу-то он вложил, вскинуть-то самострел вскинул, но прицелиться никак не мог. Оружие ходило ходуном в его руках, как камыш под ветром. С таким прицелом можно было и в стог сена с пяти шагов не попасть.
– Ладно, стреляй, – прошептал Волькша, становясь на четвереньки.
– Спасибо, – с жаром ответил Олькша: – все равно один нож твой будет, – ты же рысь заприметил. А кто его подстрелил – это же не важно.
– Ты попади сначала, – пробурчал Волькша себе под нос.
Самострел гавкнул хрипло, как матерый волкодав. Но даже Волькшина спина не помогла Олькше совладать с тряской в руках. Стрела полетела не туда, куда он целил, и вместо того, чтобы вонзиться зверю под лопатку и раскроить сердце, прошила навылет заднюю лапу.
Однако, недаром славился самострел Хорса, – стрела ударила рысь с такой силой, что сбросила её с ветки. Но зверь успел зацепиться за сук передними лапами. Через мгновение он должен был невесомо соскочить с сугроб и, оставляя кровавый след броситься в чащу. Лют уже падал, по-кошачьи разворачиваясь четырьмя лапами к земле, когда из-за сугроба на опушке возник еще один охотник. Длинная оперенная стрела запела звонче самострельной и вошла зверю под ключицу.
В снег рысь упал уже мертвым.
Олькша и Волькша от изумления разинули рты. Произошедшее было настолько невероятным, что попросту не укладывалось в их разум.
Тем временем лучник наложил на тетиву другую стрелу и осторожно двинулся к поверженному зверю. Всякому, кто видел, как стрела вошла в грудь рыси, как мешковато шлепнулось на снег тело, было ясно, что лют мертв, и все же стрелок держался настороже.
– Это наш рысь, – не совсем уверенно сказал Волькша. Его огромный приятель не смог произнести даже этого.
Стоило прозвучать словам, как охотник натянул лук, готовясь послать стрелу в любого, кто встанет между ним и добычей.
– Мы его первые увидели, – еще менее настойчиво заявил Волькша права на шкуру стоимостью в два опоясных ножа.
Охотничий лук угрожающе скрипнул, натягиваясь на три четверти полной силы.
– Вот ведь, перркеле![122]122
Перркеле – в финно-угорских языках название нечистой силы.
[Закрыть] – наконец вышел из оцепенения Олькша.
Он вдел ногу в стремя самострела[123]123
Стремя самострела – железная скоба, вбитая в переднюю часть самострельного ложе, использовалась как упор при натягивании тетивы.
[Закрыть] и напряг могучую спину, дабы взвести тетиву. Но тут кровь отхлынула от его щек. И было с чего! В двух вершках от его рук, как раз возле спускового крюка в приклад вонзилась охотничья стрела. Верзила отпустил самострельную жилу и поднял глаза. Прямо в лоб ему смотрел наконечник еще одной стрелы, готовой в следующее мгновение пробить его рыжую башку.
– Если хочешь жить, лучше стой смирно, – сказал лучник на языке, который был более или менее понятен Волькше. В нем слышались корни, общие для всех лесных языков Ингрии, но звучал он иначе, чем наречие водей или весей. Голос стрелка, слишком высокий и звонкий, плохо сочетался с его воинственными замашками.
– Это не хорошо, – по-водьски промямлил Волькша из-за спины приятеля.
Услышав знакомые слова, охотник чуть отпустил тетиву.
– Что не хорошо, венед?
– Плохо отнимать добыча, – ответил Олькша на языке, на котором иногда бурчал его дед по матери.
– С каких это пор венеды выучили карельский?
Лук охотника опустился еще ниже. Впрочем, это и не означало, что опасность быть подстреленными миновала.
– Я мало венед, – ответил верзила, и его слова поразили Волькшу. То же, понимаешь, «венеды белые – суть Гардарики и гроза Ингрии», а стоило припугнуть, так уже и «мало венед».
– Я – отец отцу – карела, – басил Олькша.
– Ты хочешь сказать, что твой дед – карел? – поправил его лучник.
– Да, мой дед – карел. Как и ты. Мы – народ, – радовался Рыжий Лют тому, что когда-то в детстве из шутовства учил с дедом слова «птичьего» языка. Старик не замечал подвоха и вполне серьезно наставлял внука в карельском. Но тот не долго сдерживал смех. Не заучив и пяти слов, Олькша выбегал из дома, гогоча как полоумный, после чего носился по городцу и перевирал каждому встречному услышанное от деда «пенькание».
– Может карела тебе и народ, – с усмешкой сказал охотник: – только я не карела.
– А кто ты? – подал голос Волькша. На карельский он говорил плоховато. Однако заданный Годиновичем вопрос лучник понял.
– Я олонь,[124]124
Олонь – вымершая народность финно-угорской группы. Ее следы остались в виде названия города Олонец в южной Карелии, а так же в ливвиковском (олонецком) диалекте карельского языка.
[Закрыть] – был гордый ответ.
– Олонь? – в один голос удивились приятели.
– Карела в земле живет, – пояснил охотник: – а олонь на дереве.
– Как белки что ли? – не сдержался и хохотнул Олькша. Впрочем, эти слова он произнес по-венедски.
– Сама твая белька, – выпалил лучник на ломаном венедском. И Олькша зажмурился, потому что стрела вновь нацелилась своим жалом ему в лоб.
Сердце истошно прыгало у Волькши в груди. Вряд ли разгневанный олонь оставит его в живых. А убегать от его стрелы по глубокому снегу без снегоступов, которые они сняли, когда поползли к рыси, было бессмысленно.
– Он не белка, – вякнул Годинович слабым голосом. И как только карельские слова не вылетели у него из головы: – он хорек. Только очень большой и глупый.
– Очень глупый, – со смешком согласился охотник и вновь ослабил тетиву: – Только он не хорек, он барсук толстозадый.
Таких тонкостей карельского наречия Олькша уже не ведал и потому только настороженно косился на стрелка.
Волькша хмыкнул. Хихикнул охотник. Хихикнул слишком задорно для человека, распоряжающегося жизнями двух незадачливых венедских парубков и готового убить всякого, кто вздумает ему перечить.
– Ладно, хорьки-барсуки, ступайте отсюда, – сказал лучник примирительно. Однако не увидев в глазах верзилы понимания, повторил те же слова попроще и для пущей доходчивости, указывая жестом в направлении низовий реки: – Ты. Два. Иди домой. Быстро.
До Олькши дошло. Он наконец вынул обучь из самострельного стремени и обернулся в поисках снегоступов.
– Стрелу отдай, – потребовал охотник.
Олькша вновь заморгал глазами. Чтобы не злить олонь, Волькша вытащил из самострельного приклада стрелу и с любопытством уставился на ее наконечник. Он был сделан из тонкого как игла осколка какого-то черного камня. Волькша не поленился и снял рукавицу. Наконечник оказался острее всего, что парнишке доводилось трогать в жизни. Капля крови немедленно проступила на месте укола.
– Ну, кидай же, – поторопил его владелец стрелы.
– Это что? – спросил Волькша указывая на наконечник.
Лучник назвал камень по-карельски, но прозвучавшее слово не прибавило ясности.
Притязатели на шкуру убитого рыся стояли шагах двадцати-двадцати пяти друг от друга. Низкое солнце светило приятелям в лицо, так что им все время приходилось щуриться, чтобы смотреть на стрелка. Брошенная Волькшей стрела упала возле самых ног охотника. Он нагнулся за ней и случайно сбил луком треух с головы.
Позже вспоминая этот день, Годинович не мог решить какой миг потряс его больше: когда из ниоткуда возник чудо-охотник, или когда с него свалилась шапка, и под кудлатым волчьим треухом обнаружились ярко-желтые, как весенний одуванчик, девчоночьи косички. Сомнений быть не могло. Ни один варяг, будь то свей, норманн или данн никогда не накручивал из своих кос барашков на висках. Так ходили только водьские или весьские «соплюхи», как пренебрежительно называл Олькша молоденьких девушек.
– Да ты что – девка??? – завопил верзила.
Но вскинутый лук тут же отрезвил его. Теперь, когда шапка больше не скрывала лица, парни разглядели и алые с мороза щеки девчонки, и огромные серые глазищи, а в них ни тени страха или сомнения. Олоньская «белка» пристрелит любого «хорька-барсука» и даже не охнет.
– Это как же… это как же… девка… рысь отняла… два опоясных ножа… – хрипел Олькша, точно схваченный петлей за шею.
– Но ведь она же его и убила, – шептал за его спиной Волькша, стараясь утащить приятеля прочь. Видение золотоволосой лучницы казалось ему чем-то сказочным. Отец рассказывал, что венеды, живущие за Давной-рекой, верят в Девану-деву, которая посылает удачу в охоте. Может быть, это никакая не олонь, а та самая прекрасная охотница повстречалась им. И что с того, что она говорит по-карельски. От этого она не перестает быть повелительницей сил, с которыми лучше не ссориться.
– Ну, убила, – кипятился Олькша: – Мы ж его первым заметили.
– Ой, не думаю, – возражал ему голос из-за спины: – Люта-то я увидел, а вот не подкрадывается ли кто к нему, даже не посмотрел. Пойдем отсюда. А? Ну, ее эту бешенную олонь. Нам еще барсучью нору раскапывать. А? Пошли. Пошли.
Пятится по глубокому снегу без снегоступов – затея не самая умная. Но ведь как-то надо было показать деве-охотнице, что на ее добычу никто не посягает. Любая оплошность могла стоить им жизни. Особенно Олькше.
И это едва не произошло. Когда Рыжий Лют оступился и бухнулся в снег, подминая под себя Волькшу, олоньская девчонка залилась смехом. Олькша вспыхнул, как пук соломы. Он вскочил на ноги и, мыча, точно ополоумевший зубр, бросился на хохотушку. Стрела сбила с него меховую шапку, но мороз не сразу прихватил его за мясистые уши. Пока девушка накладывала стрелу на тетиву, Олькша успел сделать еще три прыжка по глубокому снегу и выхватить отцовский опоясный нож, который вполне мог сойти за короткий меч. Волькша в ужасе зажмурился, не в силах смотреть на то, как охотничья стрела хищно выискивает на тулове буйного венеда наиболее уязвимое место.
– Ах ты, погань чухонская, – вопил Олькша: – Я тебе покажу, как надо мной потешаться!
Его крик оборвался на полуслове. За мгновение до этого раздался внятный звук пробиваемой кости. Волькша не сомневался, что это стрела с каменным наконечником расколола конопатый лоб приятеля. Скрипнул под тяжестью Ольгшиного тела снег. Следующая стрела вот-вот должна была вонзиться Годиновиёу между ребер или выбить зажмуренный глаз. Страх стучал у Годиновича в висках. Долго. Слишком долго. Так долго, что Волкан, наверное, даже обрадовался бы, нырнув, наконец, в полынью жгучей, но окончательной боли.
Но охотница почему-то не торопилась спускать натянутую тетиву.
– Ну, что же ты? – спросил Волькша по-карельски.
Ответа не последовало.
Когда на смену красной, пульсирующей темноте закрытых век, в глаза Волькши проник свет низкого солнца, снег показался ему белее белого, а небо голубее голубого.
Однако больше, чем отсрочке собственной смерти, он удивился тому, что шагах в шести от олоньской лучницы на снегу сидел Олькша. Не лежал с пробитой башкой, а именно сидел, точно застигнутый врасплох каким-то невероятным прозрением или откровением.
– Что здесь произошло? – спросил Волькша у девушки.
В ответ Олькша показал ему опоясный нож своего отца. Точнее не сам нож, а его роговую рукоять, расколотую стрелой надвое. Сама стрела со сломанным наконечником валялась рядом. Такое жесткое предупреждение отрезвит всякого. Даже берсерка.
– Почему? – в третий раз задал вопрос Волькша.
– Почему, что? – переспросила олоньская девушка.
– Почему ты его не убила?
– Если тебе это надо, убей его сам, – язвительно ответила она.
– Нет, я этого не хочу, но я… мне бы хотелось узнать, почему ты оставила ему жизнь? – Волькше редко доводилось разговаривать на языке карел и потому его корявые речи вызывали у девушки улыбку.
– Убить венеда – это как убить медведя, только наоборот, – последовал странный ответ.
– Почему?
– Как много у тебя вопросов, – усмехнулась лучница.
– Почему, убить венеда – это как убить медведя, только наоборот? – не унимался Волькша. Его страх перед невероятными способностями охотницы превратился в свою противоположность. Волькше хотелось говорить и говорить с Деваной-девой. Спрашивать ее об всем на свете. О наконечниках и оперении ее стрел. О дереве, из которого сделан ее лук. Да мало ли еще о чем.
– Разве венеды не верят, что целясь в медведя, можно убить лесного Властелина?
Все-таки дикие они, эти карелы, – подумал Волькша. Убить медведя для венеда – это подвиг. Главное не спутать обыкновенного лежебоку с Бером. Вот его смерть действительно может разозлить Святобора, поскольку тот является его слугой, а порой и обликом. Но отличить Бера от медведя может даже малолетка.
– Целиться в медведя даже из самострела может только человек, который никогда не видел его ярости, – сказал Волькша в точности как его отец, когда делился охотничьим опытом: – его надо ловить в яму, а там уже забивать кольями.
– То-то у венедов на торжище самые драные медвежьи шкуры. Ну, прямо дырка на дырке, – опять съязвила девушка: – Медведя в яму ловит тот, кто не знает, как убить его с одной стрелы.
Волькша потупился. В словах олонецкой охотницы не было оскорбления, а лишь вопиющая истина. Никто в Ладони не мог похвастаться тем, что способен стрелять хотя бы вполовину так метко, как эта девушка. Пожалуй, ей и вправду под силу завалить косолапого с одного выстрела.
– Так почему же убить венеда – это как убить медведя, только наоборот? – повторил Волькша свой вопрос.
– Неужели ты такой тупой? – спросила девушка: – Ну ладно. Слушай. Когда ты убиваешь медведя, то рискуешь потерять благорасположение лесного духа и больше никогда не войти в лес. А убив венеда – рискуешь больше никогда не выйти из леса.
– Ясно, – буркнул Волькша. Слово «тупой» – изрядно его обидело, но в том, что сказала лесная дева, опять была горькая правда. Никто во всей Гардарике и Ингрии не мстил за своих убитых родичей так яростно, как венеды. Особенно Ильменьские словены. За одного сродника они могли выжечь целое подворье вместе с родом обидчика до седьмого колена.
– Ну, раз ясно, так и идите отсюда пока на своих ногах, – без особый угрозы сказала олоньская охотница: – Хватит болтать, а то и под вьюгу не долго попасть.
– Какую вьюгу? – спросил Волькша, оглядывая чистый как родниковая вода горизонт.
Вопрос остался без ответа.
Девушка достала из-за спины карельские снегоступы, – курносые досочки с петлями для ног, длинной в полтора локтя и шириной в две ладони, – встала на них и заскользила к своей добыче. Тушку рыси она закинула на плечи наподобие воротника и покатила по глубокому снегу в лес.
– Как тебя зовут? – вдруг громко крикнул Олькша, до этого неподвижно торчавший из снега как трухлявый пень. Крикнул на почти правильном карельском наречии.
– Кайя, – отозвалась заснеженная лесная чаща: – Только не вздумай меня искать. Все равно не найдешь.
«И с чего она решила, будто Олькша намерен ее искать?» – подумал Волкан. Но когда он встретился глазами с приятелем, то был готов рассмеяться во все горло. Рыжий Лют выглядел, как дитятя, которого мамка первый раз оставила на краю поля, чтобы идти дергать лен или резать жито. Олькша, только что не плакал и не тянул ручонки туда, где скрылась Кайя.
– Ты чего? – спросил Волькша.
– А ничего! – ответил гроза всего Приладожского молодняка: – Найду – убью!
«Ой, сдается мне, – не убьешь», – едва не ляпнул Волькша, но сообразил, что гнев Олькши может перекинуться на него, и промолчал.