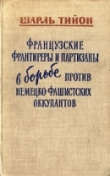Текст книги "Немая баррикада"
Автор книги: Ян Дрда
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Ненависть
Наступали сумерки. На заполнивших рыночную площадь каруселях, над качелями и в тирах зажигались разноцветные огни. Либенские парни – «ребята что надо», как они гордо именовали себя на местном жаргоне, раскачивали свои лодочки до самого парусинового тента не столько для удовольствия девчат, сколько назло немецким солдатам, веснушчатым, кривоногим и взъерошенным гадам, согнанным из горных деревень и предназначенным для затычки тех брешей, которые пробила в их армии одна русская зима. «Ах, если бы можно было смазать их хоть раз по зубам, изувечить где-нибудь за утлом», – думал каждый из этих ребят, поглядывая на серо-зеленых насекомых в военной форме, расползавшихся по рыночной площади между палатками. И это мучительное, гложущее бессилие подстрекало их хотя бы покуражиться на качелях, хоть показать этим горным волам, на что способен настоящий пражский молодчик, хоть наступить им на сапог или незаметно подставить ножку на ступеньке у карусели. Тупо-самоуверенные, ничего не понимающие немцы бродили в толпе врагов, безуспешно заговаривая с чешскими девушками на своем гортанном, похожем на воронье карканье, языке. Девушки отворачивались от них с явной насмешкой. Наконец немцы потянулись к тиру, к ружьям, к мишеням, изображающим человеческие фигуры, к примитивному и близкому им подобию убийства. Здесь они почувствовали под ногами твердую почву, здесь им было чем похвастаться.
– Schau, Ferdl, ein echter Bolschewist! [3]3
Смотри, Фердль, настоящий большевик! (Немецк.)
[Закрыть]– указывали они на карикатурные фигурки сапожников, на косоглазых китайцев и неуклюжих охотников и с наивным бахвальством целились в широкие мишени, гогоча от восторга, когда им удавалось повалить какую-нибудь фигурку. Цели были легкие, простые, почти доступные для кретинов. Шофер Лойза Мразек, в прошлом взводный, с двумя значками на груди за стрельбу, обозлился и, не стерпев, оттолкнул зевак, подтянул штаны и бросил на прилавок две коруны.
– Хозяин, вон ту штучку!
И он показал этим баранам, как можно без промаха стрелять в легкие шарики из бузины, пляшущие в струе фонтана, как можно разбить качающийся осколок зеркала, когда цель мелькает, как солнечный зайчик. Потом бросил на прилавок разряженное ружье.
Какая-то девушка язвительно и звонко расхохоталась, ее поддержали два мужских баса, кто-то незнакомый потрепал Лойзу по плечу. Солдаты растерянно оглядывались на толпу, почувствовав, наконец, что она, как электричеством, насыщена враждой.
– Такие удальцы… а стрелять боялись! – выкрикнула вдруг старуха в платке и, словно испугавшись своих мятежных слов, нырнула куда-то в глубь толпы, загудевшей тайным одобрением.
– Не бойся, матушка, мы еще постреляем!
Едва только эти слова вырвались из уст Лойзы, как он уже прикусил язык и пожалел о том, что сказал. Возле себя он заметил некрасивого худого человека в коротком зимнем пальто, черном потертом котелке и с холодными, как сталь, глазами.
«Чорт возьми, я попал в лапы к шпику», – мелькнуло в голове Лойзы, и он ощутил на всем теле как бы прикосновение колючих глаз.
Еще можно было успеть удрать. Темные перекрестки, вливающихся на площадь уличек, укромные закоулки, знакомые по мальчишеским играм, так и манили Лойзу выкинуть этот трюк. И если бы за ним вместе с этим мерзавцем погналось все стадо топчущихся кругом глупых баранов, Лойза наверняка навострил бы лыжи и через две секунды скатился бы к реке. Но какое-то злобное упрямство неожиданно помешало ему бежать. Ведь кроме этих холодных, пронизывающих его насквозь серых глаз, он ощущает на себе десятки других, восторженных, одобряющих взглядов. Поэтому он отходит потихоньку, как можно медленнее, хотя и чувствует за своей спиной шпика, ходя даже в этом гуле распознает шелест его шагов. – Уже шпик идет по левую его руку, уже Лойза чувствует, что беда приближается. Вдруг этот молодчик дергает Лойзу за рукав.
– Ну, чего еще! – рявкает Лойза. Он знает, что зрители – на его стороне. А прямо перед собой видит иссиня-бледное, худое лицо, глубокие морщины, жгучий и пронзительный взгляд.
– Разрешите на минутку… – и котелок старается итти в ногу с Лойзой, крепко держа его за локоть. Лойза легкомысленно упускает последнюю возможность к бегству, не наносит удара заложенной в карман правой рукой, не прыгает в темноту, в толпу. Он, как ягненок, идет с этим субъектом к концу рынка, скрывается с глаз своих зрителей, словно нарочно лезет в неведомую ловушку. Останавливаются они, только очутившись наедине.
– Вы хорошо стреляли…
– Ну и дальше?
– У вас, наверное… воинская выучка…
– Вы шпик? – Лойза решил вести дело начистоту.
Глаза человека расширяются от удивления перед незнакомым словом. Потом он приподнимает котелок.
– Бухгалтер Бабанек. Я, знаете, хотел вас просить, не будете ли вы так любезны… теория стрельбы проста. Она сводится на практике к трем вещам: правильному глазомеру, правильному прицелу и попаданию… в цель. Я уже все продумал… но, конечно, на практике… я бы никогда в жизни…
На следующий вечер они стреляли вместе в тире и истратили пятьдесят корун.
Я, как живого, вижу перед собой господина бухгалтера Бабанка, печального, точно птица, вещающая смерть. Он бродит по Праге с рынка на рынок, от тира к тиру. Зимой, когда трещит мороз и Прага занесена снегом, он трется в пассажах у спортивных тиров, поглядывает своими холодными серыми глазами на витрины, впивается взглядом в черно-белые мишени. Уже прошло то время, когда он искал одиночества, когда предпочитал стрелять без зрителей, застенчиво откладывая свой котелок на пустой прилавок. Теперь он ждет, ждет…
В пассажах шляются кучки немецких солдат. Они топают по каменным плитам сапогами, воняющими потом и телячьей кожей, лезут к каждой витрине, тратят свои марки, жадно раскупая дрянные гипсовые фигурки, такие бесвкусные, словно мастер, сделавший их, сознательно мстил покупателю. Увидев спортивный тир, они не могут пройти мимо. Может быть, они хотят упражняться в убийстве здесь, в тепле и покое, а может быть, они жаждут стать собственниками уродливых кукол и грошовых изделий из стекла, которые достаются выигравшему. Вчетвером, впятером, вшестером валят они в тир, опытным глазом оглядывают ружья, стреляют в цель цветными стрелками. Бухгалтер Бабанек прилипает к оконному стеклу, оно оттаивает под его дыханием. Бабанек готовится к тому, в чем он столько раз упражнялся. В самый разгар забавы он входит в тир с уверенностью комика, умеющего с первой же минуты развеселить свою публику.
Бараны всегда попадают впросак. Они хохочут при мысли о том, как этот паршивый штатский, эта канцелярская крыса возьмет ружье в руки. Они думают, что он по глупости ошибся дверью, созывают свое баранье стадо к барьеру, принуждают бухгалтера взять в руки ружье, обещают заплатить за выстрел. Но Бабанек, твердый и холодный, как сталь на морозе, делает отрицательный жест: он сам за себя заплатит. С уверенностью специалиста берет он ружье и точно, без промаха, как машина, не волнуясь и не колеблясь, всаживает все стрелы в черные центры мишеней. Затем кладет разряженное ружье, берет с прилавка свой котелок и уходит. Его колючие, холодные, серые глаза, не моргая, оглядывают лица потрясенных немцев. Представление окончено. О чем думает при этом бухгалтер Бабанек?
Десятого мая, в то радостное утро, когда русские танки положили конец пражской драме и не дали ей перерасти в трагедию подавленного восстания, я снова увидел бухгалтера Бабанка.
Он сидел на маленькой школьной парте у одной из баррикад предместья, где смерть косила людей без передышки в течение трех дней. Глядел куда-то в пространство своими серыми, слегка утомленными глазами. На темнозеленой доске школьной парты лежала немецкая винтовка.
И здесь к нему подошел один из тех свежеиспеченных защитников баррикады, только теперь пришедших сюда, чтобы забрать отсюда оружие как свидетельство своей храбрости. Он увидел Бабанка в помятом котелке, смешную фигуру беспомощного чинуши, который попал на баррикаду по какому-то глупому недоразумению.
– Поглядите-ка на этого хрыча, очень ему нужно оружие! – закричал новоявленный защитник баррикады.
Желая доказать свою силу и превосходство, он схватил ружье Бабанка и с видом знатока щелкнул курком.
Высокий худощавый трамвайщик, сидевший на мостовой с винтовкой в руках, медленно распрямился, будто недовольный тем, что его обеспокоили, и изо всей силы прикладом стукнул парня по руке.
– Убирайся отсюда, паршивец! – крикнул он. – Это наш лучший стрелок!
Он показал грязным пальцем на черную крышу опрокинутого трамвая, лежащего между камнями баррикады. На ней мелом был нанесен ряд черточек, какие ставят трактирщики на доске должников. Там значилось:
«Баб.: I I I I I I I I I I I I I I I».
Кто то из зрителей с завистью крикнул: «Пятнадцать!» Бухгалтер Бабанек с трудом нагнулся за ружьем, поднял его с земли, обтер рукою дерево и металл и, все так же тоскливо глядя в пространство, тихо сказал:
– Пятнадцать, – что такое пятнадцать! Мальчика моего застрелили из-за Гейдриха… И пятнадцати тысяч было бы мало!
И его страшные от неудовлетворенной ненависти, измученные глаза – две льдинки на поблекшем лице – остановились на пятнадцати грязно-белых полосках.
Неизвестный
Это был труп человека лет тридцати, с короткими светлыми волосами. Он лежал в открытом некрашеном гробу и словно посмеивался над смертью. Под расстегнутой блузой железнодорожника виднелась полосатая синебелая тельняшка, простреленная пулей около самого сердца.
Кто-то положил ему на грудь ветку голубоватой сирени.
Сотни людей с лихорадочно горящими глазами проходили мимо этого гроба, разыскивая своих потерянных родственников и скользя взглядом по незнакомому лицу.
– Напишите: «Неизвестный железнодорожник», – решили потом, когда мимо гроба прошли служащие всех пражских вокзалов.
Никто из них никогда не видел этого человека. У него не было документов. В его карманах нашли ломоть черствого хлеба и семь кусков сахару. Он лежит в братской могиле защитников баррикад, а на стене дома, у которого он пал, висит на гвозде его синяя фуражка, букетик роз и под стеклом в рамке надпись:
На этом месте 5 мая в бою с ордами эсесовцев героически погиб неизвестный железнодорожник.
Когда его принесли в субботу на перевязочный пункт, с ним не пришлось возиться. «Убит наповал», – сказал осмотревший его врач.
А юноша в вельветовых брюках и немецком шлеме, раскрашенном красным и белым, державший носилки, добавил:
– Я сам видел немца, который выстрелил в него в упор. Он свалился без стона. Ч…чертовски не повезло человеку…
Вода этой чужой, безыменной реки тихо билась в стенку баржи, как и вчера, как и позавчера. Для Григория она была секундомером. Глядя сквозь щели растрескавшихся досок, укрывавших его от дождей и опасностей, он видел только серо-зеленую рябь от берега до берега. Вода текла, как текло время, которое он проводил в дощатой, пахнувшей могильной плесенью старой лачужке на барже, где пол прогибался под ногами, а давно выбитые окна были заколочены раскрашенной жестью старых магазинных реклам.
В это утро Григорий сделал шестнадцатую зарубку на краю деревянной койки. Под ее сырым сенником он прятал шинель, суконную красноармейскую шапку и обветшавшую красноармейскую гимнастерку, заплатанную десятью сортами лоскутов, скрепленную по разошедшимся швам кусками ржавой проволоки. Пожалуй, было бы разумнее привязать ко всему этому камень и спустить на дно реки, чтобы скрыть последние улики. Пожалуй, с него хватило бы и сине-белой полосатой матросской тельняшки, в которой моряки идут навстречу смерти.
Но разве эта одежда не осталась единственной памятью, единственной гордостью моряка Григория? Без конца начищал он песком пять сохранившихся металлических пуговиц, пока звезды на них не начинали блестеть, как во время праздничного парада.
– Товарищ Маршал, разрешите доложить: явился Якимчук Григорий, моряк Черноморского флота, четырежды ранен, трижды награжден. Мина, подлая, швырнула меня на землю, чуть душа с телом не рассталась. Но моряцкая душа цепкая. Чуть не вылетела из тела, чуть не попал я смерти в лапы. Но не она поймала меня, поймали фрицы. Взяли лежащего без памяти на земле. Такова уж моя доля: дважды тонул на миноносце, но море не приняло – выплюнуло. А на суше попался им, чертям, как овца. Подлез к немецкой мине, как раз когда она вздумала взорваться. Кровь текла у меня из ушей, язык совсем отнялся. Все силы потерял, плетусь среди товарищей как привидение. Босой – по снегу, по льду. Сапоги сняли, дьяволы, ремнем били по лицу, по спине, по чему попало. Чего бьешь, чорт? Тебе бы по морде дать! Но руки словно чужие, ноги заплетаются, думаю: упаду, лучше бы мне умереть на месте. А голова, проклятая, не хочет. Протестует: зачем тебе дохнуть, как паршивому псу? Собери силы, подтянись, не сдавайся, придет время – мы им отплатим. Славный командир моя голова, славный политрук – не позволяет отчаиваться. Два года, день за днем, отдает все те же приказы: выдержать, не раскисать. Траву жри, гнилую картошку глотай, кору с деревьев обгрызай, только выдержи, дождись, пока пробьет наш час. Такая уж голова у меня, товарищ Маршал, умеет дать правильный приказ.
Все вновь и вновь припоминает Григорий те страшные два года. Роковые песочные часы, каждая секунда которых отмечена смертью, а минуты, как бешеные жеребцы, скачут через трупы убитых. Вся немецкая земля страшна, а всего страшнее на ней места, оцепленные колючей проволокой.
Поврежденный миной слух вернулся к Григорию только для того, чтобы он мог слышать стоны истязаемых. Но губы, постоянно сведенные судорогой проклятий оставались немы. Сколько раз до крови кусал он свой парализованный язык, сколько раз, на грани отчаяния, готов был пустить в ход кулаки, нанести хоть один удар, пускай ценой смерти! Но рассудительно мыслящий мозг, хладнокровный командир-разум всегда в последнюю минуту успевал задержать руку: стоит ли ради одного удара!
Так Григорий дождался того дня, когда вдалеке загрохотали пушки и побледневшие фрицы торопливо принялись загонять поредевшие толпы пленников в вагоны для скота. День и ночь, свет и тьма, день и ночь, свет и тьма – однообразный счет, когда часы, десятикратно удлиненные чувством голода, тянутся до бесконечности. Колеса, точно погребальные барабаны, отстукивают свою монотонную дробь, притупляя все чувства. Ни у кого уже нет сил для сопротивления. Изнемогшие от жажды, товарищи умирают один за другим, и их трупы, с отощавшими лицами, с трагическим оскалом зубов, коченеют на полу вагона. Только сосед Григория, артиллерист и астроном, изучает во время кратких ночных остановок созвездия весеннего неба. Он стоит на плечах у Григория, прижавшись лицом к оконной решетке, и по положению созвездий определяет направление их пути. «На юг, на юг», – говорит он в первую и во вторую ночь. На третью ночь у него уже нет сил доковылять до окошка. «Воды, воды…» – стонет он в ухо Григорию. На пятую ночь он умирает.
Григорий Якимчук, последний уцелевший на страшном пиру смерти, остался совсем один. Язык его опух от жажды, пелена обморока заволокла глаза. Он уже не вспоминал о родной Украине, золотой, как медовые соты, не думал о желтеющей пшенице, о дышащих ароматом ранней осени яблоках, о голубом небе над гаванью, о пленительной красе отчизны. А раньше он плакал от тоски по родине. Сейчас он мысленно тянулся ослабевшими пальцами только к холоду железа, крепкого, как ненависть, думал только о своем автомате, выпавшем из рук, когда взорвалась мина.
Пронзительный вой сирены прорвал пелену его переходившего в вечность сна. Их поезд – вереница братских могил – стоит в неизвестной стране, в неизвестное время дня, а над ним гудят моторы воздушных флотилий. Они одни царят в страшной тишине, когда умолкают сирены. Григорий – обломок кораблекрушения в безбрежном море тишины – ждет сигнала – разрыва бомб. Его не слышно.
Тишина звучит на мерной, высокой ноте. Только вдруг где-то близко хрустнул песок, словно под легкими человеческими шагами. А потом кто-то кладет руку на железную скобу, запирающую двери вагона. Весенний день смотрит в приоткрывшуюся перед Григорием щель. День. Небо. Воздух. Словно во сне, видит Григорий чужого человека. Небольшой, смуглый человек с закопченным лицом заглядывает в вагон. Человек. Не фриц. Его глаза наполняются ужасом при виде этого кладбища. Потом он замечает Григория. Единственного оставшегося в живых. Упирается плечом в дверь, расширяет щель прохода. Не говорит ни слова. Только одним торжественным, безмолвным жестом поднимает флажок, который держал подмышкой, и показывает его цвет – красный.
Такова история бегства матроса Григория.
Во время воздушной тревоги, когда фрицы залезли в бомбоубежище, на незнакомой станции в незнакомом городе Григорий бежит между грудами угля и пепла в ту сторону, куда указал человек с флажком. Спотыкается на стрелках, перелезает дощатый забор, теряется в лабиринте улиц на окраине. Впивает ноздрями запах речного ила. Вдруг кривая уличка выводит его к реке. Грязная, мутная, с жирными пятнами на поверхности, эта река утоляет жажду Григория. До полуночи он скрывается под опрокинутой лодкой. Когда показался узкий, как кошачий глаз, серп убывающего месяца, Григорий снова через силу пустился в путь. Он перешел мост, чувствуя, что отсюда ближе к окраине города. Но не успел он пройти берегом двести метров вверх по течению, как ноги его подкосились от слабости. Следуя инстинкту животного, ищущего перед смертью одиночества, он дополз до старой хибарки на барже. Последним усилием вытащил ветхий засов из прогнившего дерева, нащупал койку с матрацем и, уже не думая об окружающей его опасности, погрузился в сон, близкий к обмороку.
Задумчиво глядит Григорий на чужой, безыменный город, на небольшую часть его незнакомого лица, проглядывающую в щели между досками баржи. Справа торчат четыре трубы невидимой фабрики, и острия их раздирают дымный покров, нависший над городом: слева, там, куда заплывают длинные баржи, окрашенные в черное и влекомые против течения серыми буксирными пароходиками, поднимаются стальные щупальцы подъемных кранов. А между ними, на противоположном берегу, мимо темных деревянных складов с широкими воротами, двигаются составы низеньких товарных вагонов. Фигурки сцепщиков бегают от вагона к вагону и сигнализируют свистками, звук которых долетает за реку, как тонкий комариный писк. Ясное дело, они работают на немцев!
С палубы баржи, где устроился Григорий, нетрудно было бы прервать возню врага одной пулеметной очередью, если бы…
Нет, не так это просто. Григорий ненавидел эти чужие вагоны, но не мог ненавидеть чужих людей вокруг них. Один из этих людей открыл для него крышку гроба – дверь вагона, и в его лице Григорий заметил, кроме ужаса перед мертвецами, еще что-то, давно не виданное. Тот горящий в душе свет, который он привык чувствовать дома, на корабле и даже у друзей в лагере, прежде чем голод и смерть не погасили его. Свет, идущий от человека к человеку, тот свет, что совсем угас в немцах. Кто бы ни был этот человек, немцем он быть не мог.
Не мог быть им и тот, другой, также спасший Григория от смерти. После бегства Григорий лежал сутки на сыром матраце, трясясь от голода и лихорадки, – то мучился без сна, то впадал в еще более мучительное забытье, когда его преследовали призраки чудовищ, из когтей которых он только что вырвался. Горло у него ссохлось от жажды, а он слышал в тишине, как плещется о борт баржи вода всего в двух шагах от его жаждущих уст. Ах, если бы среди дня спустилась ночь, чтобы он мог выползти на палубу, омочить пальцы, набрать в пригоршню хотя бы глоток воды. Полдня он боролся с искушением, ожидая сумерек, глядя в щель на весеннее солнце, стоящее, как ему казалось, без движения на предвечернем небе. Однако дотерпел до заката.
Но вот настали долгие весенние сумерки, когда уходящий свет борется за каждое мгновение, и тут он не устоял. Подполз на четвереньках к краю палубы, нагнулся над темнеющей водой, глубоко погрузил в нее руки и жадно, глоток за глотком, стал поглощать речную грязь, пока не утолил жажды. А когда он захотел подняться, у него так закружилась голова, что ему с трудом удалось подтянуться до края баржи, и он рухнул без сил.
В нескольких шагах от него на набережной стоял чужой человек, бог знает откуда так внезапно появившийся. Он испуганно наблюдал за тщетной борьбой Григория с немощным телом. Потом робко огляделся, словно боялся свидетелей. Убедись, что никого нет, сбежал по склону, одним прыжком очутился на палубе, схватил беспомощное тело и оттащил его в сторожку. Уложив Григория на койку, человек поискал в полутьме глазами, чем бы прикрыть больного. На мгновение руки его опустились в бессильи, он был потрясен пустотой этой дыры, где не было ничего, кроме матраца.
Широко раскрытые глаза Григория – единственное, чем он еще мог владеть, – остановились на этом человеке, от которого он был в полной зависимости. Они искали ответа на его лице, смутно вырисовывающемся в сумерках. Пойдет и выдаст? Но когда они встретились с глубоко запавшими и затуманенными внезапной заботой глазами того, другого, Григорий ясно почувствовал: нет, этот не выдаст. В его лице также проступал внутренний свет. Тот, без которого человек становится зверем.
Между ними не было сказано ни слова. Так же, как и с тем, с первым. Человек внезапно отвернулся, он, очевидно, принял какое-то решение или понял, что бессилен оказать помощь, затем он вышел на палубу, и Григорий услышал щелканье запора в дверях. Заперт. Но он не испугался, лицо незнакомца пробудило в нем чувство уверенности.
Утром он нашел в ногах своей койки сверток. В свертке были: темносиний костюм, рубашка, ботинки и носки, хлеб, соль, нож, бутылка с чаем, мыло и чашка, куски сахару. Фуражка, над козырьком которой пришито крылатое колесо. Возможно, это был один из тех, кто сцепляет за рекой немецкие вагоны. Возможно, это он и свистит, подавая сигналы паровозам.
Человек стал приходить сюда через день на рассвете. Тихо приоткроет дверь, положит в ноги сверток с едой и уходит, не сказав ни слова, думая, что Григорий спит. Григорий наблюдает за ним сквозь полузакрытые веки. Что бы он дал за то, чтобы его парализованный язык ожил вдруг хотя на часок и он мог бы сказать: «Подожди, товарищ! Потолкуем. Знаешь, по-человечески, по душам, как говорится у нас». Он задыхается от немой тоски, снова и снова продумывает этот разговор. «Кто же вы, странные, нефрицевские люди? Как называется ваш город?» Но всякий раз незнакомец, чью форму он носит, уходит молча. Потом, в одиночестве, Григорий тщетно старается разгадать эту мудреную загадку.
«Вот видишь, снова маневрируют. Вагон за вагоном перевозят грузы к пристани. Грузы для немцев. Для их войны. Иметь бы здесь под рукой одну пулеметную ленту, один раз нажать крючок.
Нет, я не мог бы стрелять в вас, темносиние люди за рекой! Не мог бы. Я не военная машина, как фрицы. Я должен знать, зачем и почему. У нас каждый человек знает – они вторглись в нашу мирную жизнь, перевернули все вверх дном, сожгли деревни. Разрушили города. А с людьми что сделали? Лучше не спрашивай. Черти проклятые, они и деревьям не дают жить! Спиливают яблони, рубят штыком молодые абрикосовые деревца. Таков фашизм: уничтожает, убивает и человека, и скот, и деревья. Потому, товарищи, мы и бьем фрицев! А вы там, за рекой, как ни в чем не бывало грузите для них вагоны. Что же вы, не знаете их? Или боитесь?»
Уже в сотый раз обращается Григорий к незнакомому городу с этим вопросом. С вопросом, с упреком – с упреком, из-за которого синяя форма жжет ему тело. День за днем он собирается с силами для бегства. На восток.
К своим. К бесстрашным.
Он не знает о том, что и в этом городе бьет урочный час.
Паровоз остановился. Синие ушли с берега. Замолкли сигналы свистков; глядя в щель, Григорий видит только вагоны, подъемные краны, баржи, трубы, торчащие, как ряд штыков. Перед ним зрелище мертвых вещей, которые могут служить кому угодно, а вокруг серые дали пасмурного утра. Он отворачивается от щели, утомленный таким однообразием. Но как раз в этот момент раздаются три ружейных выстрела, Там, за рекой. На пристани. Григорий подскакивает к ближайшей щели. Кто подал этот сигнал надежды? Ему ничего не видно. Он высаживает кулаком прибитую к окну жесть. Осторожность уже ни к чему, раз начали стрелять. Только теперь на сером фоне обнаруживается невидимая до тех пор жизнь.
По крыше темного здания, там, за рекой, бежит человек. Свой человек. Синий. Он что-то держит в поднятых руках. Сердце Григория бешено колотится. Ага, город отвечает! Синие отвечают! Над вагонами и подъемными кранами, над скопищем складов и фабрик, на высоком шесте вьется красное знамя, водруженное рукой синего.
Загадка разрешена. Григорию уже все ясно. Это наш город. Город тех, кто не покоряется, И какое бы имя ни носил он, сердце Григория тянется навстречу ему. Он сразу отгоняет мысль о бегстве, хватает синюю фуражку, прыгает на берег и бежит к мосту. Он уже не один. Многие бегут в том же направлении. Мужчины и подростки. У моста отдельные группы сливаются в толпу. Без оружия. С топорами, с ломами, с камнями или с голыми руками. Но бегут так, словно все вооружены штыками.
За мостом уже стреляют. Пули отскакивают от мостовой, разбивают стекла. Людской поток разливается по домам, по дворам, через сады обтекает то место, откуда идет стрельба, через стены, через заборы, по берегу реки просачивается в тыл фрицам. Безоружные вырывают по пути каменные плитки из мостовой. Петля затягивается.
Григорий не думает об укрытии, не думает о тактике. Он бежит по улице навстречу выстрелам. От дома к дому перескакивают фигуры стрелков. Что они, нападают? Отступают? На мостовую падают человеческие тела с распростертыми руками. Человек, бегущий рядом с Григорием, хватает его за локоть и быстро тащит в сторону, под защиту домов. И сразу же пули начинают щелкать в стены. Немецкий пулемет крошит кирпичи и известку.
Григорий прерывисто дышит, стоя рядом с незнакомым товарищем. Он слышит его слова, непонятные, но все же такие близкие. Многие из этих слов он мог бы понять, если бы было время. Но слух и взгляд Григория прикованы к тому, что происходит на улице. Отступают синие и те, кто в гражданском платье, – рабочие. Наши. Укрываясь в подъездах, они стреляют в ту сторону, откуда прибежали. Из винтовок. Или из пистолетов. Один из них, скошенный пулеметной очередью, падает на тротуар почти около Григория. Григорий с усилием вырывает винтовку из стиснутых рук мертвеца и при этом чувствует еще тепло его пальцев на дереве приклада.
Неожиданно по противоположному тротуару пробегает немецкий автоматчик, эсесовец в пятнистом плаще. Он с явным изумлением замечает на ходу Григория, злобно вздрагивает всем телом и пытается повернуть к нему дуло автомата. Крик смертельного ужаса вырывается из уст незнакомого товарища, стоящего рядом с Григорием. Кто скорее? Григорий стреляет, пуля попадает эсесовцу в шею. С гримасой невыразимого изумления, сделав гротескный пируэт, он, как подкошенный, валится на тротуар. Григорий бросается к его оружию.
Холод железа, крепкого, как ненависть, – мечта самых горьких в жизни Григория дней уже стала действительностью: обеими руками держит он ствол автомата. Лежа на тротуаре позади убитого немца, Григорий одним взглядом охватывает улицу. Наши, бежавшие через сады и дворы, обошли немцев с флангов. Они нападают, швыряя теперь не только камни, плитки мостовой, но и ручные гранаты. Стреляют из окон и ворот. Три мертвых немца лежат на мостовой, совсем близко от Григория. Остальные, перестав быть хозяевами положения, утратили апломб профессиональных убийц и отступают, наталкиваясь на запертые подъезды, а в каждом тупике, куда они забегают, их подкарауливает смерть.
Настало время для контратаки. Григорий Якимчук, как и тогда, первым бросается вперед. Земля гудит у него под ногами. Не мостовая опрятного безыменного города, но измученная родимая земля, наша, наша земля! И повсюду, кругом, за его спиной раздается боевой клич товарищей: старых и молодых, синих железнодорожников, грузчиков с пристани, парней в рабочих куртках Весь город в братском единодушии бежит по приказу Григория. Грозная буря расплаты захлестывает улицу.
Легкая холодная дрожь мгновенно пресекает бег Григория. Словно он налетел лбом на стеклянную стену. Резкий толчок. На миг возникает далекое воспоминание. Мина? Да нет же!
Ведь он бежит все дальше и дальше, радость несет его, легкие ноги уже не касаются земли, а губы навсегда исцелены этим толчком от немоты, и он наконец-то выкрикивает торжествующее победное «ура»!