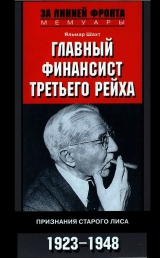
Текст книги "Главный финансист Третьего рейха. Признания старого лиса. 1923-1948"
Автор книги: Яльмар Шахт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Включение Гамбурга в Германский таможенный союз было первым важным политическим событием в моей жизни. Однако для дяди Видинга оно явилось финансовым ударом. Его английские чулки подорожали из-за пошлины. Им пришлось конкурировать с изделиями Саксонии. Тем не менее Видинг безгранично верил в свой британский трикотаж. Он считал трикотажные изделия из Хемница низкокачественной подделкой, но не мог помешать их улучшению с каждым годом и достижению ими в конце концов превосходства в качестве и внешнем виде над английскими товарами. Бизнес Видинга неудержимо катился к разорению. Наконец он решился и уведомил клиентов, что магазин Юлиуса Видинга навсегда закрывается. Он не пожелал приноравливаться к новым методам ведения дела. С этих пор он перебивался своим доходом и принципами – скромное, но спокойное существование.
Мне посчастливилось занять удобное место во время церемонии закладки первого камня в строительство нового порта. Отец одного из моих сверстников был оптовым торговцем мясными изделиями и жил у дороги между внутренней бухтой и таможней канала. С площадки над ступенчатым входом в дом открывался прекрасный вид на сцену действий. Магазин торговца постоянно посещали докеры. Каждый день после полудня, между четырьмя и пятью часами, мясник повязывал вокруг пояса чистый бело-голубой фартук, брал большой поднос с сосисками и нес его клиентам в магазине. Из гостиной мы видели и слышали, как он продает горячие сосиски и шутит на местном наречии с рабочими.
Это был романтический уголок старого Гамбурга, где сходились море и суша. Повсюду причалы, молы, швартовые тумбы, баржи, лодки, корпуса старых кораблей и маленьких колесных пароходов.
15 октября 1888 года император Вильгельм II должен был заложить знаменитый первый камень в угловую башню моста через Зандторкай. Можно представить себе возбуждение четвероклассника в связи со всеми приготовлениями к этому событию. Меня ни в малейшей степени не интересовали постоянные предостережения взрослых относительно гавани. Главным было то, что приезжает настоящий император и я увижу его совсем близко собственными глазами!
За несколько часов до церемонии жители Гамбурга потянулись в направлении Маттентвите и улочек Старого города, чтобы посмотреть, как проедет мимо германский император. Буржуа в темных костюмах вели за руку детей. За ними шли жены с зонтиками.
Наконец мы увидели почетных гостей во фраках и цилиндрах. Издалека слышались приветствия, цокот копыт по Маттентвите. Затем появилась карета с упряжкой из четырех лошадей, в которой сидел 29-летний император в парадной форме. Он кланялся с серьезным видом направо и налево.
Не помню содержания речей в этот полдень. Мое внимание поглотил император, стоящий перед мостом через Зандторкай, выпрямившийся и серьезный. Видимо, его удивили странные названия улиц и причудливый, грубый выговор немецкого языка, которым отличались представители местных властей. На меня произвели сильное впечатление его великолепный мундир и весь внешний вид.
Наконец ораторы стали выражать добрые пожелания. Они подчеркивали важность данного исторического события, не забыли почтить правящую династию, упомянуть старый ганзейский город и многое другое. Кто-то вручил императору молоток. Он взял его, поднял и трижды ударил по камням, которые мастера предварительно установили в башне на мосту.
Эти три удара сохранились в моей памяти на долгие годы. С момента, когда они прозвучали, Гамбург лишился своего права беспошлинной торговли и был включен в более крупный таможенный союз – через восемнадцать лет после войны с Францией, из которой выросла империя.
С этого дня я смотрел на мир другими глазами. Существует большая разница между слухами об императоре и непосредственным лицезрением его во плоти. Власть – пустое слово, пока не увидишь ее конкретное проявление. Таким проявлением был первый камень, заложенный в строительство свободного порта Гамбург. Неожиданно мне открылось значение слова «политика». Я понял, почему люди вроде дяди Видинга волновались, когда обсуждали политику. Я впервые прикоснулся к более широкому миру.
Чтобы понять последующее влияние на Гамбург этого торжества, достаточно лишь проследить историю одной-единственной судоходной компании.
Hamburg-Americanische Paketfahrt AG (для краткости HAPAG), основанной в 1847 году, пришлось уменьшить свой капитал в 1877 году с 22 миллионов 500 тысяч марок до 15 миллионов, перегрузив себя обязательствами в ходе конкуренции с Adler Line. В 1886 году, за два года до торжеств, связанных со свободным портом, пассажирскими перевозками занялся Альберт Баллин. Это был весьма способный человек, сын еврея, агента судоходной компании, занимавшегося заказами на рейсы для эмигрантов. Но даже сам Баллин не смог в одиночку восстановить могущество HAPAG, которого компания достигла в течение предыдущих двадцати четырех лет.
В 1891 году были организованы еженедельные скоростные рейсы HAPAG в Нью-Йорк и введены зимние круизы для туристов. В 1894 году введены в эксплуатацию крупные лайнеры ряда П (все названия этих судов начинались с буквы «П» – «Пруссия», «Персия», «Патриа», «Финикия» (по-немецки Phoenicia), «Палатия»). Эти пароходы строились для перевозки как грузов, так и пассажиров.
В период между 1897 и 1900 годами HAPAG купила линии Гамбург – Калькутта и Гамбург – Кингсин, а также судоходную компанию De Freitas с бразильской линией. В 1900 году был сдан в эксплуатацию новый скоростной лайнер «Дойчланд», развивавший скорость 23,5 узла. К этому добавились в 1905 году грузовые и пассажирские суда класса «Императрица Августа Виктория» (водоизмещением 25 тысяч тонн).
В последние несколько лет перед Первой мировой войной сошли со стапелей один за другим три гиганта класса «Император»: сам «Император», «Фатерланд» и «Бисмарк», каждый водоизмещением более 50 тысяч регистровых тонн.
Число океанских судов одного этого типа возросло с 26 до 194 с ростом общего тоннажа с 71 тысячи до 1 миллиона 370 тысяч. С 500 тысяч кубических метров товаров ежегодные закупки теперь возросли до 8 миллионов 300 тысяч, и вместо 48 тысяч пассажиров в год лайнеры перевозили теперь в целом 463 тысячи. Десятикратный рост.
Я поддерживал знакомство с Альбертом Баллином, который был председателем HAPAG, с 1899 года до конца Первой мировой войны. Через два года после краха Германии он покончил жизнь самоубийством.
Громадный прогресс и рост Гамбурга благодаря включению в рейх вскоре стали очевидны для всех. Внешняя торговля, промышленное развитие и самоуправление стали теперь триединым лозунгом, который превратил ганзейский город на северном берегу Эльбы во второй крупнейший город Германии и один из крупнейших портов мира.
Когда через четыре года фирма Eguitable решила перевести свой офис из ганзейского Гамбурга в имперскую столицу Берлин, мой отец тоже переехал туда.
Это открыло новую главу в нашей жизни. Отцу с матерью пришлось привыкать к совершенно новому образу жизни. Я же решил остаться в Йоханнеуме Гамбурга и с этой целью договориться о питании и проживании в семье одного врача в Веделе, в окрестностях Гамбурга.
Глава 4Холера в Гамбурге
Грузовой фургон с мебелью, кухонными принадлежностями и прочим двинулся с места. Его тащили дюжие першероны серо-стальной масти с забавными пучками волос на копытах и брюхе. Отец, мать и Олаф отбыли поездом Гамбург – Берлин. Брат Эдди изучал медицину в Киле и полностью предался анатомии, веселым компаниям и привлекательным блондинкам. Я остался в Веделе близ Гамбурга.
Каждое утро я ездил поездом в Гамбург – поездка на час с четвертью – и возвращался вечером. Из окон своего купе я видел великолепные виллы в Бланкензее, принадлежавшие разным судовладельцам, и белые паруса яхт, курсирующих по нижней Эльбе.
Эти живописные картины не вызывали у меня восторга из-за хозяйки дома, которую подыскали для меня родители. Она была скрягой, мачехой двум дочерям одного несколько тучного врача, друга моего отца в студенческие годы, жена которого умерла несколько лет назад.
Когда родители переехали в Берлин, они взяли с собой старшую дочь врача, а я остался на попечении его семьи в Веделе, чтобы продолжать учебу в Йоханнеуме. В результате такого обмена отпрысками я подружился с «неродной сестрой», и эта дружба продолжается по сей день.
Врач мне не мешал. Это был добродушный человек, которому не было нужно ничего, кроме прогулок в своей двуколке, запряженной пони. Когда я был дома, он спрашивал:
– Яльмар, как насчет того, чтобы прокатиться?
Я всегда соглашался, и мы вдвоем объездили всю округу.
– Дома не очень весело, – вздыхал он, когда мы подъезжали к заманчиво выглядевшему трактиру. – Давай зайдем, выпьем пунша.
Мы выпивали одну или несколько чашек в зависимости от самочувствия и ехали дальше.
Жена врача не утруждала себя заботой обо мне, но я с этим смирился. Я уже учился в старших классах гимназии, преподаватели обращались ко мне в третьем лице, как было принято в Германии среди взрослых. В дополнение к обязательным латинскому и греческому языкам я выбрал иврит в качестве факультативной дисциплины. Я не знал, займусь ли когда-либо теологией, но изучение этой дисциплины явно было нелишним. Позднее мы часто повторяли шутливо, что иврит ни в коем случае не является лишним в банковской карьере.
Верно, что иногда условия жизни в доме врача казались мне невыносимыми. Но с другой стороны, в нем был магнит, который удерживал меня, – младшая дочь.
Она не была моей первой любовью. Я пережил это чувство еще в пятом классе гимназии. Моей первой любовью была кузина из Нижней Саксонии, которую я увидел в возрасте пятнадцати лет во время свадебного торжества. Она так мне понравилась, что через шесть месяцев я отправился пешком за пятьдесят километров, чтобы увидеть ее снова.
Дочь врача вызывала несколько иное чувство. Его можно было бы определить как платоническое. Я писал ей стихи, но скрывал свои чувства. Мои мысли разрывались между ней и велосипедом, который я надеялся купить на деньги, заработанные частными уроками. Но прежде чем я мог совладать со своими чувствами, ужасная эпидемия холеры в Гамбурге опрокинула все мои планы.
Десятью годами раньше Роберт Кох, которого Германия в то время чествовала как своего героя, обнаружил холерный вибрион.
Видеть изображение холерного вибриона в газетах и наблюдать, как целый город становится его жертвой, – большая разница. Тем летом никто в Гамбурге и подумать не мог, что обстановка в городе настолько ухудшится. Однако, очевидно, какой-то путешественник из Индии занес бациллу холеры, и она распространилась в городе. В вопросах санитарии Гамбург в то время сильно отставал. В то время Старый город был перенаселенным. Старые жилые здания, часто с одним-двумя туалетами на нижнем этаже и неудовлетворительной дренажной системой – стоки часто попадали прямо в Эльбу без всякой канализации, – представляли идеальную возможность для эпидемии. Более 10 тысяч жителей Гамбурга стали жертвами неудовлетворительного, одностороннего администрирования властей, которые уделяли слишком много внимания бизнесу и слишком мало – коммунальным услугам. В период между огромным пожаром 1842 года и бомбардировками союзной авиацией 1943 года в городе не случалось такой же ужасной катастрофы.
Особенно пугало внезапное распространение эпидемии, подобное взрыву. Только вчера я ездил в город из Веделя, писал на греческом языке сочинение и вернулся после полудня в дом врача без малейшего представления о грозной опасности, которой в тот момент уже подверглись тысячи людей. На следующее утро я набил свой школьный ранец, натянул на голову голубую шапку и отправился по неровной мостовой к железнодорожной станции. Увидев меня, начальник станции сделал знак подойти ближе.
– Так, Шахт, полагаю, ты хочешь ехать в Гамбург?
– Да, – ответил я.
– Этого не нужно делать, – сказал он.
– Почему?
Начальник станции чуть подался вперед с помрачневшим выражением лица.
– В Гамбурге холера, – прошептал он. – Все школы закрыты до дальнейшего уведомления. Нам велели возвращать назад учащихся, едущих в город.
Я подобрал свой ранец и быстро вернулся домой.
– Что теперь делать? – спросил врача.
Он взглянул сначала на жену, потом на меня. Я понял намек. Пошел в свою комнату и собрал свои вещи в узел, не более объемистый, чем сумка гамбургского плотника. Затем спустился по лестнице, попрощался с семейством врача и сказал, что вернусь, когда откроют школы. Мой адрес: доктор Шахт, Фридрихштадт. Попросил их о любезности написать мне, если они услышат об открытии школы.
Вскоре я шагал в направлении Утерсена. Минуя Гамбург и холеру, я брел по сельской местности мимо тучных пастбищ и жалко выглядевших полей, мимо болот и холмов. Сознание того, что мне не придется посещать гимназию в течение нескольких недель, превалировало над страхом перед бедствием, постигшим город. Юность эгоистична.
По существу, это была ужасная беда. Больницы и срочно развернутые военные госпитали очень скоро переполнились умирающими людьми. В консультационные центры непрерывными потоками шли матери с детьми, дочери с отцами, мужья и жены с просьбами о помощи, которую не могли оказать власть имущие. Поражались болезнью жители целых улиц, где инфицированная вода проникала сквозь прохудившиеся трубы, в то время как на соседних улицах не заболевал ни единый человек. Возможно, какие-то неизвестные переносчики беды были причиной того, что улицы и кварталы, до сих пор не затронутые эпидемией, вдруг становились новыми очагами болезни, распространявшейся, как лесной пожар. Мобилизовали и направили в город санитарные поезда со всей Германии. Молодые врачи со всего рейха устремились в Гамбург и с беспримерным мужеством отдались борьбе с азиатским злом. Свои услуги предложили медсестры из крупных благотворительных организаций. Многие из них заразились болезнью, немало умерло.
Эпидемия продолжалась три месяца. Понадобилось шесть недель, чтобы взять ситуацию под контроль и вновь открыть школы. Между тем 10 тысяч жителей Гамбурга умерли от холеры. В течение шести недель я проживал во Фридрихштадте у своего деда.
Я прибыл в Фридрихштадт-на-Эйдере поздним вечером. Это напоминало возвращение домой. Я уже дважды проживал у деда: один раз, когда мы еще жили в Хузуме, а второй – когда мне было двенадцать лет. Я знал, что в этот промежуток умерла моя бабушка, которая вызывала у меня обожание. Дед же еще был жив. Несмотря на свои семьдесят девять лет, он почти не изменился и сохранял активность.
– Ах, это ты, паренек, – единственное, что он вымолвил в знак приветствия.
Такая манера разговора была типичной для нашей семьи. Фризы – люди спокойные, полностью погруженные в реальную жизнь. Если родственник появлялся в доме, значит, у него были для этого основания. Не допускалось никаких длинных расспросов.
Экономка, готовившая для меня комнату, с подозрением оглядела небольшое количество нижнего белья, которое я привез. Я умылся и побежал вниз по лестнице к деду, который ждал меня за столом для ужина. Разумеется, я сразу же сообщил ему о холере. Он воспринял эту весть с огорчением. Ведь дед был врачом, и ему не надо было иметь богатое воображение, чтобы представить, чем стала эпидемия холеры для узких, грязных кварталов старого Гамбурга. Кроме того, он опасался, что страх перед болезнью доставит ему много дополнительной работы. И он был прав.
Город Фридрихштадт расположен всего лишь на три метра выше уровня моря. Король Дании Фредерик III позволил датским арминианам селиться здесь, когда те отреклись от учения Кальвина о предопределении. Позднее к ним присоединились последователи других церквей – реформаторы, меннониты, ремонстранты. Даже католики, преследовавшиеся в протестантских странах, нашли здесь убежище. Не могу забыть воскресные утра, когда воздух наполнялся звоном различных колоколов, звавших верующих на молитву. Не важно, насколько расходились проповеди в церквях, колокола говорили на одном языке и гармонировали друг с другом.
Гуманность Фредерика III хорошо окупилась. Фридрихштадт обязан арминианам своим датским обликом, который сохранился до сих пор: идеально прямые каналы с берегами, аккуратно выложенными камнями или торфом, небольшими мостиками, цветниками и оградами. Кроме того, город Фридрихштадт расположен посреди настоящих фризских болот.
Никогда я не ценил так свой северогерманский дом, как в эти шесть недель, проведенных на реке Эйдер.
Несмотря на преклонный возраст, дед оставался практикующим врачом церковного прихода. Годом раньше его назначили инспектором здравоохранения, но он не знал, что делать с этим званием. Что, вообще, значит «инспектор здравоохранения»? Для пациентов он до самой смерти в возрасте восьмидесяти пяти лет оставался врачом церковного прихода.
Юноша в шестнадцать лет смотрит на мир другими глазами. То, что я не понимал во время посещения этого дома четыре года назад, теперь ощущал вполне отчетливо. Это был мой настоящий дом, а дед был связующим звеном между прошлым и настоящим. Он родился в год Лейпцигской битвы, и перед его глазами прошел почти целый век. Благодаря своей крепкой породе он, невзирая на возраст, продолжал лечить своих пациентов, а закончив трудовой день, облачался в грубый твидовый костюм и ходил целый час в роще, которая росла вокруг рынка, попыхивая своей длинной курительной трубкой и отвечая добродушным ворчанием на приветствия горожан. Мне кажется иногда, что я унаследовал свою силу духа от этого деда, хотя в моем случае прибавилась изрядная доза темперамента Эггерсов, отсутствовавшая у деда. Во всех своих делах он сохранял спокойствие и осмотрительность, никогда не волновался и не впадал в панику.
Я, конечно, помогал ему в его работе. Это было гораздо интереснее, чем сидеть на занятиях в Йоханнеуме и чертить графики тригонометрических функций. Кроме того, здесь было больше гуманизма.
Часть его обязанностей как приходского врача состояла в том, чтобы уберечь территорию устья Эйдера от проникновения лиц, которые могли в определенных обстоятельствах занести холеру из Гамбурга. Я уже не помню, какие меры он для этого принимал. Существенным фактором, однако, был его огромный опыт работы в медицине. Несмотря на то что он не мог действовать в соответствии с самыми современными методами санитарии, в его район тем не менее холера занесена не была.
Помню, как однажды в его кабинет вошел тяжелой поступью круглолицый и рыжеволосый скототорговец из Гамбурга. Его осмотрели и выдали справку об отсутствии болезни. Расслабившись, он глубоко вздохнул, склонился над письменным столом деда и доверительно пояснил, почему боялся этого визита.
– Понимаете, доктор, – сказал он, – я приехал сюда по делам.
Дед слегка прищурился.
– Прекрасно, занимайтесь своим делом, – напутствовал он скототорговца. – Но помните то, о чем я вас предупреждал. Заключать сделки с фермерами Эйдерштедта – нелегкое дело. Здесь побывали многие скототорговцы, но через некоторое время упаковывались и уезжали. Фермеры приобретали их наличность, а они – горький опыт.
Во время прежних визитов я узнал от деда некоторые подробности нашей семейной истории. В этот раз мне показалось, что ему захочется рассказать что-то о районе и людях, которые здесь поселились. На протяжении шести недель я получил все сведения о семье, которыми располагаю. Кроме того, дед интересовался моими успехами в учебе и спросил, чем я хочу заниматься. Я откровенно признался, что пока не знаю. Возможно, займусь медициной, как Эдди, может, найду что-нибудь еще.
Дед не стал расстраиваться.
– Мы, Шахты, созреваем поздно и потом долго живем, – сказал он. – Вскоре ты найдешь то, чего хочешь. Умному человеку нужно поразмыслить!
Меня очень манил большой книжный шкаф деда, где я обнаружил полное собрание пьес Геббеля. Некоторые из них мы изучали в гимназии. И неудивительно, ведь первая пьеса драматурга, «Юдифь», была написана в Гамбурге. Дед заметил, что я держу эту книгу в руках, взглянул через мое плечо и потыкал ее страницы длинным мундштуком своей трубки.
– Я хорошо знал его, – сказал он.
– Кого? Геббеля? – недоверчиво спросил я.
Он кивнул:
– Именно. Он был сыном каменщика из Вессельбурена – того, что между Бюсумом и Хайде. В то время я практиковался в фармакологии в аптеке Вессельбурена и случайно посетил его дом воскресным днем. Тогда и познакомился с ним. Бедняга писал церковные пьесы в Вессельбурене. Он очень хотел выучить латинский язык, чтобы читать римских писателей. Я почти год занимался с ним.
– Ты занимался с Геббелем латинским языком?
Дед снова кивнул.
– В то время его имя не упоминали так часто, – продолжил он, – и никто не предполагал, каким он станет в будущем. Бедняга был самолюбив и выражался высокопарно. Но умен, очень умен. Позднее писательница из Гамбурга, Амалия Шоппе, взяла его с собой, чтобы он занялся реальным делом. И он занялся, но не думаю, что почувствовал себя счастливым. Он был из тех людей, которые полагают, что все могут. Но это не так. Посмотри на нашу семью – понадобилось два поколения, чтобы я стал обычным семейным врачом. Так все происходит в этом мире. Но Геббель хотел получить все сразу. Он часто писал мне. Письма были очень высокопарными, как и он сам. Но очень, очень умный. И великий драматург…
Я никогда не думал, что мой старый, суховатый на вид дед мог быть тесно связанным с поэзией. Где те письма от Геббеля? Сохранил ли он их?
– Они где-то среди хлама на чердаке. Можешь поискать, если хочешь. Я не выбрасывал их.
Я взобрался на чердак и стал просматривать старые коробки и сундуки. Там должны быть связки писем с теперь уже выцветшими чернилами. Наконец я нашел то, что искал. Это были письма Фридриха Геббеля моему деду, написанные, когда он учился в Копенгагене. Они были ровесниками.
Письма великого драматурга глубоко тронули меня. Следует помнить, что, когда Геббель писал их, он был совершенно неизвестен публике, был молодым человеком, перед которым открывался большой мир, но без перспектив. Тем не менее его письма содержат высказывания, подобные следующему, которое стало моей путеводной звездой:
«Если нам нельзя быть вместе, если меня поглотили широчайшие круги, а ты вращаешься в узком кругу, я все-таки выражу верность и преданность своего существа в произведениях души и интеллекта. Ты же всегда будешь желанным гостем на этом пиршестве – возможно, не слишком для тебя обременительном, – тем более что ты видел дерево, когда оно было еще почкой, и обонял его резкий (хотя и чистейший) аромат».
Дед, должно быть, заметил мой особый интерес к письмам, а также к экземпляру Dithmarehen Messenger, опубликовавшей первые опыты пера Геббеля. Этот экземпляр я тоже разыскал на чердаке. Поэтому, когда я однажды получил письмо из Йоханнеума, уведомляющее о возобновлении занятий в гимназии, дед подарил мне все, что мне удалось найти на чердаке. Я поблагодарил его, упаковал свои вещи, простился и отправился назад в Гамбург. Старик остался стоять в дверях в своем твидовом пальто, держа в руке длинный мундштук своей трубки. Больше я его не видел. Через шесть лет он умер в своей постели. Трубка, еще не потухшая, выпала из его руки.
Я вернулся в Гамбург, где многие мужчины носили траурные повязки на руках, а женщины – черные вуали. В городе велись оживленные дискуссии. Сенат винили в том, что он проявил недостаточную заботу о благосостоянии горожан.
В доме врача в Веделе я увиделся с хорошенькой дочерью, тучным папой и сухопарой мачехой. Снова вернулся бедный рацион питания. Я с тоской вспоминал обильный стол деда, большие куски жареного мяса с хрустящей корочкой, горячие плоские лепешки на завтрак, морской язык, камбалу и палтуса, которых жарила в масле экономка.
Я возобновил посещение занятий и частные уроки. Наконец скопил достаточно, чтобы заказать велосипед. Он обошелся мне в 250 марок, огромную сумму на то время. Не так давно моя мама содержала дом на такую сумму более месяца. Но мир переживал экономический подъем, повсюду крутилось много денег. Прогресс был паролем, заработки увеличивались день ото дня. Менеджер велосипедного магазина записал в книге заказов: «Яльмар Шахт, студент, скопил деньги на велосипед частным репетиторством». Я не мог и вообразить, что фирма «Опель» однажды раскопает эту книгу и опубликует эту запись в целях рекламы. Но это произошло не раньше 1936 года…
Всякий любитель природы поймет, что значил велосипед для шестнадцатилетнего подростка. Я совершал поездки на большие расстояния в Нижнюю Саксонию и Мекленбург, вверх и вниз по Эльбе. Затем наступила зима. Теперь мой велосипед не мог облегчить тяжесть моего существования в доме врача в Веделе. Моя комната не отапливалась, в питании не хватало калорий. Мое раздражение нарастало из-за того, что каждое утро вода для умывания покрывалась толстым слоем льда. Поездки за город с врачом становились все более частыми, и многие из них сопровождались долгими посиделками в трактире и интересными разговорами за бокалами пышущего паром пунша.
Моя любовь к пуншу восходит к тому времени, и серая кобыла врача не меньше ценила передышки, которые давали ей наши посещения трактира. Если во время поездки врач пытался проехать мимо деревенского трактира, доброе животное не позволяло ему это сделать. Кобыла игнорировала поводья, останавливалась у входа в заведение, и нам ничего не оставалось, как войти внутрь и выпить порцию пунша. Врач был умным человеком, не лишенным интересных мыслей. Во время наших совместных поездок он всегда сохранял хорошее настроение.
– Какая разница между возвышенностью и болотами? – как-то спросил его я.
Он подмигнул:
– Скажу тебе, мой дорогой студент, вот что. Если я еду по Гетлингену и моя серая кобыла что-нибудь уронит, ни одна душа не обратит на это внимания. Но если это случится в Хольме, из домов с обеих сторон улицы выбегут фермеры с метлами и совками и будут кричать: «Это мой навоз!»
Зимними вечерами я исписывал страницы стихами, посвященными своей возлюбленной, дочери врача. Но тщетно. Бессердечная девушка отказывалась воспринимать меня всерьез и смеялась над моими поэмами. Однажды она, воспользовавшись случаем, заперла меня в одной из комнат. Это уже было слишком. У меня больше не было причин оставаться в этом доме. Я уведомил о своем уходе под предлогом того, что моя хозяйка дала мне для школьного завтрака бутерброд с коркой заплесневевшего сыра, и покинул дом. От своего знакомого я узнал, что часовщик с женой, проживавшие на улице Святого Георга, желают взять на проживание гимназиста.








