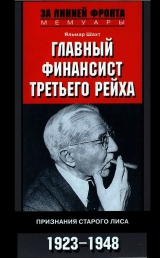
Текст книги "Главный финансист Третьего рейха. Признания старого лиса. 1923-1948"
Автор книги: Яльмар Шахт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Яльмар Шахт
Главный финансист Третьего рейха
Признания старого лиса
1923–1948
Не насилие или сила денег
Формируют мир.
Нравственное воздействие, сила духа
Могут его изменить.
Яльмар Шахт
Введение
День 2 сентября 1948 года был особенно душным. Чувствуя неудобство в меховой шубе, я стоял у выхода из лагеря для интернированных в Людвигсбурге, ожидая, когда придет надзиратель и откроет мне дверь. Жена с моим адвокатом ожидали снаружи. Моя отважная Манси, которая в течение нескольких лет вела отчаянную борьбу за мое освобождение. И вот наконец это случилось. Она приехала за мной на машине доктора Швамбергера. Снова и снова она поднимала руку, подавая неприметно сигнал, который означал: еще несколько минут – и ты будешь на свободе!
Текли мгновения. У ворот появились два молодых фоторепортера, готовые запечатлеть на пленке мой первый шаг на свободе. Я ждал. Фоторепортеры ухмылялись. Они явно сочинили заранее заголовок: «В шубе при температуре воздуха в 25 градусов по Цельсию бывший председатель Имперского банка выходит на свободу из лагеря в Людвигсбурге». Не было никакой возможности дать им пояснения относительно шубы. Что они знали о моем четырехлетием заключении в застенках гестапо, об американских и немецких судах по денацификации? Могли они знать что-нибудь о состоянии моей одежды под этой шубой?
Мимо прошли двое рабочих и, заинтересовавшись происходящей драмой, остановились, закурив сигареты. Я слышал их разговор.
– Это Шахт, – сказал один из них. – Его вчера оправдали.
– Думаешь, ему позволят выйти? – спросил другой. Он носил голубые брюки из грубой хлопчатобумажной ткани, а от пояса доверху его прикрывала лишь собственная загорелая кожа.
– Нет, – отвечал медленно первый. – Не думаю, что его выпустят. Найдут ту или иную причину, чтобы снова запихнуть его в тюрягу!
Они поплевали на ладони, подхватили свои инструменты и удалились. Их беседу нельзя было назвать ободряющей. «Глас народа», – подумал я.
Подошел надзиратель, звеня связкой ключей, и торжественно открыл большие ворота. Защелкали фотоаппараты. Кто-то задал мне вопрос. Манси резко оборвала его и повела меня к машине. Я опустился на заднее сиденье рядом с человеком, который несколько месяцев назад был моим защитником в суде.
– Поехали, – сказала Манси, – подальше отсюда…
Не помню, когда я взялся писать свои мемуары, в тот самый вечер или в один из последующих вечеров. Впервые за четыре года, месяц и десять дней я был свободным человеком. С тех пор, как в семь часов утра 23 июля 1944 года за мной пришли агенты секретной полиции, меня швыряли из одного места в другое, как почтовую посылку. Моей судьбой распоряжались какие-то незнакомые мне люди, меня перевозили из одной тюрьмы в другую в легковой машине, самолете и грузовике. Они доставляли меня из камеры на судебные заседания и обратно, кричали на меня, угрожали, говорили мне любезности. Тюремная обстановка везде одинакова. Меня сажали в камеру по обвинению в заговоре против Гитлера. После смерти Гитлера заточили в тюрьму за содействие ему. Люди, ничего не знавшие о моей стране или обстоятельствах моей личной жизни, позволяли себе бездоказательно обвинять меня и мою страну. Они бросали свои избитые обвинения мне прямо в лицо.
Мне стукнул семьдесят один год, и вдруг я снова свободный человек. Жена и дети жили в какой-то хижине в Люнебургской пустоши. Я потерял все, что имел, – деньги, дом, землю, даже лес, который сам когда-то посадил.
Подобная ситуация заставляет человека размышлять. Он начинает думать о будущем, так же как и о прошлой жизни. Будущее меня крайне беспокоило. В молодости я сумел пробиться наверх. Мог совершить это и во второй раз. В своем семействе мы взрослели поздно и сохраняли активность по достижении библейского возраста. Так было с моим дедом, приходским врачом в небольшом северогерманском городке. То же можно сказать о моем отце, который эмигрировал молодым человеком в Америку, через шесть лет вернулся в Германию и стал заново строить свою жизнь. Я не мог поступить иначе. Нет, у меня нет страха перед будущим. Буду работать, не подведу трех родных людей, которые зависят от меня.
Прошлое – несколько другое дело. Могут, конечно, возразить, что четырех лет тюрьмы, концентрационных лагерей, международных трибуналов и судов по денацификации более чем достаточно, чтобы свести счеты с прошлым. Это ошибочное предположение. В ходе расследования у подследственного нет времени для того, чтобы прийти к согласию с самим собой. Беззащитного, его отдают в руки властей, которые – от тюремного надзирателя до выдающегося государственного обвинителя – ни на мгновение не ослабляют своей хватки. Неуклонно и неослабно они стремятся поймать вас на чем-то, загнать в угол, найти улики против вас. Необходимо сохранять присутствие духа, постоянно быть настороже, чтобы не поддаться на уловки. Постоянно сталкиваясь с разного рода ухищрениями, запугиваниями, уговорами, которые меняются каждый день, вы перестаете быть свободным индивидом, но становитесь мишенью для закона. В этом все дело, и не важно, попадете ли вы в нацистские концентрационные лагеря, в американскую тюрьму как «военный преступник» или в лагеря по приговорам судов по денацификации. В нашей действительности политические трибуналы имеют своей целью захватить свои жертвы врасплох. Глубоко осмыслить свое положение способен только свободный человек.
Через несколько дней после освобождения я прогуливался в лесу у речки. Люблю лес и воду. В моем бывшем поместье (сейчас попавшем в руки русских) были леса, озера с водоплавающими птицами – цаплями, крохалями, нырками, дикими утками…
Солнце село среди буйства красок. На зеркальной поверхности воды отражались рваные облака – красные, оранжевые, желтые. На некоторое время я застыл, наблюдая эту картину, затем сел на скамью.
– Вы не доктор Шахт? – прозвучал рядом голос.
Вздрогнув, я повернул голову. Какой-то человек – явно незнакомый, – бесшумно приблизившись, теперь сидел рядом со мной.
– Да, – ответил я.
Он протянул руку.
– Весьма рад встретиться с вами, доктор Шахт, – сказал он. – Всегда хотел обменяться с вами рукопожатием.
Мы пожали друг другу руки.
– Чем могу быть вам полезен? – спросил я.
– Ничем, – сказал незнакомец. – Просто хотел воспользоваться случаем поговорить с вами. Вы ведь сейчас свободный человек, не так ли?
– Похоже на то, – молвил я.
Он устроился поудобнее, вынул коробку с сигарами и предложил закурить.
– Это не будет для вас накладно?
– Ничуть, – последовал великодушный ответ. – Сигары – мой бизнес, занимаюсь этим тридцать пять лет. Вы меня не помните?
– Не имею ни малейшего…
– Я видел вас как-то раз… В то время я ездил по делам фабрики, производившей сигары. Сейчас, слава богу, езжу по собственной инициативе. Дела идут неплохо. С введением немецкой марки люди снова покупают…
– Вам приходилось меня видеть?
– Я как раз собирался рассказать вам об этом. – Он передал мне спички. – Это случилось во время посещения мною Имперского банка. Моя фирма пожелала назвать новый сорт сигар вашим именем. Сигары «Яльмар Шахт», председательский сорт, ха-ха-ха!
Его смех расшевелил мою память.
– Вспомнил, – сказал я, – но не помню вашего лица. Вы приходили и предлагали деньги за использование моего имени?
– Совершенно верно, – сказал он. – Это и вам принесло бы большую пользу Каждую неделю вы получали бы коробку сигар на протяжении всей своей жизни.
– Эта фирма все еще работает?
– Еще как! Дела идут как нельзя лучше! – воскликнул бодро торговец сигарами.
– Жаль, что я отклонил предложение, – произнес я просто для того, чтобы сказать что-нибудь.
– Да, разве не так? – парировал он.
Мы покурили, сидя рядом, еще четверть часа, затем он поднялся, долго и сердечно жал мне руку, потом удалился. Бедняга, говорило выражение его лица, с чем ты остался теперь? Имперскому банку – конец, рейху – конец, председатель банка смещен. Сейчас им не нужен председатель Имперского банка. Взгляни на меня – я всего лишь торговец сигарами, но у меня свое дело, и это лучше, чем председательствовать в Имперском банке. Если бы ты согласился, чтобы эти сигары назвали твоим именем, то получал бы сейчас даром коробку каждую неделю.
Именно это он хотел мне сказать. Я отбросил окурок его сигары и закрыл глаза. Неожиданная встреча вырвала меня из настоящего – погнала меня в прошлое, вспоминать о котором снова было нелегко.
Правда, мое прошлое довольно часто связывали с Нюрнбергом, Штутгартом и Людвигсбургом. Люди стремились обеспечить документальным подтверждением, так сказать, каждый шаг в моей жизни. Но было ли прошлым то, что отражено в этих документах, было ли это на самом деле подлинным живым прошлым? В Нюрнберге и на судах по денацификации мои обвинители представляли документы, которые, как им казалось, раскрывали мою прошлую жизнь до мельчайших подробностей. Со своей стороны защита и свидетели представляли другие документы, содержавшие информацию совершенно противоположного характера. Люди, с которыми я во время государственной службы вел резкие, но объективные споры, теперь являлись в суды и свидетельствовали в мою пользу. Такие друзья, как, например, епископ Вурм, старались больше всего. Он вникал в любое выдвинутое против меня дело и демонстративно жал руки свидетелям, которые выступали в мою защиту. Однако эти свидетельства становились мертвой вещью, большей частью юридическим материалом. Ни одна из страниц документа – используемого в мою защиту или против меня – не представляла собой реального прошлого, но была лишь частью его, вырванной из контекста, а следовательно, нереальной.
Я пробежал мыслями почти семьдесят лет своей сознательной жизни. Сколько всего произошло за эти семьдесят лет!
Во время моего рождения новой Германской империи исполнилось семь лет. Ее канцлером был Бисмарк. Ганзейский город Гамбург еще не входил в Германский таможенный союз. Когда мне было одиннадцать лет, в Германии сменили друг друга в течение года три императора: Вильгельм I, Фридрих III и Вильгельм II. Германия была страной, устремленной в будущее, год за годом ее мощь возрастала. Студентом в Киле я наблюдал строительство нашего флота и грозные стальные формы броненосных крейсеров и линкоров. Когда я женился, через три года после начала XX века, Германия была в зените своего могущества. Еще сохранялась старая система альянсов Бисмарка. Никто не думал, что за непрерывным, устойчивым подъемом Германии в качестве новой колониальной державы таилась скрытая опасность мировой войны. Разве не было бы самонадеянным помышлять о нападении на эту новую Германию? Разве не было справедливым для нас – отставших от народов Европы – сравняться с остальными?
Так это представлялось в то время. Будущее никого не беспокоило. Однако моя мирная супружеская жизнь продолжалась только одиннадцать лет. Затем разразилась война, и через четыре года произошел первый коллапс. Мне исполнился сорок один год, и я занимал должность управляющего банка, когда в рейх вернулись массы немцев, озлобленных, голодных, созревших для революции. Но революция не состоялась или состоялась в бессвязном виде. Император бежал, армию разоружили. Вместо императора Германия получила имперского президента и кабинет партийных министров. Но политические перемены не заслонили от нас того факта, что страна разорена. Обнищание народа, падение курса марки продолжались с неумолимой силой. Путь, который мы прошли после Первой мировой войны, был отмечен такими реалиями, как блокада голодом, продиктованный мир, инфляция. Ровно через пять лет после краха Германии я вовлекся в политику, от которой с тех пор не мог отделаться.
Мне было сорок шесть лет, когда правительство предложило мне пост уполномоченного по национальной валюте, за которым вскоре последовала должность председателя Имперского банка. Это назначение было пожаловано мне президентом Эбертом. Я принял его и стабилизировал марку.
Моя первая жена Луиза подарила мне двух детей – дочь, которой исполнилось двадцать лет во время назначения меня председателем Имперского банка, и сына, на семь лет моложе. Через три года я отмечал с семьей Рождество в Лозанне. Как обычно, мы украшали рождественскую елку и зажигали свечи. Ребят позвали в комнату, поставили рядом, Луиза прочла им рождественскую историю из Нового Завета. Я возвращался мыслями в Германию. Там впервые за несколько лет тысячи семей наслаждались миром и безопасностью, так же как мы. Работавшие люди получали зарплату, на которую могли приобретать товары. Ее составляли деньги, стоимость которых будет завтра такой же, как и сегодня. В моем кармане хранилось письмо, написанное не особо грамотным проводником спального вагона: «Дорогой доктор Шахт, впервые за несколько лет мы смогли положить под рождественскую елку подарки и должны благодарить за это только вас. Когда моя дочь Мика пришла вчера домой, она напевала: «Кто обеспечил устойчивость марки, не кто иной, как доктор Шахт». Я решил дать вам знать об этом и надеюсь, мое сообщение доставит вам радость. Искренне ваш…» Я получал много таких писем. Люди часто заговаривали со мной на улице и пожимали мне руку. Это были лично незнакомые мне люди, которые выражали благодарность и надежду на будущее с устойчивой денежной единицей…
Все это снова всплыло в моей памяти, когда я сидел на скамье тем вечером. Я пытался представить подлинное прошлое. Кто-нибудь спрашивал меня об этом во время допросов в гестапо? Или напомнил об этом в Нюрнберге и Людвигсбурге? Да, это случалось. Но у меня сложилось впечатление, что ни один из моих обвинителей не имел представления об обстановке в Германии того времени. Они заранее решили искать худшее во мне.
В моей голове вновь отражаются эхом шум от тюремной суеты, вопросы, адресованные мне судьями, адвокатами, прокурорами: что и почему, как это случилось в такое-то время? Вопросы беспрерывные и несмолкаемые!
Жизнь не остановилась, когда стабилизировалась германская марка. Всего лишь через несколько лет я стал в глазах многих своих бывших друзей самым ненавидимым в стране человеком, который заслуживал немедленного расстрела. Разрушитель немецкой экономики. Капиталист в сюртуке. Мерзкий друг евреев. Коррумпированный нацист. Так, без разбора, меня часто называли многие.
Я поднялся и пошел к жене в наше временное пристанище. Манси (на которой я женился в 1941 году) вопросительно взглянула на меня.
– Что ты делал? – спросила она.
– Сидел на скамейке, думал.
– О чем?
– О прошлом. Сами по себе явились воспоминания.
– Что за воспоминания?
– Воспоминания о прошлом. Крах Веймарской республики, Гитлер, мое второе председательство в Имперском банке, работа министром экономики.
– И что же заставило тебя думать обо всем этом?
– Неудовлетворенность. У меня такое чувство, будто вся юридическая процедура, которой я подвергался в последние четыре года, способствовала лишь сокрытию действительных фактов. Разве это не странно? Четыре года велись одни разговоры, изучались документы, снимались показания, заслушивались свидетели, оспаривались решения, запрашивалось мнение Совета – и каков результат?
– Тебя оправдали, – сказала она.
– Это один аспект дела, – согласился я. – Меня оправдали. Я никогда не сомневался, что меня придется оправдать. Но когда я раздумываю обо всем, что было выдвинуто ради моей защиты или обвинения в эти годы, то…
– То что? – спросила жена.
– То мне хочется сесть за стол и изложить на бумаге подлинную историю этой эпохи. Историю эпохи, которую пережил я. Не ту, какой ее видит американский или русский обвинитель, не ту, какой ее видят мои защитники. У них лишь одна цель: они хотят, чтобы подсудимого либо осудили, либо оправдали. Я не хочу быть ни тем ни другим. Хочу свободно высказаться о тех вещах, которые люди замалчивают даже сегодня.
– Хорошо, – сказала она, – почему бы и нет?
Все это происходило в начале сентября 1948 года, сразу после моего освобождения решением суда по денацификации, который сначала приговорил меня к восьми годам каторжных работ. С этого вечера я занялся обдумыванием прошлых событий, насколько позволяло время. Моей первой заботой было, конечно, найти средства обеспечения моей семьи – жены и двух маленьких дочерей, которые постепенно привыкали к своему отцу. Дочь от первого брака жила самостоятельно, но сын Йенс был убит русскими в возрасте тридцати пяти лет потому, что (как рассказал мне один из его товарищей) он свалился от слабости во время гибельного шествия в направлении тюрьмы.
Между тем я написал две книги – «Расплата с Гитлером» (Abrechnung mit Hitler) и «Золото для Европы» (Mehr Geld, mehr Kapital, mehr Arbeit!). Обе они выражают определенную позицию в отношении определенных проблем или касаются определенных периодов моей жизни.
Настоящая книга – нечто иное. Она содержит мысли старика в 76-летнем возрасте об особенностях его эпохи. Я сам сыграл в этой эпохе определенную роль и пытался влиять на нее. Меня часто называли чудотворцем – пусть эта книга станет мемуарами чудотворца. В моем прошлом нет ничего постыдного. Каждое человеческое существо обладает определенными врожденными чертами. Оно может, как говорит нам Писание, употребить свой талант в пользу или зарыть его. Я старался предоставить свои способности в распоряжение страны, которой принадлежу.
Кроме того, я движим стремлением, которое, насколько я помню, было всегда неотъемлемой частью всех моих поступков. Мне хотелось присоединить свой голос к тем, кто стремится развеять ядовитые миазмы, застилающие нашу эру. В ходе моей жизни случались ужасные вещи – завтра могут произойти вещи еще ужаснее, если мы откажемся извлечь уроки из прошлого.
Но, чтобы сделать это, следует ознакомиться с прошлым, следует знать, как произошли эти явления, как они вызревали тайком. С ноября 1923 года я постоянно возвышал голос протеста против излишней роскоши, против оболванивания всей нации, против деспотического партийного влияния, против военного безумия. Из-за моих выступлений, печатных и устных, у меня появилось много врагов. Моя жизнь подвергалась угрозам, на меня нападали с разных сторон. Но в итоге я оказался прав в своих пророчествах и предостережениях. Те же, кто совершали на меня нападки, как оказалось, ошибались.
Вот почему я снова листаю страницы своей жизни с самого начала.
Часть первая
Юность
Глава 1Семьи Шахтов и Эггерсов
Банкир, бытует мнение, ведет легкую жизнь. Сидит в банке и ожидает, когда к нему придут люди и принесут деньги. Затем он вкладывает деньги в прибыльные предприятия, присваивает прибыль в конце года и выплачивает клиентам какие-нибудь мизерные дивиденды. Это самая легкая профессия в мире. Легкая и, следовательно, антиобщественная. Врач, доказывают сторонники этого мнения, кузнец или дорожный рабочий по-настоящему работают. Банкир же бездельничает.
В свое время я знал многих банкиров. Некоторые из них были ленивы, большинство же отличались трудолюбием, были высокообразованными людьми, неутомимо работавшими над расширением своего поля деятельности. Это приходилось делать, иначе их банки не смогли бы в конце года выплачивать дивиденды.
Недоброжелатели забывают кое-что другое. Ни одному из них не приходит в голову спросить, откуда берутся банкиры! Вырастают ли они на деревьях, или обучаются в учебных заведениях, или принадлежат к мистическим династиям банкиров? И да и нет. Конечно, существовали и имеются до сих пор семейные династии банкиров – например, Мендельсоны, которые, помимо финансистов, произвели на свет поэтов, музыкантов, художников и ученых. Другие вышли из мелких слоев нашего общества благодаря своему трудолюбию, как директор немецкого Имперского банка, отец которого был посыльным в этом учреждении.
Словом, глупо говорить о банкирах отвлеченно. Всякий человек, так рассуждающий, ставит себя на один уровень с теми, которые судят-рядят о евреях, неграх, железнодорожниках. В любой профессии есть белые и черные овцы, и мне еще придется сказать кое-что о них.
Мою семью ни в коем случае нельзя считать зажиточной. Когда я родился, мои родители пребывали в бедности. Должны были пройти многие десятилетия, прежде чем отец почувствовал, что стоит на твердой почве. Насколько я помню, моим родителям приходилось сражаться с тяжелыми финансовыми проблемами, которые омрачали всю мою юность.
Долгое время я не знал, кем хочу быть. Начал с изучения медицины, переключился на германистику и закончил политической экономией. Добился степени доктора на факультете философии. Никакая фея не пророчила у моей колыбели, что однажды я стану председателем Имперского банка.
В любом случае этого не могло случиться, поскольку в доме Шахтов не было такой вещи, как колыбель. Наоборот, когда акушерка приняла меня, шлепнула по заднице, обмыла и завернула в заранее приготовленные пеленки, я был помещен в «ослика», поставленного в спальне моих родителей. «Ослик» представлял собой деревянную раму на опорах с куском парусины, растянутым между двумя длинными перекладинами. Именно в такую шаткую штуковину меня положила акушерка из Тинглефа в Северном Шлезвиге 22 января 1877 года. Ночью был сильный снегопад, и отцу пришлось подняться на рассвете, чтобы расчистить дорожку в дом для нее и врача.
Отец женился пятью годами раньше. Брачная церемония проходила в Епископальной церкви в Нью-Йорке, на углу Мэдисон-стрит и Пятой авеню. Это был брак по любви. Родители впервые встретились в небольшом городке Тондерн. В то время он был студентом – не слишком обнадеживающий кандидат на женитьбу для представителей среднего класса. Но когда он сдал экзамены, то взял быка за рога. Он сделал то, что делали многие немцы в то время: эмигрировал в Америку и получил 11 декабря 1872 года американское гражданство.
Однако отец не забыл девушку в Тондерне. Найдя работу в немецкой пивоварне в Нью-Йорке, он написал ей письмо с предложением приехать к нему.
Матери был двадцать один год, отцу исполнилось двадцать шесть лет, когда они поженились. Это был типичный брак представителей среднего класса, хотя и состоявшийся в несколько драматичных условиях.
Мать пересекла океан на пути в Нью-Йорк в одном из тех устаревших пароходов, которые еще можно увидеть на старинных гравюрах. У него в середине высится дымовая труба, впереди и позади – мачты, верхняя палуба завалена тюками товаров, ниже – обширная палуба третьего класса, на которой размещались несчастные путешественники, не имевшие достаточных средств для поездки в каюте.
В возрасте семидесяти четырех лет моя мать описала свою рискованную поездку. Ничто не отражает яснее огромные перемены, происшедшие в мире, чем сравнение между рейсами в Америку тогда и сейчас.
Мать, младшая дочь моих дедушки и бабушки, только что отметила свой двадцать первый день рождения, когда получила вызов в Америку. Ее собственная мать дала согласие на воссоединение с женихом только при условии ее сопровождения старшим братом. К счастью, у нее было несколько старших братьев. Ей добавили также верную служанку из земли Шлезвиг-Гольштейн. В дорожном сундуке с ее приданым и бельем было также муслиновое свадебное платье с настоящим кружевом. Кроме того, она взяла с собой небольшое миртовое дерево, с которого намеревалась собрать ветки для свадебного венка.
С такой экипировкой три пассажира, ищущих приключений, сели на пароход «Франклин» в Копенгагене. Судно принадлежало не так давно образовавшейся судоходной фирме в Штеттине, вознамерившейся учредить судоходную линию из Европы в Америку. Но еще в Копенгагене пароход задержался на две недели из-за шторма на Балтике. Когда спешно завершили погрузку провизии и угля, какой-то кочегар упал с борта в пространство между пароходом и пирсом. Спасти его было невозможно. Ко всему прочему, они вышли в море 13 октября. (Это первое из несчастливых чисел «тринадцать», которые позднее сыграли определенную роль в моей жизни.)
Шторм в проливе Ла-Манш вынудил капитана идти вокруг Северной Шотландии, где пароход попал в туман и оставался несколько дней в Атлантике, почти без движения, с жалобно гудевшим гудком. Мать и брат располагались в единственной каюте первого класса вместе с девятью другими пассажирами, включая учителя и жену торговца, с которой она подружилась. Кают второго и третьего классов на пароходе не было. Зато палубу третьего класса занимали три сотни пассажиров.
Во время всего путешествия миртовое деревце сохранялось в целости и безопасности под открытым небом. Оно расцвело и благоухало в морском воздухе – добрый знак для счастливого окончания опасного путешествия.
Очень скоро пассажиры на борту парохода заметили, что груз уложен плохо. Корабль непомерно кренило и качало могучими волнами Северной Атлантики. На вторую неделю выяснилось, что на борт было взято недостаточное количество питьевой воды. По приказу капитана палубным пассажирам выдавали дистиллированную морскую воду вместо хотя бы малого количества свежей воды. Вероятно, из-за ненормальных санитарных условий на борту вспыхнула эпидемия холеры. Она распространялась с пугающей быстротой и унесла жизни тридцати пяти палубных пассажиров. По ночам обитатели каюты первого класса дрожали от ужаса, когда слышали, как сбрасывают в море тела покойников, завернутые в парусину. В это время мать пережила страшные душевные муки, поскольку ее служанка находилась среди палубных пассажиров.
Во время кульминации трагедии в каюту вошел помощник капитана и попросил оказать помощь шестилетнему мальчику, входившему в семью эмигрантов из Ютландии. Его отец, мать, три брата и сестры умерли от холеры, а одежду мальчика сожгли в целях предупреждения инфекции. Моя мать передала ему белье и шерстяные вещи из своего сундука с приданым. Женщины из каюты сшили для мальчугана новую одежду и взяли его в каюту, где его веселый нрав весьма забавлял ее обитателей.
Но бедствия на этом не закончились. «Франклин» «экономил» не только питьевую воду, заканчивалось также топливо. Возникла необходимость пустить на топливо деревянные сиденья на палубе. В последние недели перед прибытием в Новый Свет все пассажиры довольствовались стаканом воды в день. Когда наконец стали давать сбой двигатели и вышел из строя компас, гордое судно «Франклин» из Штеттина двинулось наугад в западном направлении, как это сделал старина Колумб, пустившийся в плавание с целью открытия нового континента.
Так продолжалось до 2 декабря 1871 года, однако название порта, в который они вошли, было не Нью-Йорк Соединенных Штатов, но канадский Галифакс. Надежды пассажиров разбили портовые власти, не пожелавшие распространения холеры в Канаде. После этого был совершен мятежный акт. Когда к берегу отправилась лодка, чтобы запастись топливом и провизией, один из пассажиров перепрыгнул через борт, поплыл за лодкой и благополучно достиг берега, где рассказал репортерам обо всех подробностях кошмарного путешествия. В результате мой отец впервые узнал о суровых испытаниях своей невесты из прессы.
Но даже тогда, когда «Франклин» наконец подошел к Нью-Йорку, отправившись из Галифакса, отец не смог встретить мать. Наоборот, власти Нью-Йорка были так напуганы кораблем с холерой на борту, что пригрозили обстрелять его, если он не удалится как можно дальше, на рейде. Старый военный корабль «Хартфорд» принял пассажиров «Франклина» и содержал их в карантине в течение трех недель. Лишь благодаря добрым услугам портового врача, который отнесся сочувственно к пассажирам, они могли переписываться друг с другом.
Моей матери пришлось перебираться на борт «Хартфорда» через иллюминатор каюты. Во время некомфортабельного перемещения с одного судна на другое она крепко держалась за миртовое деревце, которое пострадало меньше всех во время морского путешествия. Она провела рождественский праздник вместе с братом и служанкой из Шлезвига вдали от отца, на рейде Нью-Йорка. За день до того, как они наконец освободились от весьма приятного в других обстоятельствах заключения на «Хартфорде», кто-то случайно оставил открытым бортовой иллюминатор, и миртовое деревце замерзло. В результате моей маме пришлось, как и всем американским невестам, надеть на брачную церемонию 14 января 1872 года флердоранж.
В Штатах мои родители оставались еще пять лет. Затем тоска по Германии настолько усилилась, что мой отец решил вернуться на родину. На его возвращение домой, видимо, повлияло несколько причин. Он оставил Германию незадолго до Франко-прусской войны. К тому времени, как к нему присоединилась мать, в Германии уже произошли большие перемены. Образовалась империя, а вместе с ней в последующий период происходил экономический рост. Зачем оставаться в Америке, когда родина предков вдруг предложила так много возможностей?
Идея возвращения не давала ему покоя. Она преследовала его, когда он сидел за столом, оценивая причитающиеся платежи, когда встречался с другими немецкими эмигрантами в клубе, когда ходил в немецкую церковь по воскресеньям. Пять нескончаемых лет. Осенью 1876 года он наконец решился. Бросил работу, подав заявление о своем увольнении, купил билеты на пароход и вернулся в Германию со своей семьей – теперь втроем: он сам, моя мама и старший брат Эдди.
Нет, он уехал не потому, что сомневался в возможности добиться успеха в Америке. Его явно влекла на родину ностальгия.
Во время обратного путешествия моя мама сообщила ему, что семья вскоре увеличится до четырех человек. На это он заметил, как делают все мужья в таких случаях: «Мы выдержим! Три или четыре – какая разница? Придумаем что-нибудь…»
Таким образом, я могу по праву считать себя отпрыском двух континентов, отделенных друг от друга акваторией океана в три тысячи миль.
Мое полное имя – мэр Тинглефа в Северном Шлезвиге покачал головой, когда вносил его в свою регистрационную книгу, – Яльмар Горас Грили Шахт.
Яльмаром я обязан своей бабушке Эггерс, которая уговорила отца в последнюю минуту присоединить его к имени «Горас Грили», так чтобы у меня имелось, по крайней мере, хоть одно приличное христианское имя!
Из-за этих трех имен меня поочередно принимали за американца и шведа. В Германии меня больше знают как Яльмара, английские друзья обычно называют меня Горасом. В период Сопротивления в Берлине ближайшие друзья упоминали мое имя как Гораз. В 1920 году одна популярная газета выступила с претензией на лучшее знание моей генеалогии. Она заявила, что моим настоящим именем было не Яльмар Шахт, но Хаим Шехтель, что я являюсь евреем из Моравии, – ну что тут скажешь? Несмотря на мои иностранные христианские имена, я был и остаюсь немцем.
Расскажу, откуда мой отец взял эти три любопытных имени. Во время своего семилетнего пребывания в Штатах он не только был старшим клерком, бухгалтером и бизнесменом, но также питал острый интерес к общественной жизни Соединенных Штатов, которые в то время переживали последствия Гражданской войны. Он особенно почитал американца безупречных качеств, кандидата в президенты и друга Карла Шурца – Гораса Грили. Этот либеральный североамериканский политик, которому установлен памятник в Нью-Йорке, основал газету Tribune, позднее известную как нью-йоркская Herald Tribune. Отец, считавший Гораса Грили примером безупречной личности, решил, что следующий сын будет назван именем его кумира. Тот факт, что он уже не жил в Америке во время крещения своего сына, не беспокоил его ни в малейшей степени.








