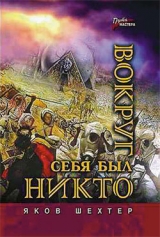
Текст книги "Вокруг себя был никто"
Автор книги: Яков Шехтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Командиры склонились в благодарном поклоне и, чуть-чуть подталкиваемые янычарами, быстро покинули шатер.
Законы шариата мамлюки выполняли ревностно, куда истовее арабов и турок. Нет ничего хуже отпущенного раба: став господином, он постоянно пытается доказать подлинность перевоплощения. Но языческое прошлое быстро не уходит; помимо общемусульманских правил у мамлюков остались некоторые привезенные с Кавказа обычаи. Они как бы дополняли указания Магомета, но на чеченский лад.
После завершения каждого мамлюкского праздника жители соседних деревень хоронили убитых. Сотни лет человеческих жертвоприношений крепко засели в подкорке, проникнув, возможно, и в крутые спирали генов. Жалобы в Стамбул действия не оказывали – до поры до времени связываться с мамлюками султан не хотел. За два с лишним столетия мамлюкского присутствия в Палестине под жертвенными клинками погибли тысячи, если не десятки тысяч[1]1
Любопытно, что те же самые причины вызвали в 1989 году ошский погром так называемых турков – месхетинцев, по одной из версий потомков переселенных Сталиным чеченцев. Другие этнографы соотносят их с грузинами, принявшими ислам, сами же турки-месхетинцы считают себя самостоятельной этнической группой.
[Закрыть]. И вот долгожданный момент расплаты наступил.
Первый двор крепости пушки Мухаммада Али раскрошили за неделю, второй – за шесть дней. Мамлюки отвечали отчаянными ночными вылазками, отрезая от армейской туши по солидному кровоточащему ломтю. На третью неделю Мухаммад Али прекратил штурм и, превратив половину солдат в землекопов, за три дня окружил крепость огромным земляным валом. Всю ночь на вершине вала полыхали костры, и вылазкам мамлюков пришел конец.
Турки закатили пушки на вал и принялись за цитадель. Через сутки беспрерывной канонады у артиллеристов опустились руки. Ядра отскакивали от черных стен цитадели, словно камешки, оставляя на шершавой поверхности блоков едва заметные полоски. Мамлюки презрительно трубили в рога и каждые два часа вешали на «бивнях» восточной башни пленников, захваченных во время ночных вылазок.
На следующий день, перегруппировав артиллерию, Мухаммад Али начал обстрел этой башни. Сотни орудий без устали палили в ее основание, канонаду слышали даже в Яффо. Тела повешенных непрерывно подрагивали, клубы порохового дыма сносило восточным ветром на палатки янычар, охранявших главнокомандующего, покрывая их густым слоем сажи. К вечеру пушечные стволы раскалились настолько, что обстрел пришлось прекратить. Тщательный осмотр башни в подзорные трубы принес весьма неутешительные результаты – в ее черных стенах не появилось даже намека на трещину.
Ночью, когда орудия остыли, турки сменили тактику. Вместо ядер пушки зарядили зажигательными снарядами, и, повернув жерла на максимальный угол, приступили к своей страшной работе. Лишь немногие снаряды перелетали через тридцатиметровые стены цитадели, большинство разбивались о зубцы. По черным блокам потекли огненные реки, и вскоре на валу стало трудно дышать. Но и в цитадели было не легче; падая на узкие улочки внутреннего двора, переполненные телегами со скарбом, снаряды превращали спящих под ними жен и детей мамлюков в пылающие факелы.
Утром ворота цитадели распахнулись, и оттуда поползла длинная вереница телег – рассчитывая на милосердие Мухаммада Али, мамлюки отправили из пылающей крепости свои семьи. Обоз перебрался через вал и, ожидая решения своей судьбы, замер перед палатками янычар. Главнокомандующий срочно вызвал к себе командиров ополчения:
– Вот он, ваш час. Делайте с ними, что хотите.
Пришли, закутанные в черное, бедуины-следопыты, ведя на поводу беговых верблюдов. Подтянулись пропахшие морем аскалунские рыбаки. Прискакали на маленьких мохнатых лошадках друзы. Мухаммад Али вышел из шатра, небрежно взмахнул платком и вернулся к столу, допивать утренний кофе.
Через два часа растерзанные тела начали укладывать вдоль вала, со стороны, обращенной к цитадели. Завершив первый круг, приступили ко второму, а за ним – к третьему. На середине четвертого ворота распахнулись, и мамлюки бросились в атаку. Они бежали молча, обнаженные по пояс, не рассчитывая вернуться живыми.
Удар был страшен, прорвав строй турецких войск, мамлюки устремились к шатру главнокомандующего. Их встретили янычары. Мухаммад Али сквозь распахнутый полог шатра наблюдал за битвой. Он был уверен в своей гвардии. И не ошибся.
Цитадель горела еще неделю. Стоявшие наготове пушки выщелкивали картечью последние отряды мамлюков, а спустя десять дней турки взорвали «Царские» ворота и вошли в крепость. Им уже никто не мешал.
7 ноября
Я заснул и проснулся в сером полумраке. Из-за шторы, плотно прикрывавшей гостиничное окно, сочился осторожный свет одесской осени. В комнате было тепло, обшивка подводной лодки работала на славу. Отдернув штору, я обнаружил дождь, сизые крыши, серое небо впритык к крышам, мятущиеся верхушки платанов, разноцветные зонтики и черный, блестящий асфальт. Какое счастье, какое непередаваемое ощущение уюта, стоять у окна, возле теплой постели, и созерцать пролетающие за стеклом капли. Для этого нужно прожить много лет под безоблачным небом, пройти сквозь зимы, в которые температура не падает ниже плюс восемнадцати, а весны, лета и осени провести в обнимку с кондиционером.
Семь тридцать. Лора появится через час. Утренний туалет совершаю на «автопилоте». Спохватываюсь только посредине психометрических текстов. Плохо. Чистить по инерции зубы можно, но читать не думая – непозволительно. Правда, звуки все равно делают свое дело, даже если смысл произносимого не всегда понятен.
На всякий случай повторяю все с самого начала. Каждому слову соответствует определенная жилочка или артерия в моем теле, энергия звуков массирует их, словно упругий валик. Несколько лет назад я, наконец-то, почувствовал это на собственной шкуре, а до того приходилось верить описаниям и рассказам «старых психов». Понадобились годы и годы беспрекословного исполнения упражнений, пока умозрительные знания перешли в чувственный опыт.
Иногда «массаж» получается лучше, иногда хуже, иногда не получается вовсе. Но, единожды ощутив, я не променяю свою утреннюю зарядку ни на что на свете. Точнее не скажешь, – зарядка – термин, наверняка придуманный психометристом.
Кипячу воду, завариваю чай, завтракаю. Все свое: еду не доверяю никому. Ведь эти кусочки, комочки, ломтики, станут частью моего тела, то есть – мной.
Долго стою у окна. Город не вызывает во мне ни ностальгии, ни грусти, ни злости. Ничего. Просто крыши. Кроны деревьев, полоска моря, коробка Оперного. Три года назад я так же смотрел на Париж, ходил по бульварам, сидел в «Ротонде». Через день понял, что опоздал в Париж лет на двадцать; названия улиц, виды, и вообще весь слой культуры, плотно осевший на его старых стенах, меня совершенно не интересуют.
Просмотрел записанное вчера вечером. Н-да, вот уж действительно, днем нельзя объяснить ночное. Прошло всего несколько часов, и я уже не могу понять, что двигало моей рукой. Но ведь это был я, тот же самый В., недоумевающий сейчас со стаканом остывшего чая в руке. Слишком много пессимизма, даже для ночных записок, так недолго и беду накликать.
На человека идут ситуации, к которым он внутренне готов. «Старые психи» постоянно твердят: думай хорошо, и будет хорошо. То есть, мы сами создаем собственное будущее, сначала внутри, а потом, когда форма готова, ее заполняют силы, беснующиеся снаружи.
В фойе я спустился за пятнадцать минут до назначенного срока. Уселся в глубокое кресло возле окна и принялся наблюдать. Из кресла хорошо видны улица и фойе, поэтому Лору я замечу издалека и успею спокойно рассмотреть. Дабы составить впечатление о человеке, мне нужно совсем немного времени, особенно, когда он не подозревает, что находится под наблюдением.
Больше всего на свете я люблю разглядывать людей. Они гораздо интереснее произведений архитектуры, живописи. Человек – главная достопримечательность нашего мира. Звучит банально, но к столь тривиальному выводу я добирался многие годы.
Люди – вот настоящие произведения искусства, тщательно вылепленные, украшенные, отшлифованные. Процесс занимает десятилетия, сквозь лессировку проглядывают ранние слои, написанные совсем другими красками, одежда часто составлена из разных элементов, каждый из которых говорит о многом для глаз, умеющих смотреть.
Долгое время считалось будто речь, главное – что отличает человека от животного. Но это не так. Разговаривают между собой дельфины, пересвистываются попугаи, даже летучие мыши обмениваются какими-то, только им понятными ультразвуковыми сообщениями. Человек – единственное существо в мире, прикрывающее свое тело одеждой. Она характеризует его так же, как почерк, как отпечатки пальцев, как звук голоса. Я могу часами рассматривать толпу на улицах, походку, прически, одежду. Куда занимательнее детектива или «мыльной оперы». И Толстого с Достоевским.
Мужчины за окном были одеты похоже: кожаные куртки черного или коричневого цветов, темные брюки, «дождевая» обувь. Различались только шляпы, тут, в самом деле, проявлялась индивидуальность носителя. В общем, одежка по погоде и достатку. И все таки, даже для погоды и достатка слишком однообразна по стилю. В западном мире так унифицировано одеваются лишь клерки или представители духовных конфессий.
Женщины больше радовали глаз, но в женщинах я, прежде всего, разглядываю походку. Походка никогда не обманывает, выкладывая на свет все тайны ее обладательницы. В психометрических школах девочек специально обучают правильно ходить, прививают привычку. «Привычка – вторая натура» – эту пословицу явно придумал психометрист. Правильное поведение меняет натуру, и постепенно ранее отсутствовавшее качество души вдруг прорезается, словно зуб мудрости.
Женщины на улице резко делились на два типа. Первые, а их было большинство, передвигались тяжелым ходом ломовой лошади. За ними волочился незримый шлейф сотен корзин, кошелок, авосек, кульков и пакетов, их руки, даже пустые, были слегка согнуты в локтях, будто удерживая вес.
Вторые вытанцовывали, точно манекенщицы на помосте. Впрочем, они действительно копировали движения манекенщиц. Главная задача такого рода поступи – продажа. Манекенщицы предлагают одежду, а дамочки на улице предлагали себя в одежде.
Наконец из-за угла появилась женщина с нормальным размером шага и пропорциональными взмахами рук. Она не тащилась, не семенила, не выкобенивалась и не топала, а просто шла. Такое встречается редко, честно говоря, я ни разу не видел такой походки у женщин без хорошей психометрической выучки.
Она прошла за стеклом мимо меня, поднялась на крыльцо гостиницы, спокойно миновала охранника и оказалась возле стойки. На ее вопрос, очередная усталая блондинка за стойкой кивнула в мою сторону. Женщина повернулась и двинулась ко мне. Я поднялся из кресла. Десять секунд на разглядывание и оценку, будто на курсе для «продвинутых». Поехали.
Итак: шатенка, короткая стрижка деловой женщины, крупные черты лица, чувственный рот, чуть впалые щеки, высокая шея, едва прикрытая шарфом, серые глаза слегка прищурены. Ба, да она меня тестирует! Ах, как мило, вот славная девочка.
– Здравствуйте, я Лора, методист центра. Вы В.?
–Да. Очень приятно. А какую школу вы закончили?
Акценты нужно расставлять сразу, без промедления, зачем в прятки играть.
–Четвертую психометрическую в Цфате.
Ого, цфатская – одна из лучших школ Израиля, если не самая лучшая.
– Но я не закончила, сбежала с последнего курса.
– В Одессу?
– Да, в Одессу, домой. Так получилось.
Спокойна, уверена в себе, держится с достоинством. Над ней хорошо поработали, над этой девочкой.
– Вы готовы?
– Давно.
– Тогда едем.
Перед выходом я слегка замедляю шаг и пропускаю Лору вперед. Не замечая подвоха, она уверенно проходит в открытую охранником дверь. Я иду следом и быстренько тестирую ее сзади. Н-да, никакой защиты. Удивляться нечему, этому обучают уже после школы.
На улице приятно бодрящая сырость, холодный ветерок, но дождь кончился.
– Машина за углом, я не смогла найти стоянку, пришлось оставить там.
–Хорошо, хорошо.
Лора извлекает из сумочки ключи и жмет на брелок сигнализации. Огромный шоколадный «БМВ» мигает фарами и слегка взревывает.
– Ого, красиво живут методисты психометрического центра.
– Это машина мужа, выпросила вас покатать.
– Ну, спасибо, я даже не представлял, будто такое существует на свете. Чем муж занят, бизнесом?
– Да, понемногу. Раньше хорошо шло, а последние два года все хуже и хуже. Говорит – наладится, но я плохо верю.
– А сколько вы женаты?
– Три года. Он меня прямо из школы увез. И тоже на «БМВ»
– Забавно, три года назад я как раз читал лекции в Цфатской психометрической.
– Да, я вас помню. Вы, когда приезжали, жили в гостинице на променаде.
– Откуда вы знаете?
– Несколько девочек были в вас влюблены и провожали после лекций. Издалека, чтоб вы не заметили.
– И вы с ними?
– И я с ними. Но я просто так, за компанию.
Ваша жена тоже в Цфат приезжала, с концертами. Мы еще спорили, кто из вас двоих дальше продвинулся.
– Ну, и к какому выводу пришли?
– Тогда нам казалось, что вы, а теперь я уже и не знаю. В школе все выглядело таким ясным, понятным. А сейчас я совсем запуталась и предпочитаю на эти темы не думать. Пожалуйста, поглядите через заднее стекло, пока я буду выезжать.
– Хорошо.
Лора ловко вырулила на полосу, встроилась между машинами, и мы начали медленно сползать вместе со всей колонной к Пушкинской.
На лекциях по психометрии все девочки поголовно влюблены в учителей, поэтому специально приглашают лекторов из других городов, и расписание так составляют, чтоб днем отчитал на всех курсах, а вечером уезжал домой, подальше.
Психометрия открывает в душе великие силы, которые девочки принимают за любовь. Потом «любовь» проходит, словно и не было ничего, и Лоре теперь кажется, будто меня она провожала исключительно «за компанию».
– Отчего такая пробка?
– Вы просто давно уехали из Одессы, в центре теперь всегда так. Правда, сегодня чуть больше обычного, вон и «гаишников» полно. Наверное, кто-нибудь приехал из Киева.
Между рядами машины ловко пробирается на инвалидной коляске молодой парень, почти мальчишка. Подкатив к нам, он останавливается, достает из внутреннего кармана курточки банку из-под «колы» и протягивает к окну. Лицо чистое, не видно следов ни алкоголя, ни наркотиков. Курит много, но больше ничего. Может, действительно жертва.
– Пошел вон! – Лора машет рукой мальчишке. Он покорно засовывает банку обратно за пазуху и катит дальше.
– Тут его рабочее место, ему ноги специально, за деньги отрезали. Родители продали.
– Откуда вы знаете?
– Они все такие, жулики и лжецы.
– А вы заглядывали в его сердце, вы точно умеете распознавать, кто обманщик, а кто действительно беден?
Лора молчит.
– Помните, я рассказывал в школе про принцип психометрии – подавать каждому, кто протягивает руку. Мелочь, но подавать.
– Это в Израиле хорошо, а здесь вы бы с таким принципом давно разорились.
– Милосердие еще никого не разорило.
Несколько минут едем молча. Лора достает пачку сигарет и вопросительно смотрит на меня.
– Курите, курите.
Противно, да деваться некуда. Не запрещать же? Долго все равно не выдержит. Страна третьего мира...
Машину сильно трясет по брусчатке Пушкинской. Пейзаж за окном знаком до удивления, даже цвета фасадов не поменялись, лишь иногда выпирает яркая витрина. Неприятное ощущение беспокойства, опасности. Но откуда, что – не улавливаю. Тестирую пространство, все чисто.
Проезжаем мимо филармонии. Те же коричнево-шафранные стены, сетка от голубей, афиши. Опять гастроли вечнозеленой Ирины Поноровской! Это когда-нибудь кончится или до тех пор, пока стоит одесская филармония, в ней будет гастролировать Ирина Поноровская?
Желтые листья планируют на крыши автомобилей, хрустят под колесами. В Израиле нет листопада. Жить без него можно, но запах мокрой листвы подцепляет воспоминания детства: молодая мама, давно ушедшая бабушка, холод чугунных цепей вокруг памятника Воронцову, засыпанная палой листвой Соборка. Ага, поймал. Вот оно откуда лезет. Детский садик, прогулки по Соборной площади.
В эмоции главное – отыскать корень, привязку. Стоит вытащить его из недр подкорки на свет сознания, как всесильное, казалось бы, чувство превращается в обыкновенный лопух, подорожник. Идет человек по тропинке, а на брюки репья прыгают. Возвращаясь с прогулки, репья надо снимать.
«БМВ» останавливается перед оградой Художественного музея. Следы былой роскоши: желтая краска, словно шерсть шелудивого пса, пятнами сползает с дуги фасада, массивные деревянные двери в паутине трещин, петли и ручки оконных рам в ржавчине. Но внутри тепло и чисто, у стола при входе сидит вахтерша, а в окне гардероба, прямо напротив двери, символизируя незыблемость искусства, возвышается массивная фигура гардеробщицы.
– Здравствуйте, – протягивает руку цапля с носом совы. – Я Таня, сотрудник музея.
Очень милая Таня. Просто очень. Седеющий экземпляр завсегдатая архивов. Таких люблю.
– Прежде чем приступить к осмотру выставки, я проведу вас по постоянной экспозиции нашего музея. Вы сможете познакомиться с работами таких замечательных художников, как Кипренский и Айвазовский, полюбоваться полотнами передвижников Боголюбова и Архипова, насладиться Шишкиным, Репиным, Суриковым, Левитаном. У нас хранятся редкие работы Серова, Врубеля, Коровина, Васнецова...
– Таня, Танечка, – Лора с трудом втискивается между художниками, – не надо так подробно, наш гость одессит и, наверное, не раз бывал в художественном музее. Не правда ли?
Это уже ко мне.
– Правда. Но с удовольствием пройдусь еще раз. И послушаю.
Тане очень приятно. Мне тоже. Оставляю куртку в гардеробе и начинаю двигаться к входу на экспозицию.
– Мужчина, а шляпу?
Гардеробщица при исполнении. От возмущения она выдвинула из приемного окна треть своего монументального торса и негодующе машет рукой. Персты растопырены, словно клешни рака.
Забытые, милые были. На мне небольшой картуз, защита третьего центра. Снимать его в окружении чужих людей я не собираюсь.
– Это наш гость, – приходит на помощь Таня. – Оттуда! – поднимает глаза к потолку.
Что она имеет в виду, я не понимаю, но гардеробщице другого объяснения не требуется. Она втягивается в окно, будто рак-отшельник в раковину. Последней исчезает клешня.
Паркет скрипит, точно вот-вот рассыплется, карнизы в паутине, краска на стенах пузырится и отстает. Только картины не изменились, все те же величественные позы кавалеров, струящийся мех у дам, горы в дымке, луна над морем. Таня рассыпает бисером даты и цитаты, складывает из них замысловатую мозаику. Видно, что живопись она любит. И не просто любит, а служит. Жизнь как приложение к искусству.
– Таня, у меня к вам крамольный вопрос.
Она любит крамольные вопросы, она ждет их, она их хочет. Ого, как глазки загорелись, похоже, в последнее время охотники до крамольных вопросов сильно сошли на нет.
– Взгляните в окно, чем не полотно? Листопад, море. Тучи над морем. Корабли на рейде. Раньше не умели запечатлеть, рисовали картины. Сегодня любой мальчишка с видеокамерой и компьютером может превратить этот пейзаж в картину, куда более красочную.
Таня разочарована. Видимо, ждала чего поумнее. Сейчас, сейчас…
– Художник должен домысливать реальность, дополнять ее, видоизменять. Тогда интересно. Кому, кроме студентов, изучающих историю живописи, интересны старые тусклые картины?
– Вы не правы, картины, которые вы видите перед собою, не просто отображение действительности, а ее художественное переосмысление. Если бы мы могли взглянуть на реалии, которые стояли перед мольбертом живописцев, мы бы, несомненно, удивились, насколько они не соответствуют возникающим на полотне изображениям. Дабы в полной мере понять мастерство художников, мы должны хорошо знать их эпоху, погрузиться в нее, и тогда картины, словно волшебный ларчик, раскроются перед нами.
– Танечка, у кого сегодня есть время погружаться в другую эпоху? Чтобы понять современную музыку, нужно приобрести музыкальное образование. Книги обращаются уже не к читателю, а к другим книгам, живопись понять можно только с экскурсоводом. Искусство уползает в свою нору, превращаясь в эзотерическую секту, освобождая сцену для рок-музыки, детективов в пестрых обложках и аргентинских телесериалов.
– Мужчина, снимите головной убор, вы в музее!
Откуда-то из-за двери выдвинулась еще одна служительница культа, бабулечка вполне домашнего вида, только не в халате и шлепанцах, а в приличном костюме. Сознание исполняемого долга, ответственность перед вечным и возмущение тщетой быта переполняют ее до краев.
– Это наш гость, оттуда! – повторяет прежний прием Таня, но безуспешно.
– Да хоть откуда! Хоть где-то культура должна остаться, хоть в музее! Если мы себя сами не уважаем, кто ж нам поверит?
Жалко бабулю, я ведь для нее просто клапан, пары выпустить, а накопилось, видать, немало.
– Мужчина, вы или снимайте головной убор, или покидайте помещение.
В таких случаях правда проще и убедительнее любых доводов. Поэтому говорю, как есть.
– Видите ли, я психометрист из Реховота и никогда, ни при каких обстоятельствах не снимаю головного убора. Даже перед картинами Рериха. Уж извините.
Бабуля сникает и медленно отползает на исходный рубеж между дверью и картиной Васнецова. Бабуля мне очень мила своей искренней убежденностью в святости музея, в необходимости культуры и в презумпции уважения к ней.
Перед выходом из зала я оборачиваюсь. Бабуля сидит на маленькой скамеечке, горестно сложив руки на коленях, и глядит в окно. Зарабатывает она в музее копейки, жалкие гроши, последнее, что осталось – это уважение к месту, причастность. Если бы не боязнь за третий центр, снял бы я свой картуз, ради нескольких минут ее удовольствия. Улыбаюсь на прощание, самой широкой из своих улыбок, но бабуля не видит. Бабуля смотрит в окно, на одесскую осень.
Наконец, по скрипящему и ноющему, будто соловей на смертном одре, паркету добираемся до собственно выставки. Таня продолжает щебетать и чирикать; мазки, краски, сверхзадача, пост, модерн, сюр, тьфу…
В конце концов, нельзя же настолько не понимать, что пытались изобразить психометристы! Впрочем, психометристами их тоже не назовешь, так, люди первой стадии обучения.
Психометрия полностью вытесняет из организма всякую интеллектуальную деятельность, кроме самой себя. Она – целый самодостаточный мир, которому попросту нет никакого дела до искусства. Если художник по-настоящему погружается в психометрию – он перестает быть художником. То же самое происходит с литераторами и музыкантами.
Я, вообще-то, плохо понимаю цель такого рода выставок. Каждая картина – отдельный мир, и живут в нем не только и не столько краски, но все, из чего составлено полотно. Облачко дыхания художника прочно висит над рамой, брызги его слюны блестят на холсте. Его страхи, почечные колики, жажда, скандал с женой, сладость утреней чашки кофе и первого мазка по чистому холсту стоят перед моими глазами, словно ожившее привидение. Когда на выставке развешивают плотненько десятки полотен, их аура переплетается, и в этой какофонии можно разобрать только самый поверхностный слой, именуемый собственно картиной. По-хорошему, каждое полотно надо вешать в отдельную комнату, ставить перед ним несколько стульев и оставлять в тишине. Посидев полчаса перед каждой картиной, можно уловить дыхание художника. А иначе получается школьная экскурсия...
Говорить все эти слова милой девушке Тане у меня нет ни малейшего желания. Выставка кажется совершенно искусственной, если не сказать надуманной. Повод оправдать зарплату или возможность сшибить грант с одного из западных психометрических обществ. А может, уже сшибли, и все сие великолепие просто отчет за полученные денежки.
Однако вежливо хвалю, слушаю, киваю, но мимо книги посетителей прохожу с деревянным лицом, а прямо попросить Таня не решается. Сейчас, вечером, когда я пишу эти строки, мне кажется, что запись все-таки надо было оставить. Как милостыню подать. Вот замечательный пример хорошей «стойки» на знакомые ситуации и проскальзывания в новой. Да и насчет гранта изрядно ошибся.
– Ну, как выставка? – спросил Мотл. Он прогуливался перед входом в музей, меланхолически поддевая носком ботинка опавшие листья.
– Вот зашел бы, посмотрел, – Лора раскурила сигарету.
– Воздуху, воздуху не хватает. У меня аллергия на старые холсты.
Ай да Мотл, тебя я тоже неправильно оценил.
– Так как выставка?
– Ну-у-у. Так сразу и не скажешь.
Откровенничать в присутствии Лоры мне не с руки. Другое дело Мотл: с ним можно не стесняться. Особенно после его реакции на музей.
Настоящий психометрист избегает ненужных впечатлений. Разрушить с таким трудом создаваемый внутренний баланс проще простого, а вот восстанавливать ущерб, нанесенный случайным въездом в ауру какого-нибудь произведения, приходится довольно долго, и не всегда удается исправить до конца. Жена Лота окаменела от одного неправильно брошенного взгляда. Людям кажется, будто события, в корне меняющие психику, должны быть непременно эффектными. Вовсе не так. Мы люди иного масштаба, и причины, трансформирующие нас, куда менее значительны, чем уничтожение Содома и Гоморры.
– Мотл, так ты покатаешь гостя по городу? – спросила Лора.
Умная девочка, все понимает с полуслова.
– С гиком, с пляской и пивным баром.
– Тогда, до шести? Я тоже приду вас послушать.
Это уже ко мне.
– Спасибо, буду рад видеть вас на лекции.
После «БМВ», мотловский «Ниссан» и тесноват, и не столь уютен.
– Так действительно покатаемся, или сразу на кладбище?
– Давай покатаемся, если время позволяет.
– Позволяет, позволяет. Ну, и, как с выставкой? Впечатлило?
Слова, предназначенные Тане, достались Мотлу. Он одобрительно похмыкивал, но в конце моего монолога, все-таки возразил:
– Да нет у нее гранта, сама эту бодягу затеяла, деньги у деловаров выпросила, картины собственными руками развешивала. Служительница муз, не про нас будет сказано. Но девка изумительная, ходит к нам в психометрическое общество, что-то кроцает у себя внутри, пока на детском уровне, но старается. Вот, выставку заварила, решила осчастливить человечество открытием: мол, психометристы тоже не чужды. Я за ней приглядываю, глазок-смотрок, может, чего путное и выйдет.
«Ниссан» покряхтывает на булыжниках мостовой. Асфальт тротуаров весь в трещинах и разломах, кое-где грубо нашлепнуты свежие заплаты, но и они уже начинают разрушаться. Булыжник оказался долговечнее не только советской власти, но и ее технических средств. Правда, по асфальту все-таки ездить куда удобнее.
Снова ощущение опасности. Вот же напасть! Пространство не хуже, чем обычно, а внутри зудит маленький зуммер – осторожно, осторожно.
Мотл искоса поглядывает в мою сторону, но деликатно молчит. Думает, будто я наслаждаюсь видом Одессы, и не хочет мешать. Поймав мой взгляд, сразу ломает паузу.
–Чувствуешь смену реальностей?
–Чувствую. Декорации те же, но меня уже давно интересуют только актеры. Как в той байке про психометриста в Москве.
– В какой байке, их тьмы и тьмы? Напомни.
– Да ты наверняка слышал, ее мне в Одессе рассказывали, правда, много лет назад. Один «старый псих» вернулся из поездки в Москву. Давно это произошло, в пятидесятых годах, а может и до войны. Телевизор тогда еще не состоялся, все новости узнавали из газет или радио. То есть, визуальный ряд отсутствовал. Ну вот, вернулся он из столицы, пришел на сбор, его молодежь обступила и давай расспрашивать: где был, кого видел, какая она вообще, Москва.
– Я остановился у «психа» А, с ним пошел к Б, через него познакомился с В. Сидели, говорили. Потом поехали к Г.
– Ну а Москва-то, Москва? Огромная, поди? На Красной площади был? А в Кремле? А в ГУМе? – не унимались ребятки.
– Да я ж говорю; видел А., познакомился с Б, поработал с Г, – повторял «старый псих». Но до молодых не доходило. Тогда самый старый из «старых психов» осторожно постучал по столу костяшками пальцев. Все смолкли.
– Наверное, ты прав, – произнес он в наступившей тишине. – А. Б. В. и Г. – это и есть Москва.
– Слышал, – воскликнул Мотл. – Слышал, но забыл. Красивая байка. Что мы из нее учим? Что я зря тебя катаю. Поворачивать на кладбище?
– Да нет, не зря. Давай на бульвар посмотрим, а оттуда сразу к делу.
Вот, елки-палки, чуть не проговорился. Расслабился в приятной компании. Об истинной цели поездки на кладбище я, конечно же, Мотлу не расскажу. Пусть думает, будто навещаю могилы родственников.
На бульваре ничего не изменилось. Те же платаны, скамейки. Даже «Лондонская» того же салатового цвета. Зеленый Дюк грустно глядит в море… Оп-па-па, уже не в море.
– А это что за безобразие?
– Гостиницу построили, «Кемпински» называется, – мрачно отвечает Мотл, – для богатеньких буратинушек. Нашли место, прямо за Морвокзалом. Весь вид перекрыли, ублюдки. Теперь ждем цунами, может, снесет к чертовой бабушке шедевр современного зодчества.
Плохо, Мотл плохо. Минус два очка. Впрочем, чего ожидать от самоучек? Раньше, когда открыто действовали психометрические школы, мальчиков в пятнадцать лет отсылали учиться подальше от дома. Чем меньше привязок – тем лучше учеба. Связь у психометриста должна быть лишь одна – с психометрией.
Человек, на самом деле, проверяется не в больших вещах. Они на виду, в них проще напрячься, перебороть себя. Мелочи, мелочи, вот где зарыты все кошки и собаки. Установить уровень продвижения я могу по двум вещам: по тому, как проверяемый спит и как завязывает шнурки на ботинках. А уж так огорчаться по поводу испорченного вида непростительно даже для начинающего.
Он неровный, Мотл, вернее, ломаный. Для гладкости недостаточно прочитать правильные книги, мало только желания и плохо помогают самые лучшие советы. Психометрию нужно впустить в себя с детства, вдохнуть вместе с запахом старых фолиантов, отрепетировать на школьных уроках. Правильные привычки плохо приобретаются в зрелом возрасте, на месте ступеньки, через которую перепрыгиваешь, зияет пустота.
После женитьбы, оказавшись отцом трехлетней девочки, я спросил одного «старого психа»:
– С какого возраста нужно приступать к воспитанию?
– За двадцать лет до рождения, – ответил он. И тогда я понял, почему мои родители так не хотели Веру. Вернее, понял-то я давно, а вот тогда ощутил, физически, кожей.
В юности кажется, будто противоречия можно затушевать, а несоответствия заглушить. Вера была не из семьи психометристов, но мне представлялось, будто ее любовь ко мне поможет преодолеть все препятствия. Сегодня, спустя жизнь, я должен признать, что ошибся.
Все началось с детского садика. Мы тогда уже жили в Израиле, и я мог спокойно записать девочку в лучшее психометрическое учебное заведение. Но Вера встала на дыбы.
– Не позволю калечить ребенка! – заявила она. – Дадим ей все, а как вырастет, пусть решает сама.








