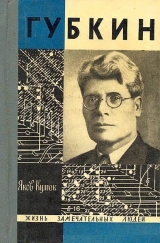
Текст книги "Губкин"
Автор книги: Яков Кумок
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
Глава 3
Река Ока, ее берега и плесы. Сорок два внука бабушки Федосьи. О том, как мир готовился встретить нашего героя.
Начнем с даты, этой обязательной подробности, определяющей вместе с именем личность. Дату называют почти так же часто, как имя; по крайней мере при всех переломных и торжественных случаях жизни: поступая в школу или уходя в армию, устраиваясь на работу или подавая заявление в загс. Дата рождения очерчивает нижнюю границу индивидуального бытия: все, что было до нее, навечно останется прошлым. А что будет после? Каких событий мы станем свидетелями и каких участниками? Все предопределила дата рождения. Она, наконец, необходимейшая из двух цифр, которые в скобках будут следовать за нашей фамилией еще долго после нас – в служебных анкетах или в энциклопедиях: в зависимости от того, как мы постараемся в промежутке между двумя цифрами.
Начнем с даты: 1871.
Ванюша родился третьим из пятерых детей, старшим из братьев, которых было трое, и единственным – осенью, в сентябре. Остальные Губкины предпочитали издавать первый крик весной или летом, и отцу этого крика слышать уже не доводилось. Он возвращался домой не ранее октября, а уходил в начале марта, не дождавшись родов. Бабушка говорила: «Ну и слава богу, самого уродства в младенце не видит». Однако некоторого огорчения скрыть не могла.
Отец был отхожником.
Отхожим промыслом муромские крестьяне кормились издавна и многие; где только не встретишь муромских: на верфях Нижнего, в рыболовецких командах под Астраханью и в бурлацких артелях по всей Волге. Муромского уезда славились кровельщики, каменщики, калачники, матросы и офени (это книжные торговцы, букинисты, они ходили по селам, продавали книги, иконы).
Бурлацкие артели состояли из старшого водолива, он отвечал за сохранность товара (говорили: «за подмочку товара») и заодно плотничал, когда нужно; лоцмана (говорили «дядя», «букатник»); передового в лямке («шишки»), двух косных в хвосту, обязанных лазить на мачту, а при тяге – ссаривать бечеву (то есть очищать ее или, если она зацепится за дерево, куст, что нередко случалось, освобождать).
Так вот, отец был старшим артельщиком. К этой должности предрасполагали его огромная физическая сила, невозмутимость и редкостная памятливость: неграмотный, он вел все переговоры с подрядчиками и заказчиками и без записи держал в уме суммы, фамилии, долги, сроки…
Был он молчалив, несуетлив; росту невысокого; любил костры и ненастья.
Странно, сын крестьянина, он тяготился земельным трудом. Правда, земля семью все равно не прокормит: участок меньше восьми десятин, да от них немалый кусок – болото. Дальше, на восток от родного села Позднякова, шли почвы подзолистые, поплодородней, там и села стояли гуще. А в родном селе – что ж… одни яблони и хороши: анис и боровинка, апорт и бели разных сортов. А поди ж ты, дай Михаилу Губкину земли и посули доход от урожая – все равно не удержать его.
Мартовскими стылыми рассветами поднимался он раньше всех, шел на Оку. Слушал… Снег на льду осевший, умятый, голубы следы от полозьев саней. Скоро ли вскроется красавушка река?
«Миша!.. – билась жена его. – Смотри, соха рассохлась, сеновал обвис… Ить ты мужик в доме…»
Все починит Михаил молча, а вечером, почесывая короткую бороденку, подолгу стоит у плетня, смотрит вдаль.
Вина он не пил совсем и домой из Астрахани приносил рублей до ста – немалые по тем временам деньги. Жил он неразделенный с младшим братом в одной избе, а у того тоже семья… Ртов много, а работников? И Михаилу прощались долгие отлучки, неразговорчивость, непонятная, внезапно на него нападающая тоска…
Выходит, три по меньшей мере качества, небесполезные для ученого, заимствовал Иван Губкин у своего отца. Спокойствие характера, любовь к путешествиям и трезвость. Вина Иван Михайлович не потреблял – разве так, пригубит, сидя за столом с друзьями, и к табачному дыму не мог привыкнуть до конца дней, хотя, бывало, в тоскливую минуту и мял губами папиросу.)
Дом Губкиных в Позднякове – третий от краю в правом ряду. Это если стоять лицом к лесу. А именно так чаще всего стоял и именно в этом направлении чаще всего убегал Ванюша. На взгорье теснился чудесный березнячок, к сожалению, не сохранившийся. Под ним текла небольшая речка Теша. Воды в ней летом по пояс, а местами и по щиколотку; ивы вперехлест закрывают небо. Множество холоднющих родничков вспарывают песчаное дно.
В устье вода – слезной прозрачности – журчит по камешкам. Вот и Ока, безмятежно-хрустальная гладь. Лиловеет бор на правом, высоком берегу, пенится под ним перекат. «Эге-гей!..» – крикнет кто-нибудь просто так, из озорства: звук протяжно висит над водой.
Зимою на Теше расчищали каток. Губкины-младшие особым досмотром не балованы были: пропадали здесь до позднего часа. Коньки из березы стругал отец. А то на санках или на корточках с пригорка – ух!.. Возвращались пропотевшие и промокшие насквозь, в сенях сбрасывали валенки и – шмыгом – по приступочкам на печь. Там пахло овчинной сухостью, кислым тестом и чем-то прогорклым.
Мамка не ложится. На ней весь дом и вся работа – и шитье, и жнитво, и косьба, и пахота…
Небольшое село Поздняково, изб сорок.
И события в нем небольшие происходят.
Нюрка платок купила, в Рязань ездила. Плешаковы опять с Козюхиными поругались, чуть до кольев не дошло.
Кто родился да кто забылся, кто с хлебом зимует, а кто бедует…
Внешний мир не касался села, кажется, со времен татарского нашествия.
И нелегко представить, что он вообще существует, Большой Мир, большие города, большие раздоры и большие раздумья.
По Оке тянули баржи бечевой…
В селе Позднякове не догадывались, но Большой Мир знал, какой мальчик родился в селе Позднякове, знал, что ему предстоит в этом Большом Мире играть видную роль. И готовился к встрече.
Академик Губкин будет неустанно восхищаться продуманным и неторопливым строем доказательств теории актуализма, согласно которой изменчив лик Земли, но неизменны силы, на него действующие. Благодаря этой теории можно мысленно восстанавливать картины далекого геологического прошлого. Теорию эту создал Чарлз Лайель. Другой английский ученый, Майкл Фарадей, открыл и описал явление электромагнитной индукции. А это позволило изобретателям сконструировать точные приборы для магнитных измерений, без которых невозможно было бы разгадать загадку Курской аномалии.
В Большом Мире писались романы, симфонии, трактаты…
Нескольких дней до рождения мальчика не дожил английский баронет Родерик-Импей Мурчисон. Но и он успел приготовить свой подарок: первую геологическую карту России (вернее, ее европейской части). Целый ряд счастливых обстоятельств помог ему в этом. В 1830 году Родерик-Импей, тогда блестящий драгунский капитан, участник африканских походов, полюбил тихую девушку, дочь сослуживца Шарлотту Гюгонин. На беду армии и к счастью для науки, она увлекалась геологией. Под влиянием невесты капитан бросил службу и посвятил себя изучению горных пород. Он объездил весь свет. Много бродил и по российским губерниям. Он любил Россию и впоследствии часто выступал в ее защиту в английском парламенте и в прессе.
В 1869 году Дмитрий Иванович Менделеев составил периодическую систему элементов; в марте 1871 года рабочий люд Парижа построил баррикады и образовал Коммуну – прообраз Советского государства, могуществу которого отдал все свои силы Иван Михайлович Губкин.
Нет, мир не с пустыми руками его встречал, и в этом, право, нет ничего удивительного и ничего мистического. Каждого из нас мир встречает всем своим богатством – надо только научиться этим богатством пользоваться.
Теперь Большому Миру оставалось только послать своего представителя в семью Губкиных.
За кандидатурой дело не стало.
Однажды дверь в избу отворилась и вошла бабушка Федосья.
– Михаил, – обратилась она к сыну, – вот что я хочу тебе сказать. Надо бы Ванюшу в школу определить. Умненький он.
Русские бабушки! Скольких мужей для науки вы спасли, скольких для поэзии воспитали! Матерям все некогда, они в поле да в хлеву, их руки горят от морозов и ушибов. Отцы издерганы заботой о куске хлеба…
У бабушки Федосьи было в селе Позднякове ни мало ни много – сорок два внука! И все голубоглазые и русоголовые. И всех она целовала в голубые глазки и гладила по льняным волосам. Ну как тут руками не развести – разглядела ведь, что в одной из сорока двух головок спрятано нечто большее, чем в остальных.
– Еще чего, – буркнул отец. – Учиться…
Сам Ванюша перекрестился:
– Да минует меня чаша сия…
Но от бабушки Федосьи отделаться было не просто.
Глава 4
Еще о бабушке. Ванюша боится школы. Раскол в семье. Первые понятия о зависти. Закаты на Оке.
Муромского уезда отхожники разбредались весной по Руси. Кровельщики шли в Москву, бурлаки в Нижний, а офени-букинисты сначала во Владимир, где запасались образами (во Владимире много работало иконописцев), лубками и «народной» литературой, оттуда – в южные губернии. На юге, на Дону и Кубани, жили посытнее и грамотность была распространена. Свои – что?.. Темные. Редко в приокские села заходил книгоноша.
Губкин признавался в старости: «…Сам я боялся ее, как чего-то неизвестного… Почему я боялся школы – не знаю».
«…Помню, горячо молился всем святым: «Да минует меня чаша сия…»
Но чаша не миновала. Я начал учиться».
В поздняковскую школу по осени приходило мальчиков двадцать; весной их оставалось семь-двенадцать.
Осенью Николай Флегмонтович Сперанский – обычно вечерами, дождавшись, когда все вернутся с поля, – обходил село, стучался в ставни.
– Петровна! В апреле твоему Сережке стукнуло восемь. А Дарьюшке тринадцатый, и я уж устал напоминать.
– И ктой-то? – доносилось изнутри.
– Учитель.
– С нами вечерять?
– Спасибо. Я по делу. В школу записывать.
– Говоришь, Сережке… Ето откеда же ему восемь? Еще только шесть ему!
– У меня записано.
– Записано… Нешто ты по записанному лучше меня знаешь? Он родился на Бориса и Глеба в том году, когда пьяный урядник приезжал.
Разгоралась перепалка, в результате которой Сперанский торопливо запахивался в сюртук, перешитый из рясы (чего никак нельзя было скрыть), и уходил. Бабы его нисколько не боялись, а мужики сторонились. Был он тощ и долгоног; глаза в красных веках запали, глядели отчужденно и добро. Появился он в селе лет пятнадцать назад – кто говорил, что он поп-расстрига, кто – что смутьян он, высланный из первопрестольной, а девицы подозревали несчастную любовь. Во всяком случае, направление от земства у него было, и место ему предоставили.
Жил он при школе, хозяйства не вел, питался приношениями.
Школа стояла под самым холмом. То была простая изба-пятистенка. Оползень приподнял один ее угол. Полы в ней были наклонены, и мальчишки обожали играть «во всадников»: парты сами скользили. Это, конечно, на переменках; на уроках Николай Флегмонтович между партами ходил и вел разом все предметы: у младшеньких поправлял чистописание, второклассникам давал задачки на сложение, а старшим объяснял священную историю. Классное помещение было одно. Освещалось оно двумя свечами в подсвечниках. Один подсвечник стоял на учительском столе, другой на задней парте. Время от времени учитель подходил к печке, подбрасывал березовые поленья.
За окном шуршала поземка. Выйдя из школы, страшно было подумать, что Николай Флегмонтович остался в ней совсем один.
Бабушка Федосья сшила Ванюше сумку холщовую и тетради из каких-то конторских бланков, ею же где-то и добытых.
Много-много лет спустя, будучи сам уже в дедушкином возрасте, Губкин писал: «Бабушку я не забыл… Чту ее память и сейчас».
В крестьянских семьях – в те стародавние времена – старики нередко в тягость были. «Зажился…» Чтобы показать другим свою необходимость да и самим ее почувствовать, старики встревали в любое дело и разговор.
Бабушка Федосья верховодила в доме и по натуре была женщиной властной. Но властность ее проявлялась спокойно, даже неприметно, как у людей, нимало не сомневающихся в своем праве на власть и в том, что пользуются ею исключительно на пользу ближним.
Все, что она делала, было неприметно, прочно и полезно. Жердочку ли в курятнике прибьет, в огороде ли полет или на завалинке сказки рассказывает. К ней сходились связующие нити в семье, и, когда ее не стало, многое изменилось. Во всех окрестных и дальних селах у нее были приятельницы, которые часто приходили к ней испросить совета. С годами она становилась рассеянней, деятельней и полюбила петь песни.
Она одна догадывалась, что происходит в душе Ванюши. Сейчас это трудно понять, попробуем перенестись в прошлый век.
То, что Ванюша стал учиться, и то, что он без особых усилий занял место первого ученика, сделало его одиноким. Между ним и его сверстниками, между ним и остальными членами семьи будто пролегла пропасть. «Школяр», «ваше превосходительство», – кричали ему на улице. Разум мальчика не в состоянии познать злое. Ванюше казалось, чем лучше он будет учиться и больше работать по дому, тем больше его будут уважать. Получалось наоборот. Особенно злобствовала тетка. Однажды, улучив момент, когда они остались вдвоем, она придралась к чему-то и избила мальчика.
А однокашники не любили его за то, что ему легко давалась учеба.
В предыдущей главе поминалось, что события в Позднякове происходили небольшие. Верно, небольшие. Но может ли быть что-нибудь «небольшое», неважное для детской души, беззащитно подставленной всем впечатлениям бытия? Небольшие события ковали волю и великое терпение.
Ах, но разве это вспоминалось ему после, когда он думал о детстве? Нет, конечно! Вспоминались проказы, вспоминались бескрайние мещерские снега, тропка, пробитая им от дома до школы, и добрый учитель Сперанский.
Глава 5
Философия розового детства. Нефть Майкопа. Структурная карта. Звездный час героя.
Великие рождаются нагими – совершенно так же, как все смертные. Их первые гримасы, желания, шажки по полу, чувства к гувернеру или преподавателю так похожи на чувства, шажки и гримасы всех детей на свете! Может, кой-кто и сочтет это умалением славы, но приходится признать, что детство и юность, эти чаще всего безоблачные отрезки жизни, однотипны у основной массы выдающихся людей. И невольно, читая их биографии, начальные главы слюнявишь скучающими пальцами, ждешь не дождешься, когда же, наконец, герой ухватит за хвост свою Удачу и начнется самое интересное. При этом забывается, что мадемуазель Удача гибка и проворна, шутя выскальзывает из самых крепких объятий, и удержать ее можно, только обладая каменными мускулами или особым приворотным зельем.
Конечно, это шутка. И все же не честнее ли сразу указать страницу с описанием «звездного часа» героя и далее повести читателя по звездному пути, не мороча голову анкетными подробностями «дозвездной» жизни? Не знаем, как там с указанным часом у других героев, а у нашего все в порядке. Был такой час. Нетрудно обрисовать обстановку, предшествовавшую его наступлению. То было раннею весной, точнее, апрельским полднем 1911 года. Иван Михайлович сидел на берегу ручья в тридцати километрах от Майкопа. На коленях держал открытый полевой дневник, справа и слева на траве лежали длинные полосы миллиметровой бумаги с зарисовками геологических разрезов. Нет ни малейшего сомнения в том, что Губкин думал в этот момент о майкопских нефтяных залежах.
Следует заметить, что они представлялись в те времена крайне загадочными. Одни скважины бурно фонтанировали, другие, пробуренные совсем рядом, оставались «сухими». Еще в 50-х годах прошлого столетия Герман Абих доказал, что нефть теснится в выгнутых кверху наподобие колпаков слоях – антиклиналях. «Сухой», следовательно, может оказаться скважина, пробуренная за контуром антиклинали. Однако площадь контура, как правило, десятки квадратных километров.
Чтобы наглядно представить антиклиналь, геологи составляют особую карту – структурную. Мысленно удаляются с поверхности геологические напластования (до нужной глубины) и на воображаемую горизонтальную плоскость наносятся абсолютные отметки искомого пласта.
Вот!.. Иван Михайлович склонился над дневником и острыми карандашными штрихами набросал подземный рельеф. То была структурная карта, но необычная. В 1948 году профессор М.М. Чарыгин, один из учеников Губкина, писал: «Идея Ивана Михайловича и проста и в то же время ее можно без преувеличения назвать гениальной». Сам автор не придал значения своему открытию. Да и мудрено ему было: ведь стаж его геологической работы не насчитывал еще одного года (самому ему было сорок). То, что он придумал, так просто…
Небольшая методическая перестановка! Губкин принял за исходную плоскость не воображаемую горизонтальную, которой в природе-то и не существует, а вполне реальный наклонный пласт, лежащий выше нефтяной залежи. Подземный рельеф получился без искажений.
И что же? Залежь на рисунке извивалась, как ручей, на берегу которого сидел он сам.
Друзья, с которыми Иван Михайлович поделился, поразились силе его пространственного воображения. Они заставили его, не откладывая, сесть за письменный стол и написать статью. Открытие было сделано не одно – целых три. Во-первых, открыта неизвестная науке форма нефтяных залежей (Губкин назвал ее рукавообразной, а американцы, применившие методику Губкина только через двадцать лет, – шнурковой; оба термина бытуют в научной литературе); во-вторых, новая генетическая единица (рукавообразная залежь образовалась в русле древней реки, палеореки, вот почему в плане она так извилиста); в-третьих, открыт новый метод составления структурных карт.
Статья называется «Майкопский нефтеносный район. Нефтяно-Ширванская нефтеносная площадь». Напечатана в 1912 году в Петербурге в типографии Стасюлевича. Вскоре переведена на английский язык.
По данным Ивана Михайловича в Майкопе заложили скважину. Губкину тогда уже было сорок один.
Глава 6
Всего три справки
Справка первая
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Муромский уездный Училищный Совет сим удостоверяет, что Губкин Иван Михайлович, сын крестьянина с. Поздняково, родившийся 9 сентября 1871 года, успешно окончил курс в Поздняковской сельской школе в 1883 году, в чем и выдано ему сие свидетельство. Выдано 10 числа мая месяца 1883 г.
Председатель Училищного Совета (подпись)
Инспектор народных училищ (подпись)
Справка вторая
«В семье началась война. Образовались два лагеря. Во главе одного стояла моя бабушка, ее поддерживал отец. Эта партия была за то, чтобы меня учить. Другая – во главе с моей теткой по матери – была против… Моя тетка в спорах со мной частенько пускала в ход не только доводы, но и ремень.
…Отец свое слово сдержал. Летом из Астрахани он написал письмо бабушке и, прося у нее родительского благословения, настойчиво требовал отдать меня в уездное училище в город Муром.
…Моя участь была решена».
И. М. Губкин,
Моя молодость.
Справка третья
Муром, уездный город, населения 15 679 чел., 8292 мжч., 7387 жнщ. Дворян 232. Духовного сословия 279. Почетных граждан и купцов 2134. Мещан 9376. Крестьян 3235, пр. сословий 423; Церквей 18.
В Рождественском соборе почивают мощи кн. Петра и супруги его кн. Февронии.
Из старой энциклопедии
Глава 7
О том, как шли бабушка с внучком и как пришли в уездный город.
Вззуаа…рр! – грохнула заслонка.
Зовуще-пульсирующее дребезжание перекрыла испуганно чья-то ладонь.
Он открыл глаза.
На потолке шаталось пятно. От горящей лампадки. Водянисто-имбирное с розовым окружением – оно то высвечивало, то опять смазывало тьмой ведомостные объявления: «Несравненная рябиновка Шустова» и «Всенощное бдение, имеющее быть в храме по случаю престольного праздника преподобного Серафима Саровского».
Потолок – и стены – оклеены были газетами, подаренными ему бродячим книгоношей, за которым увязался он и до самого Ананьина сопровождал, жадно дочитывая на привалах весь его запас книг. Вот и лето прошло; ловил в поле сусликов, гонялся за букинистами, помогал Николаю Флегмонтовичу, учителю, – вот и лето прошло.
Вдруг он понял, что проснулся, что бабка и мама уже одеты, за окном темно, и вспомнил все разом: письмо отца с разрешением, и что вечор засыпал тревожно, тягуче и предчувственно-сладко, и что сегодня…
Он дернулся, встал, выхватил из-под подушки рубаху.
На печи, из которой мать достала чугунок, на полу, на полатях спали его бесчисленные братья и сестры, родные и двоюродные: Нюшка, Данька, Яшка, прозванный Суп-мурмын, что, по мнению сельских мальчишек, должно было означать татарское ругательство. Верка свернулась калачиком, а Филимон лежал враскидку, как настоящий мужик… Мать вынимала из чугунка картофелины с налипшим на кожуру снежным порошком соли; укладывала их на застиранный свой платок – рядом с полботинками, пятком яиц, огурцами, чтобы увязать все в аккуратный узел. Что-то пугало ее в Ванюше. Он одевался порывисто, несуразно – резкими толчками натягивал штаны. А глаза его продолжали постороннюю внутреннюю и, видно, пожизненную работу, еще не понятную самому ребенку; и это подневольное напряжение отемняло глаза; по-настоящему голубыми они становились только, когда смотрел он в небо.
– Господи, благослови, благослови, господь, – попросила мать икону над лампадой, а о чем просила, сама не знала; и это вдруг кольнуло сердце ее жалостью к сыну. – Ваня! – сказала она сердито. – Чего суетишься? – и выронила картофелину. Вззуаа…рр! – задребезжала заслонка.
Яшка Суп-мурмын поднялся, сомнамбулически улыбаясь, вышел на крыльцо, постоял не просыпаясь…
Бабушке хотелось село миновать засветло и задами; не часто из Позднякова уводили детей в город не в подмастерья, не на промысел – учиться; конечно, кому какое дело, да ведь люди-то разные, еще возьмет злыдня какая, да хоть та же Доценко-старуха, крикнет что-нибудь этакое, уязвит душу ребеночка, а она и так у него вся светится. И бабушка торопила всех, не позволяя задержаться даже для завтрака.
– Ничего, ничего, – ворчала она. – До омута дойдем, там и посидим, и попьем, и поедим, и отдохнем. Давай.
По тону их с матерью разговора ясно было, что они уже успели повздорить. Ванюша вышел на крыльцо: дверь за собою Яша, конечно, забыл заслонить.
– Ваня! – застонала мать. – Куда он бегить, ну куда бегить, горе непоседливое! Присесть же надо!
Он вернулся в избу, теперь обдавшую его смрадом, и они сели втроем на скамью под печью. Ванюша смотрел в потолок, читал газетные заголовки, как любил это делать по утрам, проснувшись и лежа в постели. На стенах газеты уже ободрали, из пазов между бревен свисал почернелый мох, пахнувший чердаком.
Теша в то лето сильно обмелела. У ивы, по броду, вода едва покрывала подошвы, но была игольчато-холодна и освежила путников. Они поднялись на взгорье, остановились. Отсюда видна была Ока и вся деревня, все ее сорок изб, в иных уже курились трубы; церковь со свежевыкрашенным в бирюзовый цвет куполом и небольшим пожухшим крестом. Ванюше почудилось, будто из крайней хаты, из школы, вышел кто-то высокий, запахнутый в чиновничью шинель. Сперанский прощался с учеником. Солнце уже взошло, но его не видно было за серой пеленой, по которой ползла растянутая туча со свинцовыми вздутиями; оно угадывалось, потому что вода в Оке стала кирпичной и выпуклой.
– Бога помни! И родителей не забывай, – строго сказала бабушка.
В декабре 1937 года академик Иван Губкин, выступая перед избирателями, вспоминал: «Когда бабушка провожала меня, она просила: «Ваня, бога помни и родных не забывай». Мне казалось странным и непонятным, как я могу забыть бога и перестать в него верить, забыть свою бабушку. И что же? Бабушки своей я не забыл, чту ее память и поныне, но относительно бога – слова своего не сдержал».
Болтая, прошли они малинник (на ветках кой-где сохранились ягоды, похожие на капельки свернувшейся бычьей крови), прошли березовую рощу, где через каждые десять шагов попадались муравьиные пирамиды, и у каждой останавливались они, наблюдали работу насекомых.
– Вот, милый, как в старое время говорили: не по себе муравей ношу тащит, да никто ему спасиба не молвит, а пчела по искорке носит, да людям угождает.
– Ба, а почему крыша у муравейника острая?
Бабушка отвечала на Ванюшины «почему» не так, как должна была бы по своему уму и жизненному опыту, а как когда-то, когда она сама еще девочкой была, отвечала ей ее бабушка; и в этом воспоминании детства состояло для нее особенное удовольствие общения с Ванюшей. И когда дошли до омута и присели и Ванюша спросил, почему омут зовут Страшным, бабушка рассказала поверье, которое от своей бабушки слышала; то была старинная муромская легенда о любви татарского воина и русской девушки, дочери священника. Татары обложили Муром, в нем укрылись жители окрестных сел; среди беженцев был священник с дочерью на выданье, а откуда он – то забыто, может, и нашенский, поздняковский батюшка. Наше-то Поздняково – у-у… древнее. Год минул, а муромцы бьются и на стены врага не пускают. И вспомнил батюшка, что зарыл в своей, в нашей, значит, поздняковской Церкви икону темную калужской богоматери особенной чудодейственной силы, и захотел благословить ею ратников, потому слабеть они стали на худых остатних хлебах. Дочь его вызвалась тайком пробраться в село, занятое татарами, и вырыть икону. Старику-то самому не дойти было.
Уж кончила девушка копать, икону тряпочкой обернула и к груди прижала – подняла голову: глядь, молодой татарин-лучник. Встала с колен, исхудалая, глазищи одни, красивая. – Смотрит гордо: убивай, мол, изверг, страха перед тобой нет. Воин полюбил ее с первого взгляда. И она им пленилась, у него было доброе лицо. И стали они украдкой от всех жить в церкви, по ночам он добывал провизию; и забыл он, нарушил свой воинский долг, а она, значит, духовный, религиозный. Кругом война, пожары, а они знать ничего не знают, все забыли… А потом нашли их. Повели его убивать. А она вырвалась, до Оки добежала, до этого самого места – и в омут…
Следующий привал был у трех сосен; от них спуск к реке крут – по белому песку. Бабушка и внучек из реки попили, держась на четвереньках, опять кой-чего пожевали; бабушка попросила:
– Вань! Я сосну. Далеко не ходи, ладно?
Легла на бочок, кулаки под щеку – и заснула.
Ванюша искупался. За ивняком, показалось ему, разговаривают женские голоса. Он оделся, поднялся по белому песку. Вдали уже виднелись-курчавились крыши Мурома. Пламенными язычками горели купола Воздвиженского монастыря.
Муром, если в него вступать по берегу, обманывает движением. Пристань шумна. Мокрое шлепанье босых подошв по мостовой, тугое дребезжание перекатываемых бочек, выкрики грузчиков. Пахнет бревнами, широкой водой и чем-то заморским, хотя импортные товары здесь редки. Сам же городок устойчиво, даже как-то усердно покоен. В нем много вековых лип, таинственных тупичков и высоких оград. По площади катит тарантасик; каурая лошаденка плетется с таким видом, будто вконец разморена жарой; между тем довольно прохладно.
Бабушка скоро отыскала школу, и они вошли за ворота. На крыльце школы стоял невысокий человек с холеной бородкой, курил длинную папиросу, смотрел милостиво и пристрастно во двор, где гуляли мамаши с детьми, одетыми в костюмчики и причесанными так, как никогда и не видел Ванюша. Бабушка, оробевшая, должно быть, еще на улицах, обратилась к человеку на крыльце, и он выслушал ее милостиво и грустно.
– Вот… авось вспомните, господин инспектор… Здрась-те… Губкин Ваня из села…
– Помню, еще бы, как же. Поди, матушка, через дорогу серый дом Поляковых. С ними все договорено. Оставь мальчика, он будет там жить, и уходи скоро и без прощальных сцен.
Через полчаса бабушка уходила. Ваня побежал за ней на средину улицы. Он давно понял – не умом, а предчувствием, – что то в нем нечто, чему все завидовали и восхищались, отчуждает его от сверстников и близких и обрекает на незнакомую жизнь, непохожую на их жизнь. От дедов и от прадедов перешла к нему подсознательная уверенность, что в жизни надо много терпеть, что жизнь и терпение это вроде бы даже однословы. Терпеть труд от зари до зари, терпеть разлуки, голод, боль, вьюгу… Бабушка уходила не оглядываясь. Теша, родной двор, тощие куры, которые не хотят нестись. Это было утром, а теперь – далеко. Ванюше стало горько. Линия крыш над бабушкиной головой смыкалась в поле, открывая квадратные скобки неба. Ванюша стоял насупившись, русая челка падала ему на брови. Он был мужественным мальчиком и сдержал себя.








