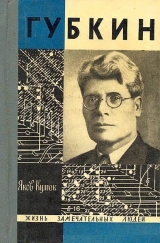
Текст книги "Губкин"
Автор книги: Яков Кумок
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
Глава 29
Еще несколько отрывков из писем. Мировой пожар. Ответ Нины Павловны.
«20.8.1913. На днях я прочел одну повесть Г. Мало – «В семье», где описана жизнь одной маленькой девочки, родители которой рано померли и оставили ее одну на белом свете. Ты не поверишь: я плакал, как маленький. И до сих пор не могу отделаться от впечатлений этой книги. Я поставил себе за правило не обременять себя ни работою, ни излишними заботами, чтобы сохранить бодрость и здоровье для своего ангела, чтобы она выросла на моих глазах. Я умру спокойно, когда буду видеть своих детей выращенными здоровыми не только телом, но и духом, чтобы жизнь была для них радостью, а не мучением… Живу… я теперь в самых отчаянных условиях – и не падаю духом. Наоборот, я очень бодр и трудоспособен. Моя работа идет колесом без сучка и задоринки. Днем езжу по планшету. Палит меня солнце, палит жаркий полуденный ветер, а мне и горя мало. Ищу себе своих ракушек и мурлычу свои песенки и мечтаю о вас, а особенно о своей золотокудрой дочке. Решаю проблемы не только об образовании нефтяных месторождений, но и великие проблемы жизни. Думаю об ее смысле и цели, разумности бытия. И прихожу к мысли, что великий смысл жизни в том, чтобы пользоваться и наслаждаться красотою окружающего божьего мира: солнцем, звездами, широтою моря, шумом зеленого леса, безбрежностью степи и даже миражами окружающей меня выжженной пустыни, в жарком дыхании которой есть своя прелесть и своя чарующая красота. А это общение с миром, с мировою душой возможно, когда твоя душа чиста и от грязных дел и от грязных помыслов, когда ты, сознавая, что счастье в нас и вокруг нас, стремишься к своей радости приобщить, кто тебе…» (конец письма утерян).
Академик Узбекской академии наук Владимир Иванович Попов ввел в геологию понятие о «прерывистой непрерывности» тектонических движений. Кажется, когда читаешь чужие дневники и письма, это понятие становится приложимым к повседневному бытию: сев за стол и подвинув к себе тетрадь или лист бумаги, человек на мгновенье прерывает непрерывное течение своей жизни и этот перерыв фиксирует. Но мы, читатели его письма, знаем истоки и устье, пороги и заводи и разливы великой реки его жизни, знаем прошлое до письма и что было после. «Я поставил себе за правило не обременять себя ни работою, ни излишними заботами, чтобы сохранить бодрость и здоровье…» – увещевает себя Губкин. Извечная мечта неугомонных людей! Тщетно. До самого конца не сможет он остановиться и будет все наращивать и наращивать темп, «…великий смысл жизни в том, чтобы пользоваться и наслаждаться красотою…» Всегда ли сам Губкин помнил о золотом завете, данном себе 20 августа 1913 года?
Обычно к этому времени его тоска по дому, покинутому пять месяцев назад (он уезжал в конце марта – начале апреля, возвращался в ноябре), становилась непереносимой. Губкин никогда не был настолько одержим абстрактной идеей, чтобы хоть ненадолго забыть боль, беспокойство, тоску. Он слишком настрадался в молодости, и страх перед будущим – даже тогда, когда материальное положение семьи упрочилось, – долго его не покидал. Он тяготился одиночеством и писал письма жене.
«Апрель 1914. Занятый в Петербурге всевозможными писаниями, я как-то не чувствую всей остроты боли за вас: то ли потому, что моя голова и сердце заполнены различного рода геологическими соображениями и эмоциями, то ли потому, что я рядом с вами».
В приведенном отрывке одна фраза показалась мне чудесной. Губкин пишет «геологические соображения и эмоции». Эмоции! Наука не бездушна, самые отдаленные истины полны мелодией, очарованием и светом, которые, правда, опознать, разглядеть и расслышать могут лишь к тому подготовленные и творческие натуры.
«7.7.1913. Передай моей родной дочурке, что я каждый день здесь встречаю лису-плутовку, маленькую, с длинным хвостом. Она неизменно утекает от меня. Я за ней вдогонку, кричу: постой, постой, дай я тебя поймаю и пошлю Галеньке. А она остановится, поглядит, вильнет хвостом и снова поскачет.
А раз иду я, а она лежит на солнце и смотрит на меня. Я остановился и тоже смотрю, что будет дальше. Она хоть бы что – ни с места. Тогда я на нее молотком делаю вид, что стреляю. Она мигом соскочила и в нору, которая была тут по соседству – только ее и видел.
Передай моей ласточке, что каждый день я вижу и серого зайчика. Этот бедняжка боится меня. Хоть я ему и кричу: куда бежишь, мы тебя не тронем – мы народ смирный. Не верит – и уходит наутек. Трусит, сердечный… Других зверьков не приходилось видеть, а этих почти каждый день. Их много на Сумгаите».
«Май 1914. Как бы я был счастлив, если бы ты успокоилась от треволнений жизни и почувствовала, что ты не одна на свете, что там в далеком Аджикабуле – за горами, за морями – бьется верное тебе сердце, которое вот уже 16 лет любит только тебя одну и твоих деток, несмотря ни на какие «поерохи и дерябочки», возникавшие как результат переутомления, неудач, вообще тяжелой борьбы с жизнью».
Говорят, семейный очаг юмором жарок, и счастливы супруги, не забывшие юношескую легкость посмеиваться друг над другом. Губкины любили шутить и петь и даже ссоры свои назвали, право же, чудными словечками русскими: выдумали мимолетную ссору называть поерохой – так, дескать, поерошить волосы, а уж коли дело посерьезней, когда ноготочки вылезают – это дерябочка!
Когда в 1910 году Иван Михайлович в первый раз уезжал надолго в экспедицию, вероятно, произошел обычный в таких случаях разговор о верности. Нина Павловна, надо полагать, сказала, что на верность способны далеко не все мужчины, а только «исключительные». И первые свои письма издалека Иван Михайлович подписывает «твое исключение». Однако недолго фигурирует шутливая подпись; вскоре подтверждать свою исключительность отпала всякая надобность. Частенько Иван Михайлович жалуется на неаккуратность Нины Павловны в ответах («3.6.1914. …Томлюсь в неизвестности… Забыла ты меня совсем. Неужели нельзя написать письма… Ведь это ухудшает мое психическое состояние. К непосильной физической работе прибавляется постоянная тревога за тебя и детей».) Проскальзывают нотки недовольства, которые сам же Иван Михайлович хорошо объяснил «как результат переутомления, неудач, вообще тяжелой борьбы с жизнью». Но ни малейшей искорки недоверия между супругами не промелькнуло за все долгие годы совместной их жизни.
«6.6.1914. Мечтаю, что зимой отдохну под вашим крылышком на славу. Буду писать потихоньку, не торопясь. Даю себе слово – горячки не пороть. Все равно толк один, а мучения напрасны».
Ничего не вышло, не удалось ему зимой понежиться в уюте и «писать потихонечку»: спустя двадцать четыре дня, как отправил он это письмо, началась война…
«17.8.1914. …Сообщи, пожалуйста, какое настроение в обществе. Как смотрят на будущее? Нет ли тревожных настроений, вызываемых ходом войны? Оторванный ото всего внешнего мира в такое тревожное время, когда весь мир охвачен пожаром, я положительно теряюсь в различного рода сообщениях, которые мне удается почерпнуть из бакинских газет. Тревога за вас не покидает меня. С чувством страха я всякий раз подъезжаю вечером к Гюздеку, боясь, что вот-вот на мою голову падет какое-нибудь страшное известие. А ты так скудна на письма. Многого мне от тебя не надо. Извещай только, что вы благополучны – и только. Написание открытки в два-три слова отнимет всего две-три минуты, а это принесет мне успокоение И бодрость духа, что только и поддерживает меня, затерявшегося среди пустыни, где, кроме свирепого ветра и палящего солнца, ничего нет».
В одной лишь работе еще находит он упоительные минуты: кажется, чем мудренее загадка, преподносимая ему природой, тем яростнее он за решение ее берется и тем более сильное удовлетворение испытывает от победы…
«30.8.1914. Спасибо, что не забываешь меня, затерянного среди дикой пустыни, летом палимого зноем, а теперь пронизываемого свирепым нордом до мозга костей. Эта прелесть дует уже третью неделю с постоянством и упорством, достойными лучшей цели, чем морозить несчастных чабанов и бедных геологов. Никакая одежда не способна защитить от него, особенно на горах, куда приходится карабкаться каждый день. Там буквально сбивает с ног. Идти против ветра невозможно: нельзя сделать двух шагов – относит назад. О записи и говорить нечего: книжку и карту вырывает из рук и несет за тридевять земель.
Руки коченеют от холода, и кто поверит, что я на Апшероне, расположенном на широте южной Италии. 30 августа надевал башлык, чтобы защитить уши от холода и ветра, и вел дневник, записывая в перчатках, одетый в меховой полушубок. Этот собачий холод сменил невыносимую жару. Я не отметил за все лето ни одного дня, про который можно бы сказать: какая нынче хорошая погода.
Несмотря на это, мы не унываем и работаем энергично. Берем приступом одну гору за другой, атаковывая их вершины с молотком в руках и компасом в кармане. Особенно досталась нам гора Касмали, куда мы ездили целых 9 дней, разбираясь в ее строении, представляющем настоящую тектоническую вакханалию. Но хоть и крепок был сей орешек, но мы его разгрызли с божьей помощью. Коунский лист кончен. Осталось работы на четыре-пять дней – и дело в шляпе. Уже и теперь на душе спокойно. «Исполнен долг…»
Письмо дышит здоровым и усталым возбуждением на славу поработавшего человека. Губкин любил в геологической работе сочетание физических и умственных усилий: нужно много ходить, ездить верхом, наблюдать, сравнивать. Его крепкие мышцы – а он был сильным мужчиной – нуждались в труде. Крестьянин, сын крестьянина! В письме, датируемом концом сентября 1913 года, есть характерная оговорка: «Я только вами и живу… Даже любимая мною геология постольку меня интересует, поскольку она доставляет возможность жить здоровою, крепкою и честною жизнью и зарабатывать кусок хлеба для своих дорогих, близких и любимых – «потрудиться для семьи своей с охотой». Поверишь ли, я даже устали не знаю, когда думаю, что работаю не только для себя, но и для вас». Некий этический идеал Губкина выражен тут явственно, и Губкин верен оставался ему до кончины. Однако поверим ли мы доверчиво во все сказанное в этом отрывке? Садясь писать письмо в конце сентября 1913 года, Губкин на мгновение прервал непрерывное течение своей жизни, мы же знаем все пороги, повороты, извилины и дельту…
Письмо подписано: «Навеки твой Ваня». Я берусь с цитатами и выкладками в руках доказать, что обращение это поставлено было не механически, что Губкин такое именно и испытывал чувство: «навеки твой». Кто бы мог подумать, что, расставшись волею судеб на четыре года, Нина Павловна и Иван Михайлович встретятся потом как чужие люди?! В последний свой полевой сезон перед отъездом за границу Иван Михайлович, словно предчувствуя что-то недоброе, тосковал по семье особенно сильно. «Начало мая 1916. …Скучаю по вас до физической боли. Никогда еще разлука не была для меня так тяжела». «24 мая 1916. В этом году я особенно сильно чувствую свое одиночество».
Весной 1917 года Иван Михайлович был командирован в Соединенные Штаты Америки для изучения тамошних нефтяных месторождений. Нина Павловна сочла за благо переждать голодное время у родственников на Кубани. Иван Михайлович вернулся весной 1918-го. Он бросился разыскивать знакомых: никто не знал, где Нина Павловна, где дети, живы ли они. Только осенью 1920 года смогли Нина Павловна с Галочкой, хлебнувшие много горя и мытарств, добраться до Москвы.
Прежней близости уже не было. Нина Павловна и Иван Михайлович все более отдалялись друг от друга.
В заключение данной главы хочется привести письмо Нины Павловны к Ивану Михайловичу; до сих пор читатель знакомился только с его письмами. Характер отношений между супругами станет читателю еще яснее.
«14.6.1914. Дорогой и милый Ванюша, мой Ванюша) Не знаю, что мне и делать с письмами – я тебе пишу по адресу: Баку, Биржевая улица, дом Бунятова, Московско-Кавказское Т-во и все-таки из твоих писем вижу, что ты не получаешь моих известий. Я послала тебе три телеграммы и два письма: одно – открытку, а другое заказное большое письмо.
О нас ты, милый, не тревожься – выбрось все из головы, а все свои заботы сосредоточь на себе. Подумай сам: дети ведь у тебя не брошены, а оставлены на родную их мать, которая, ты ведь хорошо знаешь, не сделает и шагу от них. Поэтому о нас тебе совсем нет причины беспокоиться. Я бы желала, чтобы ты все силы свои и думы направил к сохранению самого себя. Я в ужас пришла, когда узнала, как ты плохо себя бережешь, не принимаешь никаких мер против укусов комаров. Немедленно купи в аптеке гвоздичного или же, еще лучше, камфарного масла и натри им все обнаженные части тела, и ни один комар не подлетит к тебе. Как можно так беззаботно относиться к себе – у тебя ведь есть маленькое существо, совсем беззащитное, которое прямо-таки безумно тебя любит и тоскует по тебе страшно. Она часто сама по собственному почину начинает спрашивать у меня: «Да когда же приедет папочка? Я хочу его видеть» и т. д. А когда я спрашиваю ее, а вдруг папочка не купит тебе куклу, ты его опять тогда пошлешь в Баку? «Что ты, что ты, – отвечает она, – у меня и так много кукол, нинок всяких, а папочки нет» и т. д. И это все говорит совершенно самостоятельно. Своей бескорыстностью и добротой она трогает меня до глубины души. И крепко, крепко любит своего папу. Даже только ради ее, как самого маленького и беззащитного существа, которому ты и дорог и страшно нужен, необходимо беречь себя, взять себя в руки и не тосковать и не горевать. Время в работах пройдет незаметно – бог даст увидимся скоро. Не тоскуй, мой милый, и не горюй. Так можно и заболеть.
И еще одна просьба: не надрывай себя чересчур сильно работою – уделяй достаточное количество сну, нужное для твоего организма, иначе, систематически недосыпая, ты сильно ослабнешь.
Ты вспомни, ведь ты и зиму недосыпал. А какой толк будет, если ты от переутомления захвораешь. Ты лишишь нас своей поддержки, и мы останемся одни, сирые и бесприютные. Мой совет: вставай ты попозднее, часов в 7 и 8 и возвращайся домой пораньше, чтобы раньше лечь спать. Сон – это главное. Имей также запас нарзану и не пей местной некипяченой воды.
Исполнять эти мои советы дай мне слово, самое честное и крепкое, а то я тебя накажу и ты за целое лето не получишь от нас ни одной строчки. Помни, как ужасно будет, если ты захватишь лихорадку, и как легко ее схватить. Избегай поэтому всего того, что может ей благоприятствовать. Отправляясь на работы, прежде всего натри лицо, руки и уши камфарным маслом, а также надуши им и твой костюм и все твое платье, дальше – пей только один нарзан, которого запаси как можно больше, и ни в коем случае не употребляй сырой воды и, наконец, не переутомляй себя работою, позже вставай и пораньше ложись. Кроме того, не думай о нас совершенно. Поверь, мы благодушествуем и целый день пьем лимонад.
В следующем письме поподробнее напишу про нас, а пока до свиданья. Сообщай телеграммами свои адреса, чтобы я могла туда писать тебе открытки.
Любящая тебя твоя Н.
Детки также целуют и обнимают своего папу. А «большой» Галусь все ждет самостоятельного письмеца от тебя на свое имя. Все мои письма вырывает у меня из рук и говорит, что это ей прислал папа, потому что он ее любит.
Ты ей обязательно пришли самостоятельное письмо, а то она не дает читать мне твоих писем и горько сетует на то, что папа пишет «маме да маме, а своей дочке все нет и нет».
В Азербайджане в те годы свирепствовала малярия, погубившая много жизней. Действенного лечения против нее не было. Опасения Нины Павловны вполне обоснованны, а советуемые ею предостережительные меры соответствуют уровню тогдашних медицинских знаний.
Глава 30
Журнал «Поверхность и недра». К вопросу о периодизации. Отчет за семилетку. Губкин у брадобрея. Квартира на Васильевском острове. Походка. «В Баку мое имя гремит». Российская нефть с точки зрения юридической, политической и научной. Чаша жизни.
Любопытно было бы установить – мне пока этого не удалось, – сам ли Иван Михайлович предложил журналу «Поверхность и недра» свои услуги в составлении сводного труда по российской нефти, в котором все аспекты пользования месторождений, перевозок, торговли и переработки жидкого минерала были бы освещены с подробностью, доступной в рамках журнальной статьи, или же сама редакция обратилась к Губкину с просьбой такую статью написать. В первом случае это лишний раз доказывало бы наклонность Губкина к широким обобщающим рассуждениям, касающимся нефтяных скоплений во всей стране, не только на Кавказе; во втором – подтверждало бы, что уже к 1916 году Иван Михайлович был признан крупнейшим специалистом по нефти. Малоизвестному или второразрядному исследователю редакция столь ответственную статью не заказала бы (она появилась с таблицами и картой в № 9, 1916, под энциклопедически кратким и обязывающим названием «Нефть»).
Ее полноправно можно принять за некую веху, положить межевым камнем на рубеже двух периодов биографии нашего героя. Самая искусно аргументированная периодизация суть тоже некий перерыв непрерывности, насильственный, точнее, воображаемый разрыв времени, которое ведь неломко, не колется и не бьется. Но что поделать, если судьба героя так извилиста, исполнена напряжения и решительных перемен? Поневоле в погоне за ним где-то и остановишься, чтобы перевести дух. Третья часть нашего повествования охватывает шесть с половиною лет. Она начинается с приезда в Нефтяную. Она могла бы быть кончена статьей «Нефть», если бы сама жизнь не положила рубежа более заметного и прямого. Весной 1917 года Губкин отбыл за океан, а когда через год он вернулся, то вернулся в другую страну. Не в ту, которую оставил. И он тоже сразу стал другим человеком.
Значит, остановимся перевести дух.
Нет, остановимся полюбоваться чудом внезапного расцвета, преображения и спелости.
В самом деле, что произошло? Как это все случилось? Кто он был, скажем, лет семь еще тому назад? Студент-переросток, «пришибленный и угнетенный», как он сам о себе говорил, задерганный невзгодами жизни и губительно долгим ожиданием встречи со своим талантом. А сейчас? Накануне отъезда в США? Ему сорок пять лет – о, это маститый ученый, первый авторитет Геолкома, автор открытия, которого одного достаточно, чтобы имя его утвердилось в истории отечественной науки. Сколько ни перебирай в памяти события этих шести с половиной лет, невозможно уловить момента, с которого началось чудесное перерождение героя.
1910 год. Облик Губкина самый что ни есть «народнический». Сапоги, толстовка, борода… Толстовка, панамка, сапоги останутся на всю жизнь экспедиционной его одеждой, «народническая» же борода в тринадцатом или четырнадцатом году исчезла. Событие это, видно, не взволновало ни его, ни окружающих. В народе говорят: «борода глазам замена», то есть она как бы тоже отражает душу; у Губкина же душевный настрой переменился. Раньше на лице его непокидаемо лежал отпечаток затаенной боли, особенно явственно заметный на фотографии 1903 года. Теперь источник страдания исчез. И на лице остались одни усы, придавшие выражение лукавства и сосредоточенности. Потом, лет этак через десять, исчезли и усы, и лицо неожиданно приобрело крестьянскую грузность и властность. (Кое-кто, вероятно, сочтет такое толкование перемен в губкинской наружности поверхностным, но разве не подгоняем невольно лицо наше к душевному нашему состоянию и к той роли, которую собираемся играть среди себе подобных? Актеры это хорошо знают, и выбор парика и накладных бровей для них чрезвычайно важен.)
Открытие невиданной дотоле рукавообразной формы залежи сразу выдвинуло его в число крупнейших инженеров и привлекло к нему внимание нефтепромышленников. Посыпались заказы. Губкин охотно их исполняет. Во-первых, он страшно нуждается в деньгах, а за «гастроли» много платят; во-вторых, он получает возможность осмотреть разбросанные участки. Мозг его с жадностью впитывает геологические впечатления, сортирует, сравнивает и связывает. Губкин проявляет чудовищную наблюдательность и отыскивает новые горизонты, новые виды фауны даже там, где до него их тщательно искали другие.
Почти каждая экспедиция венчается пусть небольшим, но поражающим изощренной наблюдательностью открытием. Губкин показывает превосходное владение методами палеонтологии и стратиграфии. Он как бы пишет небольшие новеллы, но мысль его стремится соединить их в роман с общими героями. Проникая в тайны строения небольших участков («распутывая тектонические вакханалии» – как чудесно выразился он сам!), Губкин неуклонно и несбиваемо рисует общую картину сложнейшего в мире региона – Кавказа. Мало того, ход «от общего к частному» он вводит как важнейший методологический принцип исследования в нефтяной геологии. В том же 1916 году в том же журнале «Поверхность и недра» опубликовал Иван Михайлович свои размышления о методах исследования нефтяных месторождений («К вопросу о задачах и методах исследования нефтяных месторождений»). Нам уже доводилось цитировать оттуда: несколько строчек из упомянутой статьи приводились как образчик стиля. Сейчас мы повторим их, но уже с другой целью – с намерением проиллюстрировать губкинское нововведение.
«По отношению к месторождениям Апшеронского п-ова была допущена та ошибка, что разрешения вопроса о их геологическом строении искали возле этих месторождений на ограниченной площади, когда его следовало искать на территории не только Апшеронского п-ова, но и всей юго-восточной части Кавказа. Выражаясь метафорически, он яснее и ближе виден со снеговых высот Шах-Дага, чем с горы Бог-Бога или со стороны Беюк-Шора. На фоне геологического построения всей данной области и должны изучаться отдельные нефтяные месторождения, входящие в ее состав.
При этом исследование не должно ограничиваться изучением только того, что находится на дневной поверхности, оно должно вслед за буром спуститься в недра земли и там искать освещения и ответов на свои вопросы о деталях строения месторождения. Вместе с этим должен попутно изучаться вопрос о распределении нефти в месторождении и о водоносных горизонтах».
Такова методологическая установка Губкина, в наше время прочно вошедшая в практику. Нужно познать региональный характер отложений, чтобы не ошибиться при оценке локальных залежей. Есть в статье прелюбопытное наставление: «Геолог Должен присутствовать при начале промышленного бытия месторождения и при его жизни – в процессе эксплуатации. Только тогда он получит возможность изучить и понять это месторождение и давать полезные советы промышленным деятелям». Для современного геолога слова эти звучат дико банально! Неужели когда-нибудь кому-нибудь приходилось доказывать самоочевиднейшие истины? Однако приходилось, и потомки должны быть благодарны Губкину еще и за то, что он первый верно угадал великое значение геолога-практика (в начале века геолога рассматривали почти исключительно как представителя чистой науки) и первый страстно боролся за утверждение его в правах.
Последняя выписка из этой статьи: «…если мы стремимся постичь природу нефтяных месторождений, необходимо, чтобы по пути этого стремления геолог, химик и физик шли рука об руку, взаимно учась друг у друга.
Словом «физик» я не случайно обмолвился. Этим я хотел показать, что и для физика в нефтяных месторождениях есть вопросы, подлежащие изучению».
Не забудем: это 1916 год! Еще и слов тогда таких не существовало – «геохимия», «геофизика», – а Губкин приветственно распахивал объятия коллегам из смежных наук, предваряя содружество, которому суждено будет сбыться не меньше чем через четверть века.
Рассказывая о дореволюционных экспедициях Ивана Михайловича, мы старались (насколько позволял объем книги) предоставлять слово ему самому, используя для этого неопубликованную переписку. Сейчас, раскладывая по датам пожухшие странички почтовой старинной бумаги, кой-где подклеенные, кой-где подглаженные заботливой рукой Галины Ивановны, с острым и чуточку застенчивым интересом, каким всегда отзывается в сердце чужая жизнь, живая жизнь, запечатленная в посланиях к любимой женщине, может быть, даже запретных для постороннего (а некоторые губкинские письма прямо-таки ранят своей сокровенностью, интимностью), – со жгучим, повторяем, и стыдливым интересом следишь за извивами мыслей, забот, просьб. Вот самые ранние отправления. Сколько в них еще неизжитой тревоги, незабытых тяжелых переживаний запоздалой студенческой поры. Даже любование видом горных хребтов передано нервной рукой человека, жаждущего успокоения.
Досточтимые письма мужские!
Нет меж вами такого письма,
Где свидетельства мысли сухие
Не выказывали бы ума.
Пастернак
Бегут недели, месяцы… Зиму Губкин проводит в Петербурге, и не сразу вновь привыкает ходить по улицам. Шаг его слишком широк, Нина Павловна еле поспевает. Весной он опять уезжает и возобновляется временно прерванный поток этих восхитительных писем… Тон их становится все добродушней, меньше резкостей, колких замечаний о людях, с которыми приходится сталкиваться. Между тем в семью приходит достаток. В тринадцатом году, 14 сентября, Иван Михайлович решается попросить жену, правда, с некоторой робостью: «Абазов говорил мне, что наверху освобождается квартира типа квартиры Чарноцких. Если не доставит тебе затруднения – перемени нашу квартиру. Не жалей 50 рублей на проводку электричества, буду тебе бесконечно благодарен. Если же это для тебя будет сопряжено с большими затруднениями, оставь мою просьбу без последствий. Как-нибудь проживем и в этой квартире. В тесноте, да не в обиде. Я ни при каких обстоятельствах не выкажу своего неудовольствия. Я буду тогда уходить в Комитет, тем более, что он недалеко».
Квартиру сняли на Васильевском острове. Теперь у Ивана Михайловича появился свой кабинет. Когда хозяин уезжал, кабинет запирали, чтобы дети чего-нибудь не попортили и чтобы квартира не казалась слишком пустой и большой. В мае – июне запирали всю квартиру – Нина Павловна с детьми уезжала на дачу. Зимними вечерами Иван Михайлович писал в кабинете свои статьи и отчеты. Заходили его товарищи геологи из комитета и Горного института. Бывали и нефтепромышленники, искавшие совета или консультации. Их отношение к Губкину по мере роста его славы становилось все предупредительнее.
Письмо, отправленное в июне 1914 года (или 1915. Год не проставлен и предположительно установлен по названию географических пунктов. Не 1912–1913 и не 1916):
«При поездке в Сальяны виделся с Кули и Таги и нанял их снова на все лето. Так что ты успокойся, я буду окружен преданными мне людьми. Утром сегодня я был еще в Сангачалах. Таги как раз в это время приезжал в Баку. Завтра он будет у меня, а 11 июня мы с ним поедем искать пристанища на Гюзде-ке или на Арбате. Начну работы, вероятно, 15 июня, а числа 24–25 поеду в Нафталан по просьбе Бердского. Я очень доволен, что окончилось мое мыканье по степи. По крайней мере буду работать на одном месте – спокойнее и правильнее. А это благотворно будет влиять на мою психику. Окончательно счастливым я буду считать себя, когда напишу и сдам отчеты Кянджунцеву. Кстати, в начале мая он был здесь. Наши отношения с ним прекрасны. Он предупредителен и корректен. Особенно ласков со мной А.О. Гукасов. Так что мои служебные отношения меня совершенно не тяготят. В Баку мое имя гремит, и это, конечно, льстит Кянджунцеву, заполучившему популярного геолога. Для меня он заказывает автомобиль, в котором я буду ездить из Баку в степь, что дает возможность не мыкаться по Сангачалам и Дуванным, а всякий раз возвращаться в Баку ночевать и жить, следовательно, в культурной обстановке».
Гукасов и Кянджунцев – известнейшие и богатейшие топливные дельцы. «В Баку мое имя гремит», – не без гордости, конечно, сообщает жене Иван Михайлович, но вместе с тем, не правда ли, и как нечто уже привычное, уже, во всяком случае, переговоренное между супругами? Кянджунцев не поскупился нанять автомобиль, чтобы облегчить Губкину дорогу к участкам и буровым и обратно. Автомобиль! Да по тем временам одни, может, государственные деятели позволяли себе роскошь пользоваться автомобилем!
А в эти самые дни, как легко устанавливается по архивным данным, в Баку работали такие превосходные мастера разведывательного дела, как, скажем, Апресов и Ушейкин. И стаж инженерный у них к тому времени был не каких-нибудь жалких четыре года, как у Губкина, а добрых десятка два лет. Как же это случилось, что Губкин сумел так запросто их обскакать? Известен каждый его шаг, каждое написанное им слово, нет, кажется, ни одного существенного момента в его биографии, который оставался бы неизвестным, а чудо внезапного расцвета его душевных сил все остается как бы необъяснимым, сказочным и небывалым, как и то спокойствие, с которым он воспринял свое внезапное возвышение.
Таково самое сильное чувство, которое охватывает, когда единым взглядом озираешь жизнь Губкина за шесть с половиной лет, прошедших со дня получения диплома до отъезда за границу. Когда озираешь с высоты, так сказать, птичьего полета. Когда же спускаешься на землю и начинаешь по отдельности разбирать губкинские труды этого периода и видишь, как много и многообразно умудрился он сделать, тогда чувство это исчезает и не удивляешься, что именно ему, а не тем же Ушейкину, Апресову, или Чарноцкому, или профессору Богдановичу, учителю Губкина, пришла в голову смелая мысль собрать воедино все сведения о российской нефти, все соображения научные и практические о ее происхождении, добыче и применении и, обобщив, выпустить в одной статье.
Вернемся теперь в Петербург, на Васильевский остров в кабинет Ивана Михайловича, где была написана статья «Нефть».
Из всего его дореволюционного наследства это, пожалуй, самая богато иллюстрированная цифровым материалом, таблицами, историческими справками, самая смелая и, наверное, трагическая статья. В наше время она представляет лишь биографический интерес, весь ее справочный фонд устарел. Трудно определить ее жанр. Скорее всего – научная публицистика. Редкий, согласитесь, жанр.
Начинается «Нефть» следующим тревожным и крутым размышлением:
«Развитие производительных сил страны – это не только лозунг переживаемого момента, объединивший всех сознательных граждан нашей родины, – это гораздо больше временного лозунга – это альфа и омега нашего независимого государственного бытия. Если мы сумеем действительно развить наши производительные силы и реализовать наши скрытые великие возможности, вера в которые жива у каждого из нас, нашу родину ожидает великое будущее. Если же мы дальше провозглашения лозунгов, как бы ярки они ни были, не пойдем и не сумеем их содержание воплотить в живую кипучую работу, направленную на развитие и укрепление всех созидательных и творческих сил страны и использование ее богатых естественных ресурсов, мы будем обречены идти в хвосте цивилизованного мира, в вековом экономическом рабстве у наиболее культурных и дееспособных народов. Ходом истории мы будем отброшены и увеличим число отсталых и некультурных народностей, которым нет счастья под солнцем, где переживает и развивается наиболее приспособленный и вооруженный для борьбы».








