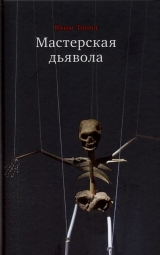
Текст книги "Мастерская дьявола"
Автор книги: Яхим Топол
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Я поспешил назад.
Стоя над ложбиной, я дышал во все легкие. Взглянул на небо – да, луна уже почти полная.
На заднице я съехал вниз, в нашу яму. Там было тихо.
Эй, что происходит?
Они жарят мясо, я это чувствую, а теперь и вижу: ну да, в глине валяется старый порванный ошейник, в тени за кучкой веток что-то посверкивает – так и есть, рожки, это голова Бойка.
– Нет! – кричу я.
– Послушай-ка! – сует мне кто-то бутылку чуть не в самое горло. – Войтек видел Лебо!
– Его русские выкрали! – таращит бельма слепой. Все хохочут, а слепой бешено топает ногами.
Кус отпихнул голову Бойка поглубже в тень. Не буду говорить с ними об этом, они ели коз, еще когда я расхаживал тут всюду как начальник. Теперь я среди них, они меня приняли, поэтому я молчу.
– Лебо выкрали русские! – кричит слепой и тычет кулаками в разные стороны. – Он не хотел уходить отсюда, он защищал свои позиции, так эти сволочи увезли его в Москву, как Дубчека![9]
– Ха-ха, Войтеку повсюду мерещатся русские, потому что он псих!
– Я русака всегда нюхом чую!
– Русские были последними, кого он видел, вот он их везде и чует, ха-ха-ха!
И тут до меня доходит: вот оно что, ни для кого не секрет, что Войтек был пиротехником – наверное, плохим, и глаза ему выжгло петардой во время фейерверка в честь советского вторжения в шестьдесят восьмом. В Терезин тогда входили советские войска.
Слепой бесится, повторяя свои небылицы, я накидываюсь на него вслед за остальными, держу, раз-другой и мне от него достается, и мысли о судьбе Бойка понемногу выветриваются из моего сознания.
Одни сидят на Войтеке, другие лежат сверху… Кто-то подносит ему ко рту бутылку.
Я выкарабкиваюсь наружу. За мной лезет Енда Кус. Он понял: я ухожу, и он рад этому. Раздоры ему тут не нужны.
На, подает он мне что-то завернутое в заляпанную фольгу.
Мясо на дорогу, объясняет Кус. И в придачу сует в руку бутылку красного.
Бывай.
Бывай.
Едва сделав первый шаг, я на всякий случай пошарил зажившими пальцами в карманах: ключ и «Паучок», мои сокровища, на месте; удостоверившись в этом, я потрусил по заросшей свалке, скользя между чертополохом и крапивой, здесь мне знаком каждый стебель… через Манежные ворота я выбрался из города на шоссе и притаился в кювете. Нигде не души. И я двинулся в путь.
Полицейская машина тормозит на обочине.
Я съежился прямо под ней, стараясь слиться с крапивой.
Сижу не шевелясь и слежу лишь, чтобы не звякнула бутылка. Слышу хлопок дверцы, в машине хрипит рация, опер вылезает и мочится в кювет, в ноздрях у меня смесь запахов – винного перегара, мочи и ночи. Наконец они уезжают.
Поток машин редеет. Я выползаю на шоссе. В предрассветных сумерках я вижу огни. Это Прага.
Начинает светать.
Я вытаскиваю из кармана обрывок бумаги, это конверт с адресом пана Мары. Уцелел все-таки. Может пригодиться. Адрес я запомню.
– Белоруссия – это вообще где? – спросил я как-то Алекса.
– Между Польшей и Россией.
– Ясно.
А теперь я делаю шаг вперед, и – «Добро пожаловать в Прагу, где вас ждет хорошая жизнь», шелестит звуковой билборд рядом с гербом города, я швыряю в него бутылкой, на шоссе летят осколки, на них тут же вспыхивают лучи восходящего солнца, как вспыхивали они когда-то на медалях и значках моего отца… как же давно это было!
7.
Грохот. Я открываю глаза, но сон меня не отпускает, визг труб и «бум-бум-бум» барабанов, марш гарнизона, Первомай, празднование Дня Победы, военный парад, что это?.. Я подскакиваю, пытаюсь поскорее вырваться из этого сна, но у меня не получается… за окном я слышу военный оркестр, открываю створку… звук нарастает, так и есть, внизу, на широкой улице подо мной, маршируют солдаты… оркестр, блестящие тромбоны, барабанщики – их чуть ли не взвод, а за ними шагают шеренги пехотинцев в полевой форме, со сверкающими штыками… я опираюсь головой о стену, вдох-выдох, уличный воздух холодит. Гм. Я сажусь на кровати, окно, тумбочка, это гостиничный номер, в одном таком я уже когда-то был.
Теперь я вспоминаю. Прага, наконец-то я там и подзываю такси, как меня научила Сара. А потом – аэропорт.
Как это случилось?
Деревенский увалень в царапинах от чертополоха из кювета. Забинтованные тряпьем ноющие руки. До этого тут никому нет дела. Аэропорт – огромный застекленный зал – согревает.
– Ячейки, багаж? Там, – машет кто-то.
Иду туда, крепко сжимая в кармане ключ от Алекса. И «Паучка».
Она в форме. Ох и испугался же я, ведь еще совсем недавно я уклонялся от струи полицейской мочи.
Красновато-коричневые волосы, большие круглые глаза. Это она.
Марушка с улыбкой берет меня за руку, и я чувствую, что между нами возникла связь.
Взяв у меня ключ, она отпирает ячейку. Брюки, куртка, ботинки, какие-то другие шмотки – все в точности так, как говорил Алекс. Я выношу набитый полиэтиленовый пакет в коридор. Она идет за мной. Туалеты.
– Переоденься там!
– А если кто-то придет?
– Не придет.
Я решил помыться. Прокопченный от пожара, с исцарапанными, саднящими руками.
В пакете, кроме прочего, майка, рубашка и все такое.
Она вошла за мной, и я вдруг почувствовал, что для меня это уже перебор: ее запах, сладкое дыхание… А я в яме с бездомными, потом – пожар, долгий путь по дну кювета. Что будет дальше? Куда меня несет? Меня, который почти нигде не бывал.
Она приподнимает мои руки и внимательно их осматривает. Потом шарит в сумке, висящей у нее через плечо. И принимается мыть мне руки – такого со мной еще не случалось!..
Нежно втерев мазь в мои ладони и предплечья там, где они обожжены, Марушка перевязала их сухим чистым бинтом.
Затем она засучила мне рукав и сделала укол – когда игла проткнула кожу выше локтя, у меня подогнулись колени.
После этого она защелкнула на моих запястьях наручники.
– Доверься мне, – сказала она и повела меня по коридорам.
Мы проходили контроль за контролем, я – как бесплотный дух. У нее были все бумаги, все документы. В самолете я, должно быть, всю дорогу спал.
Гостиницу я тоже помнил смутно, там мы опять шли по коридорам. Лифт. Подъем. Наручников на мне уже нет.
А сейчас я тут один? Но где? И где Алекс?
Я осматриваюсь, оглаживаю забинтованными ладонями крепкие стены. Ковер в номере прожжен, на нем борозды – здесь кто-то явно что-то тащил.
Ванная грязная, тут пахнет чем-то химическим, в сливе – ошметки. На полу, на стуле возле ванны – какие-то инструменты, щипцы, проводки. Коричневые полосы на пластиковой занавеске. Мне-то все равно…
Но гостиничный номер, который мы снимали с Сарой, всегда сверкал чистотой.
Да ладно. Может, здесь кто-то занимается коммерцией.
Я подхожу к окну, звуки военного оркестра опять заглушаются грохотом. И он все приближается.
Тут до меня наконец доходит.
Пробравшись через развалины и пожарища, я сумел-таки удрать из города-крепости.
И никакое дело на меня теперь не заведут, это уж точно.
Это хорошо.
А всесотрясающий грохот все близится.
Я снова выглядываю наружу – такой широкой улицы я еще в жизни не видел, и по ней маршируют полки, солдаты вскидывают ноги.
Ах вот оно что, это грохочут танки, что едут за пехотными полками, на парадах в Терезине танков не было, их бы тамошняя мостовая не выдержала, а в Прагу на парады меня папа никогда не брал, и я опять сажусь на кровать, повторяя про себя: «Что с Лебо? И как там тетушки? А студенты? И вообще все наши?»
Ответов у меня нет.
Из открытого окна доносится шум бронетехники и резкого ветра, а когда мне на лицо ложится пара снежинок, в дверь входит Марушка.
– Оденься, – говорит она. – Тут холодно!
– Где мы?
– В Минске.
Мы обедаем в цокольном этаже гостиницы. У Марушки гладкое после сна лицо, рыжие волосы падают на плечи. Рыба, сосиски, яйца, хлеб. У прилавка, где выдают еду, очередь. Но Марушка может взять сколько угодно в любой момент. Понятно, это из-за ее формы.
Окон нет. Помещение освещает несколько люстр. В углу стоит телевизор. За столом рядом с нами громко треплются парни с бычьими шеями, у некоторых сквозь нейлоновые белые сорочки проглядывают татуировки, они потягивают пиво, шампанское. Говорят между собой по-русски – во всяком случае, я воспринимаю их язык как русский. Нигде не видно туристов или семейных экскурсий, памятных мне по Терезину. Следующий стол занимают девушки – кожаные сапоги, шорты, рубашки или кожаные жилетки на голое тело, косметика, бижутерия. Эти тоже не выглядят как туристки, скорее работают тут. Все дружно жуют.
– Ты ешь икру? – спрашивает Марушка.
– Я ем всё и всегда, – киваю в ответ.
– Будешь пельмени или драники?
– А что лучше?
– Драники наши, белорусские.
То и другое потрясающе вкусно, и всякой всячины на столе немерено. Мне нужно время, чтобы прийти в себя.
– Послушай, Марушка! Что ты вколола мне в Праге?.. И спасибо за руки, – вытягиваю я перед собой забинтованные ладони.
– Успокоительное.
С этими словами она достает из сумки, которую бросила на соседний пустой стул, полотняный мешочек, извлекает из него синюю таблетку и подает мне.
– А это что?
– Возбуждающее.
Сама она тоже одну такую проглотила.
– Это армейская форма? – щупаю я сукно, касаясь ее рукава.
– Нет, – вертит она головой.
– Ты из полиции?
– Конечно, я хотела в полицию или в армию. Но эти свиньи меня не взяли. Это форма Министерства туризма.
– Вот как!
– В Праге я училась на специалиста в сфере туризма и услуг. Поэтому я знаю чешский.
– Интересно.
– Ты будешь еще есть?
– Да.
– Тогда поскорее, а потом пойдем.
– Куда?
– Увидишь.
– Там будет Алекс?
– Увидишь.
Она встала, отодвинув стул. Взяла свою сумку и перекинула ее через плечо. Я пошел за ней, покосился на столик, где сидели девушки, но их там уже не было, испарились. На уголке ее сумки я замечаю значок красного креста. Ясно, медсестра. И этот ее Алекс – медик, все совпало.
Мы выходим на огромную широкую улицу перед гостиницей. Солдат уже нет. На тротуарах местами лежит легкий снежок.
Я не то чтобы затрясся от холода, но все-таки налетевший ветер был ледяной. На Марушке поверх формы зеленая шинель с погонами. Кожаные сапоги, как и на мне. Рыжие волосы она прячет под беретом. Я благодарен Алексу. Ясное дело, за нее. И за одежду, которую он мне приготовил. Может, это его шмотки? У нас почти одинаковые фигуры.
Да, свитер, куртка – все это мне здорово подходит.
Мой спортивный костюм, зубная щетка и пара вещей от тетушек – все это сгорело в «Комениуме». Остальное я бросил в туалете в аэропорту.
У меня всегда было совсем немного собственных вещей. Да и сейчас вообще-то есть всего одна. «Паучок». Я грею в кармане брюк блестящую металлическую штучку, мы шагаем по городу, и нам тепло.
– Это проспект Героев[10], – машет рукой Марушка, и мой взгляд скользит по необозримой улице, которой, кажется, не будет конца.
Дома на этом проспекте Героев украшали огромные цветные портреты офицеров. Фуражки, погоны, медали и все такое. Высотой этажей в шесть, прикидываю я. Папе бы тут понравилось. Но я не могу удержаться от смеха.
В каждом из этих домов могли бы легко разместиться все жители нашего разрушенного городка со своими кошками, собаками и козами. Весь наш сквот. Мастерские радости и все прочее.
Мостовую проспекта Героев покрывает истоптанная грязь со снегом, танки всё здесь превратили в месиво, звуки военного оркестра доносятся теперь уже издалека, пробиваясь сквозь хлопья снега. Вьюжит.
– Мы идем к Марку Исааковичу Кагану, – объявляет Марушка.
Мне-то что до этого, думаю я про себя, мне все равно. А вышагивать рядом с ней по огромному чужому городу мне нравится.
– Марушка!
– Что?
– Мне так хорошо!
– Хочешь еще? – она нашаривает в сумке таблетки, и мы оба берем по одной. – Дорога была долгая, – говорит Марушка.
– А куда идем-то?
– В Музей.
– Здорово! Музей – это то, что надо!
– Не ори. Здесь никто не кричит.
– Извини.
Я рад, что она ведет меня. Не так, как в аэропорту – по коридорам в наручниках. Сейчас она ведет меня лишь плавным покачиванием своих бедер. Я шагаю рядом. Это настоящее наслаждение! Я поскальзываюсь, чуть ли не шлепаюсь на землю.
Ну да, местами тут на тротуаре попадаются куски льда. Но, если не считать этого льда и комьев грязи со снегом, все эти длиннющие улицы, по которым мы идем, чистые. Не то что в Праге, не говоря уже о разбитом Терезине.
Мы сворачиваем с проспекта Героев, Марушка объясняет, как называется каждая очередная улица, но у меня это сразу же вылетает из головы, они здесь все одинаковые: проезжая часть, широкие тротуары, огромные дома, наверху то тут, то там кумачовые транспаранты. Перед первым из них я замедляю шаг, вспоминая Терезин: похожий я видел там незадолго до своей отсидки.
На некоторых транспарантах были желтые звезды, кое-где мелькали красные флаги. Эти яркие пятна несколько оживляли серые улицы.
Гуляки не фланируют тут толпами по проспектам, на фоне грандиозных построек пешеходы кажутся совсем маленькими. Я вспоминаю причудливо извивающиеся пражские улицы, здесь же все просматривается далеко вперед, прохожих можно по пальцам пересчитать. Мы идем мимо очередного монументального дворца – матовая желтизна здания теряется в вышине, в снежных хлопьях.
– Марушка, подожди!
Я задираю голову: раньше мне ничего подобного видеть не доводилось.
– Тебе здесь нравится? – спрашивает Марушка, останавливаясь.
– Да!
– А видел бы ты Дворец телевидения на Коммунистической улице! Или Дворец сухопутных войск, то-то бы впечатлился!
– А это что?
У меня деревенеет затылок.
– Это? Дворец Центрального комитета партии. Но ты не думай, Дворец КГБ нисколько ему не уступает!
На углу улицы собралась толпа. Парни в куртках с капюшонами, как у меня, на некоторых – смешные ушанки или огромные меховые шапки. Такие я точно не стал бы носить. Толпа рассыпается, движется по обеим сторонам улицы. Марушка останавливается.
Слышатся крики, хлопки – это петарды. На обледеневшем тротуаре мы не одиноки. Уже подоспели и другие прохожие, смотрят, как и мы, на толпу. Некоторые заметно нервничают. Пожилая женщина в цветастом платке и с сумками в обеих руках подходит к Марушке, ставит сумки наземь и почтительно говорит ей что-то. Марушка кивает, показывает на толпу, после чего женщина подхватывает свои сумки и проворно семенит в ту сторону.
– Что ей было надо?
– Спрашивала, можно ли пройти.
– Решила, что ты из полиции, да?
И тут я слышу голос из мегафона, который предлагает немедленно разойтись, это-то я разбираю.
Они бегут нам навстречу, как видно, прорвавшись сквозь толпу, молодцы со щитами и дубинками, один из них, поравнявшись с женщиной, которую Марушка отправила в эту толчею, легонько взмахивает рукой – и та, теряя сумки, растягивается на льду.
Молодцы перегородили улицу, выставив впереди себя щиты. Я озираюсь – за мной стоит кучка парней с длинными деревянными палками. К ним подбегают другие. Кто-то кидает жестяную банку, она ударяется о щит, полицейских окружает облако дыма.
Марушка хватает меня за локоть.
Развернувшись, мы стараемся вырваться отсюда, люди расступаются перед нами, пропускают.
За углом спокойно, мы сворачиваем на очередную длиннющую улицу и бежим вдоль огромных домов. Если тут есть бары, я бы не прочь зайти в какой-нибудь с Марушкой. Там можно больше сказать друг другу, думаю я.
– Это была демонстрация, – объясняет Марушка. – Теперь все время так. Не обращай внимания.
– Не буду! Пойдем в бар! Есть они тут?
– У нас задание.
– Ясно. А кто такой этот Каган, Марушка? – спрашиваю я; фамилия мне запомнилась.
– Он тоже из Министерства. Хочет поприветствовать тебя как иностранного специалиста.
– Специалиста по чему?
– По ревитализации мест захоронения.
– А, ну тогда ладно, – говорю я. – А ты хорошо его знаешь, этого Кагана?
– Да, очень хорошо.
8.
Мы все еще шагаем по каким-то бесконечным прямым улицам. Где-то мимо нас со свистом мчатся машины, где-то – нет. Все эти улицы сливаются в моем сознании воедино, а время?.. Мы завтракали или обедали? Я не знаю и не хочу спрашивать. И я совсем не понимаю, где мы, но мне это безразлично.
Марушкина сумка хлопает меня по бедру. Значит, мы совсем близко друг к другу. Ее голова касается моего плеча. Из-под берета выбиваются волосы. Мне хочется до них дотронуться.
Мы всё идем и идем. Кроме моего родного города-крепости и Праги, которую видел мельком, я ни в каком другом городе до сих пор не бывал. Но почему в Минске я все время как будто начеку, готовый увернуться, если что? Ведь тут такие роскошные дворцы с длинными, ровными, прочными стенами! И вдруг я понял, что меня смущает. Я тут отовсюду заметен. Прямо как на центральной площади Терезина. Только там я привык к грядам крепостных валов, к проходам между ними, к катакомбам, а в Праге чаще всего можно залезть, как в рукав, в ближайшую извилистую улочку.
Здесь же меня отовсюду видно.
Где бы я тут мог скрыться? В подъезде дома?
– У этих домов подъезды заперты? – спрашиваю я.
– За этим следят консьержки. Дежурные.
Мало-помалу этот город начинает меня раздражать.
– Послушай, Марушка, почему Минск такой прямоугольный? Словно какой-то детский конструктор.
– Его построили заново. У вас в Праге разбомбили несколько домов, фи, это ерунда. Здесь то, что не расстреляли и не разбомбили немцы, добила советская армия. После войны начали с чистого листа. Никаких больше коротеньких темных улочек, где люди жались бы, как крысы по углам. Нет, красивые широкие проспекты, понял? Чтобы везде светило солнце. Прости, но Прага – порядком грязная и вонючая.
– Неправда! А тут все так странно выглядит.
– То, что ты видишь, это Город Солнца. Это был такой послевоенный проект для счастливых людей будущего, ясно? Таких городов тут построили несколько, на месте сожженных. Но эти Города Солнца были не для всех…
– Нет?
– Ты знаешь, что на окраине каждого Города Солнца находится кладбище?
– Не знаю.
– А должен бы знать. Ведь ты здесь именно поэтому.
– Да?
– Черт! Из-за демонстраций такси не ездят. Тогда двинем наискосок, по подземному переходу, ладно?
– Тебе видней, Марушка. Это ты тут все знаешь.
Мы стоим и ждем, чтобы перейти через улицу. Тускло светятся витрины магазинов.
Сгустился полумрак, как в той гостиничной столовой. Над головами у нас висят набрякшие тучи, готовые выстрелить хлопьями снега.
Между машинами образуется зазор. Мы перебегаем на ту сторону. Шагаем вниз по улице к подземному переходу. Повсюду букеты, цветы в горшках, венки и зажженные свечи. Марушка ведет меня сквозь толпу; тех, кто не отступает в сторону перед ее формой, она отодвигает плечом.
От бетона веет холодом. Слышно, как кто-то играет на гитаре. Люди помогают друг другу зажигать свечи. За их спинами – темнота, подземный переход зияет, как отверстая пасть.
– Марушка, гляди!
Перед нами пробегает крыса. Свечи отбрасывают колышущиеся тени. Теперь я среди шума толпы уже различаю слова. Чей-то голос произносит вслух имена, женские. Люди вокруг крестятся и низко кланяются.
Нет, похоже, тут нам тоже не пройти.
Схватив меня за руку, так что я даже зашипел от боли, она тащит меня сквозь толпу, мы то и дело наталкиваемся на людей.
Путь нам преграждает гроб. Перед ним-то все и кланялись. Вокруг него желтые и красные восковые лужицы. В гробу лежит девушка. На ней белое платье. Нет, скорее серебряное. Принцесса. Длинные волосы, на лбу повязка, расшитая бисером и блестками. Просто красавица. Я наклоняюсь над гробом, вглядываюсь в ее лицо. Это манекен. Она искусственная. Марушка по-прежнему держит меня за руку, мы медленно обходим гроб и оказываемся прямо у перехода.
– Это невеста, ты видел невесту, – шепчет мне Марушка.
В переходе тоже пылают свечи.
– Девушек, которые тут погибли, называют невестами, – говорит Марушка уже во весь голос. – Пятьдесят три, столько их было.
– В войну?
– Вовсе нет! В девяносто девятом.
– Что?!
– Здесь был концерт. Отличные группы, в том числе «Манго Манго», этих я просто обожаю, – объясняет Марушка. И показывает на стену. Зарево свеч. На штукатурке борозды, невысоко. – Это они процарапали ногтями, – говорит Марушка, – толпа расплющила их о стены, о решетки… Там, дальше, – машет она рукой, – решетки, и они задохнулись, их затоптали. На телах были жуткие вмятины от каблуков. На концерт все девушки, само собой, надели самые красивые платья. А тогда носили страшно высокие каблуки. Шпильки называются, они кошмарные. Я на таких никогда не ходила. А на тот концерт я тоже собиралась.
– Так ты тут была?
Подземный переход длинный и темный. Я рад, что Марушка рассказывает мне о своей жизни, но мне уже хочется наружу.
– Ну да, иду я сюда – и тут вдруг встречаю друзей! Случайно. Они где-то раздобыли целую бочку пива.
– Ого!
– И я пошла с ними. Мне повезло. Началась гроза. Публика с концерта побежала в метро. Вот в этот переход. Толпа наткнулась на решетки, а люди продолжали рваться внутрь, не зная, что решетка заперта. Тогда тут затоптали и двоих-троих милиционеров.
– Не может быть!
– Выходит, может. Кстати, отсюда вывод, что это действительно был несчастный случай. Что какие-то недоумки просто забыли отпереть решетку. И что всю эту бойню не устроили нарочно власти, чтобы разогнать молодежь, дошло до тебя?
Не дошло, но я ловлю на себе ее взгляд и киваю. У самой земли мелькают черные тени. Интересно, Марушка боится крыс? Наверное, нет.
– Знаешь, сколько стоит обучить одного милиционера?
Я только машу рукой: ясно, мол.
– Говорят, крови тут было по щиколотку, – говорит Марушка и тоже машет рукой. – Она вся ушла вниз, в подземную реку. Под нами течет Немига. На ее берегах и был заложен Минск.
– Вот как?
– Про кровавые берега Немиги написано в «Слове о полку Игореве», читал?
Я набираю в легкие воздух, чтобы ответить ей по правде, но мы уже выбрались из подземного перехода, и на нас обрушивается метель, ветер с воем подбрасывает вверх груды снега, я ощупью иду вперед в белом тумане, мимо нас пролетает красная вывеска, ударяясь о тротуар…
– Ты где? – выплевываю я снег изо рта.
Завывание ветра тонет в реве моторов, из тумана выныривают грузовики, тормозят, из них выпрыгивают закутанные фигуры – военные.
Этим здесь ни минуты покоя, чертыхаюсь я. Она знает, что делать и куда идти, и по-прежнему тащит меня, мы держимся за руки, ветер взвихривает снег, мы шагаем вдоль стены, еще улица и еще, грузовики уже и тут тоже, я слышу команды, приглушенные ветром, топот ботинок бегущих по улице солдат, мы заскакиваем в подворотню, Марушка смеется – и мы стоим там, опираясь спинами о стену.
– Ты хотел в бар? – спрашивает она.
– Да. Но как же твой Каган?
– Мой Каган подождет, все равно нам сейчас на улицу лучше не соваться, – продолжает она тихонько хихикать.
– Над чем ты смеешься?
– Над тобой.
– Почему?
– Так забавно: ты не умеешь ходить, ничего не умеешь, и при этом ты наш эксперт, просто умора!
И это она еще не знает, что я ни разу в жизни не был в баре, думаю я.
Она показывает на стену: а, звонок!
И я хочу нажать кнопку.
– Погоди, – говорит она, вытаскивает из сумки мешочек и шарит в нем, – давай по таблетке.
Может, их тут все едят?
Она приподнимается на цыпочки и звонит, удерживая на кнопке звонка палец, совсем не такой длинный, тонкий и нервный, как у ее Алекса, пальчик Марушки самый обычный, с не замазанным лаком ногтем, она жмет на звонок до тех пор, пока перед нами не открывается дверь.
Мы оказываемся в коридоре, здесь тихо, открываем следующую дверь, за ней лестница. Свет, тепло, музыка, людской гомон, орущий телевизор. Спускаемся по лестнице вниз – ветер, снег, туман, все это каплями стекает с нас на пол.
«Салодкi фальварк», сладкий хутор, читаю я буквы розовой неоновой вывески. Мы в баре[11].
– Выпьешь чаю? – спрашивает Марушка. – Или еще чего?
Я вижу людей, которые сгрудились в углу перед телевизором, включенным на полную громкость, с экрана вещает усатый бледный человек, одетый в форму, он открывает и закрывает рот, но глаза у него безжизненные, как будто он двоюродный брат того манекена в гробу, той невесты… давясь от смеха, я хочу сказать это Марушке, но она пихает меня локтем в бок, а какой-то высокий здоровяк передо мной, тоже в форме и кожанке поверх нее, тут же с хмурым видом оборачивается на мой смешок.
– Сейчас нельзя смеяться, – шепчет мне Марушка на ухо, – говорит наш президент.
По группе у телевизора словно проходит какая-то волна, я слышу изумленные возгласы «ух!» и «ах!» и улавливаю в них смесь ужаса и злости.
– Господи! Он только что объявил чрезвычайное положение, дурак, – переводит мне Марушка.
– Да? Правда? А что это значит? – интересуюсь я, поняв, что своего чая, видно, дождусь не скоро.
Теперь уже говорим не одни мы – наверное, поэтому кто-то прибавил громкость, так что телевизор орет вовсю, и я, уже разбирая русскую речь, слышу то же, что и все остальные. «Не все только плохое было связано в Германии с Адольфом Гитлером, – выпаливает бледный субъект на экране. – Немецкий порядок формировался веками. При Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики…» И тут из группки людей у телевизора выпрыгивает, как черт, молодой человек, одним ударом он сваливает грохочущий ящик на пол, пинает и колотит по нему, шум голосов, кто-то кричит, другие смеются, некоторые аплодируют.
Парень юрко проскальзывает в другой конец помещения, гоп! – и он уже на стойке бара. В руке у него листки бумаги.
– Тихо! – кричит кто-то. – Он будет читать!
Марушка тянет меня за рукав, показывая подбородком в сторону двери.
– Что?! Опять на улицу, в эту мерзость?
– Пошли отсюда, – шепчет она мне на ухо. – У нас задание. Мы не можем тут оставаться. Сюда скоро нагрянут, вот увидишь.
– Послушай, снаружи их тоже полно, вся улица ими кишит!
– Туда, – кивает она в сторону туалетов. Больше она не произносит ни слова, потому что в баре вдруг воцаряется напряженная тишина. Шуршит только бумага в руке молодого человека на барной стойке.
И вот он запрокидывает голову, воздевает руки вверх и выкрикивает:
Убей президента!
[12]
Убей эту сволочь!..
К голосам, выражающим бурный восторг – видно, это любимое публикой стихотворение, – примешивается женский визг… между тем широкоплечий тип в кожанке и, кажется, еще кто-то мчатся к стойке и уже тянут к чтецу руки, но несколько человек, явно желающих слушать дальше, заслоняют его, начинается всеобщая свалка.
А парень, не обращая ни на что внимания, читает дальше.
Убей же врага, чтобы молодость
твоя не осталась в дерьме,
чтоб край наш воспрянул с гордостью
во славе, а не в ярме!
Чтец на барной стойке вопит, бросая листы бумаги в толпу, слушатели хлопают, свистят, я замечаю в руке у широкоплечего здоровяка пистолет – и уже мчусь вслед за Марушкой к двери туалета, дамского, неудобно мне туда врываться, но на улицу нельзя, там грузовики с солдатами… и вот мы влетаем в туалет, я подпираю дверь изнутри спиной, Марушка лезет вверх по стояку отопления, отсыревшая одежда сковывает ее движения, но ничего, она уже вышибает окошко, просто сбила ногой шпингалет, отличный удар у этой девчонки!.. мы выпрыгиваем во двор, я приземляюсь на четвереньки, протискиваемся между мусорными баками, ветер унялся, здесь тихо, и снег уже больше не скрипит у меня во рту… глядь – крыса, и еще одна… я вижу сверкнувшие в темноте зубки, а потом хвост, шелудивую задницу в пятнах… и вдруг мы слышим: бабах! в «Фальварке» стреляют… я ищу выход, чтобы выбраться из двора, здесь нам оставаться нельзя… однако по крайней мере мы тут ощупью нашли друг друга и сжались в один комок, ну и ну, Марушка, думаю я, здорово же тебя трясет.
– Было бы ужасно, если бы тебя тут сцапали, – тихо шепчет она мне на ухо, – и я бы тебя потеряла…
Это меня растрогало, я прижался к ней еще теснее.
– Алекс содрал бы с меня шкуру, завали я свое первое задание, – поясняет Марушка.
Свет из окна туалета ненадолго заслоняет чья-то тень, мы отодвигаемся друг от друга… после пальбы из «Сладкого хутора» пытаются смыться и другие… не знаю, застрелил ли поэта тот широкоплечий, но куда мне с моим акцентом задавать вопросы… во двор выпрыгивает усатый малый в сапогах и ватнике, кто-то еще протискивается в окошко, совсем загородив собой свет, крупная женщина… изнутри ее, видно, подталкивают, выскочивший детина протягивает ей руку… и она падает в снег, прямо к моим ногам. Массивная фигура, волосы спрятаны под платком. Это Ула, хотя тогда я еще не знал ее имени. Я помогаю ей подняться. Не местная, думаю я про себя, заглядывая ей в глаза… похоже, что боится… не то чтобы у меня было много знакомых белорусов, но этот народ напоминает мне чутких птиц, все время настороже… а она какая-то беззащитная… Ну да, тогда во дворе Ула боялась, но нельзя сказать, что я ее с первого же взгляда до конца раскусил, вовсе нет!
К нам спрыгивают еще несколько человек. Говорят вполголоса. Кто-то – может быть, один из тех, что помогал Уле вылезти в окно, – в полутьме за урнами нашарил железную калитку. Пнул ее, та поддалась. Поодиночке, по двое мы высыпаем на улицу, не произнося ни слова. Мы с Марушкой спешим прочь. Как оттуда выбралась Ула, я не знаю.
Мы шагаем по пустой темной улице. Ни машины, ни прохожего, никого. Мда, не очень-то мы согрелись в этом «Фальварке», Марушка, обнял я ее на ходу. И хотел добавить, что теперь, при чрезвычайном положении, пожалуй, будет безопаснее. Вид у нас самый обычный. Идем себе вдвоем. Торопимся – может, к больному ребенку… А Марушка даже не пытается сбросить мою левую руку, обхватившую ее за плечи. Мы идем. И я счастлив.
9.
У тетки колючие сердитые глаза, она злится и не хочет пропускать нас. Форма? Марушкино удостоверение? Бумаги на русском языке? Просьба по-белорусски? Ничего не помогает. Дежурная как скала.
Только когда Марушка помахала перед ней купюрой, тетка отперла тяжелую дверь. Мы еле успели. Попасть в Музей нам было необходимо. И не только из-за Кагана.
На площади горели палатки. Полиция оцепила сотни демонстрантов, мы в последний момент проскользнули по краю орущей толпы… Демонстранты падали под ударами дубинок, стражи порядка запихивали их в грузовики с заведенными двигателями, мимо палаток бежали люди… я прижался к спине Марушки и толкал ее, одновременно защищая, а она прокладывала путь, я отбивался от окружающих, и мы с трудом пробирались в толпе, которая вдруг рванула назад к палаткам, средоточию всего этого безумия… наконец мы побежали и остановились только перед массивной дверью Музея… до нас все еще доносились звуки с площади, мы слышали крики и рев моторов… но вот привратница взяла у Марушки купюру и открыла дверь.
Здесь, в Музее, тепло. Только дежурная не дает нам пройти дальше. Они с Марушкой что-то скороговоркой выясняют, по-русски или по-белорусски, этого я не понимаю. Оглядываю вестибюль Музея Великой Отечественной войны – на стенах пожелтевшие карты победоносных сражений, черно-белые фотографии давно покойных ветеранов, и все это некогда пышное убранство, флаги и боевые знамена изъедено молью.



