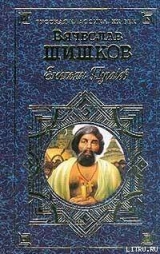
Текст книги "Емельян Пугачев, т.2"
Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 68 (всего у книги 73 страниц)
Случилось это совсем просто и неожиданно. После раннего обеда Акулька пошла в лес набрать «батюшке» к ужину грибков. Пошла она, да в лесу-то и закружилась. Она туда, она сюда, да ну кричать, звать на помощь, никак не может выйти на тропинку. Уж не лесной хозяин, сам леший-лесовик, принакрыл тропу, утыкал ее елками – поди найди... Должно быть, далеко зашла, вся измучилась, последних силенок лишилась, села на пенек, заплакала. Стали чудиться ей волки, вот набегут волк с волчицей и задерут ее. Ни чертенят, ни самого лесовика Акулька не боялась, от этой нечисти крестом да молитвой борониться можно, отец Иван вразумил ее, а вот лесного зверя страшно.
Она подхватила корзинку с белыми грибами и, вытаращив глаза, неведомо куда побежала по лесу. Бежала, бежала, и слава тебе Господи, – наткнулась на желанную тропинку. А стало вечереть, солнце село, даже верхушки сосен погасли. В какую же сторону по той тропе бежать? И девочка Акулечка припустилась влево. Бежит, кричит: «Эй, эй!.. Мужики!.. Я здеся». Вдруг речка, девчонка стала перебираться по лесине, нечаянно оборвалась и бултыхнулась в воду. А вода ключевая, холодная, вода сразу обожгла разгорячившуюся на бегу Акульку. Девочка едва выползла из воды на берег, вся мокрая, и почувствовала резкую боль в ноге. Она приподнялась, прошла два-три шага и снова упала на землю. Больно. Ну, так больно, что ступить нельзя. Она прилегла и застонала. И взглянула на небо, и просила у Бога помощи, чтоб Бог исцелил ей ногу и помог выбраться в стан, – иначе волк с волчицей задерут ее.
– Боженька, миленький, уж ты постарайся...
Ночь наступила холодная. Девчонка не могла согреться, она была мокрехонька и вся продрогла. Ее трясло. Она вскакивала, пробовала идти, но от нестерпимой боли в ноге снова падала, и плакала, и кричала на весь лес.
Вот голову стала обносить дрема. Акулька, похныкивая, впадала в забытье. Какая-то несуразица грезилась, то страшная, то забавная, будто сам царь-батюшка стаю волков саблей рубит, прокладывая путь к Акульке, а возле Акульки цыган-волшебник сидит с зеленой рожей, с синими усами, колдовскую трубку курит, сам песню на три голоса поет, из трубки душевредный дым полыхает. И огоньки... все огоньки, огоньки бегут... много огоньков.
– Аку-уль-ка-а-а!..
– Здеся-а-а!.. – отзывается замест Акульки колдун-цыган и крутит, крутит над своей вихрастой головой волшебной трубкой. И вот с факелами подлетают казаки. Ермилка срывает с нее мокрый сарафанишко, пеленает девочку, как куклу, в свой сухой чекмень, берет ее в седло, говорит ей:
– Эх, ты, диковинка!.. Вот где ты...
Она уж и слова не может вымолвить, впрочем, сказала:
– Грибки не забудьте... батюшке... – Ее била лихорадка, она больше ничего не помнит, ну словно бы провалилась сквозь землю.
Проходил день за днем, Акулька не поправлялась. Армия шла походом вперед, вперед. Девочку перевозили в отдельном экипаже. А на дневках и ночевках ей разбивали маленькую палатку, мужики смастерили походную кровать, натаскали сена. При ней находились по очереди то Ненила, то красивая молодая купчиха Мария Павловна, плененная в Казани и приставленная к пугачевскому семейству. Да и помимо них было много желающих – и мужчин, и женщин – послужить девочке Акулечке: ее все очень любили и жалели. Возле палатки всегда толпа – и днем, и ночью. И лагерь как-то весь стих, и вино не пилось, песни, как по уговору, смолкли. И каждый живущий в лагере чувствовал какое-то тяжкое душевное томление: хоть всем чужая девочка была, но, может быть, поэтому всяк любил ее, пожалуй, не меньше, чем родное свое дитя.
Возле нее сидел Горбатов, прикладывал к голове холодные компрессы. Лицо у нее восковое, кости да кожа, нос заострился. Дыхание прерывистое, взахлеб. Девочка пришла в себя, распахнула большие глаза и осмотрелась. Трошка стоит в красной рубашонке, Ермилка... – Ну, как нога-то, диковинка? – спросил Ермилка, улыбаясь во все широкое лицо. – Болит, нет?
Акулька пошевелила под одеялом той и другой ногой, сказала:
– Нет.
Ногу ей выпользовал костоправ, он ежедневно растирал ее и обкладывал густо намыленным мочалом.
– А где батюшка? – спросила девочка.
– За батюшкой побежали, сейчас придет.
– Ну, здравствуй, девочка Акулечка, здравствуй, милая! – проговорил вошедший Пугачев.
Трошка попятился от отца и вышел из палатки.
– Здравствуй, батюшка, светлый царь... – сказала Акулька шепотом, и в широко распахнутых глазах ее сразу показались слезы. – Грибков... тебе брала... да упала... вот видишь... нога...
– Оздоравливай, доченька, оздоравливай, – наклонясь над девочкой и гладя ее по голове, говорил Пугачев трогательным голосом. Он босиком и в одной рубахе с расстегнутым воротом: в чем был, в том и прибежал. – А то без тебя скука нам!
– Нет уж, – глядя пред собой в пустоту, сказала больная. – Маменька наказывала, ждет... В дорогу надо... В царстве небесном лучше...
Она попросила молока, выпила глоточка три. Ненила притащила свежепросольных огурцов и горячих оладий с медом. Горбатов тотчас прогнал ее. Девочку затошнило, стала она икать и снова впала в забытье...
– Умрет, – прошептал Емельян Иваныч, застегивая ворот рубахи. – Ну а где же лекарь-то?
– Нету, государь, – ответил Горбатов. – Во многие места посланы гонцы... Нету.
– Умрет, – повторил Пугачев, встряхнув головой, и, ссутулясь, вышел.
Он не ошибся. Через два дня девочки Акулечки не стало. Последние ее слова были:
– Я маленькая... Бог мне счастья не дал.
Два крестьянина – отец и сын – мастерили ей гроб, Миша Маленький под двумя липами на холме рыл могилу. Глаза его были мокрые, он пыхтел и прикрякивал. Все в лагере ходили, понурив головы.
Пугачев велел выдать розовой материи на обивку гроба. Позументов не было. Он приказал спороть их с одного из своих кафтанов.
Вся в цветах, покойница лежала в розовом гробу, возле палатки Пугачева. В ее руке лазоревый цветок. И никому не хотелось верить, что девочки Акулечки больше нет среди народа, что она неожиданно ушла из жизни, что над землей только тень ее, однако и эта тень скоро навсегда скроется в могиле. Останется лишь одно воспоминание о погасшем дитяти, но и оно, как ночной туман, развеется: время безостановочно взрывает глубоким плугом ниву жизни, перевертывая вверх корнями все цветы и травы, все воспоминания о прошлом, нетронутыми остаются лишь редчайшие дубы, которым по заслугам их даровано бессмертие...
Цветы... Много цветов... Гроб от самой земли засыпан полевыми цветами. Но еще больше народу, не одна тысяча людей собралась проводить покойницу в могилу, царскую любимицу.
Цветы и солнце, яркое, все еще горячее. Оно согревало своими лучами восковое похолодевшее лицо лежавшего во гробе мертвеца, восковую исхудавшую детскую руку с зажатым лазоревым цветком. Как знать, может быть, маленькой покойнице было приятно погреться на солнышке последний раз и чрез сомкнутые ввалившиеся веки в последний раз взглянуть на пылающее в синеве небес великое паникадило. И вот побелевшие губы девочки Акулечки под угревным солнцем как будто чуть-чуть заулыбались. Нет, это игра блуждающих, неверных светотеней. Нет, нет... Кровь в ее жилах навсегда остановилась, и улыбка на устах – простой обман: смерть припечатала своей неотвратимой печатью и глаза и губы. Вот она, благая смерть!.. В золотистой с багрянцем длинной мантии, с лицом бледным и вдохновенным, с глазами широкими, излучающими таинственный свет вечности, она стоит, словно в сказке, в изголовье розового гроба, опершись на косу с отточенным лезвием. Возле нее кружатся с безмолвным щебетом невидимые ласточки. И никто из живых не видит ни благой сказочной смерти с лучами вечности в глазах, ни порхающих ласточек. Их, может быть, видит любившая сказки девочка Акулечка да еще пьяненький отец Иван, давнишний знакомец зеленого змия и прочей чертовщины. С криком, рыданием, воплем, едва держась на ногах, он продирался чрез толпу к гробу. Его схватили, унесли в дальние кусты и там связали. Он без передыху шумел, что обманет смерть, что сам ляжет в Акулькину могилу, а девчонка-сирота пущай живет. В борьбе с вязавшими его людьми он ослабел, но все еще во всю мочь кричал: «Господи, побори борющие мя!» Однако его угомонили. «Плотию уснув, яко мертв...» – лишившись последних сил и засыпая, мямлил он.
Светило яркое солнце, порхали бабочки. С востока на запад двигалось по небесной пустыне белое крылатое облако. А Нениле казалось, что это ниспосланный Богом по праведную детскую душеньку белый ангел.
Панихиду служил старый-старый иеромонах из соседнего захудалого монастыря. Борода у него древняя, брови древние, голос старый, а голубые глаза молодые, лучистые. Он в черной траурной ризе с серебряным позументом, на голове черный клобук, на ногах березовые лапти. Служил он не торопясь, величественно и строго. Хор из двадцати казаков с Пустобаевым пел складно. Когда иеромонах, взмахивая кадилом и устремив взор к белому облачку на синем небе, стал возглашать: «Со святыми упокой, Господи, душу новопреставленной рабы твоея, отроковицы Акулины, и сотвори ей вечную память», – весь народ вместе с царем-батюшкой опустился на колени и трижды во всю грудь пропел: «Вечная па-а-амять».
Люди плакали. И не оттого только плакали, что жаль было девочку Акулечку, а заодно с ней где-то покинутых чад своих, а плакали потому, что вот пришла какая-то вещая минута, и все, все до единого, и атаманы, и монах-старик, и офицер Горбатов, вместе с царем-батюшкой, – все, все, как один человек, опустились на колени. И душевные родники сами собой у всех разверзлись... Что-то будет, какая судьба-участь ждет каждого?!
Когда гроб опустили в землю, начальник артиллерии Чумаков махнул платком: одна за другой грянули три пушки. На могиле поставили большой крест с надписью: «Здесь лежит всеми любимая девочка Акулина, без роду, без племени. Умерла в августе 1774 года, в армии государя Петра Третьего, при походе».
Этот холм под двумя старыми липами народ назвал «Акулькина могила».
– Вот больше и нет у нас Акулечки, – вздохнув, сказал Пугачев и скосоротился. – Сникла, как цветик на морозе...
И впервые за весь путь он вспомнил с беспокойством о своем Трошке, вспомнил и подумал: «Надо бы приглядеть за мальчонкой...»
Люди все еще продолжали стоять с опущенными головами. Затем начали молча расходиться.
В своем крестном пути от Оренбурга, чрез Башкирию, Казань, Саратов и другие города русский мятежный люд оставил при дорогах неисчислимое множество могил с крестами. То поистине был путь к мужицкой Голгофе – крестный путь!
Прошло время, кресты сгнили, могилы поросли бурьяном, сровнялись с землей и затерялись. И только «Акулькина могила» долго еще бытовала в памяти народной, как приметное урочище, как скорбная веха на большой дороге мужицкого царя.
В начале 1774 года Саратов почти весь выгорел и только с лета стал постепенно застраиваться. Большинство населения жило в землянках, в шалашах. Саратов – крупнейший город Астраханской губернии, в нем насчитывалось более 7000 жителей. Он расположен в котловине между тремя сопками, обходящими город полукругом. С севера над городом возвышается шихан, или гора Соколова, – около восьмидесяти сажен высоты. С юго-запада – меловая гора Лысая и далее – гора Алтынная.
Чтоб руководить новой распланировкой города, в Саратов прибыл астраханский губернатор генерал Кречетников. Кроме распланировки, у него было намерение привести Саратов в боевую готовность на тот случай, если б «злодейские толпы» метнулись в эту сторону. Но из Сената от князя Вяземского было получено весьма запоздалое распоряжение возвращаться губернатору в Астрахань, так как угроза для Саратова совершенно миновала: Пугачев вдребезги разбит под крепостью Татищевой, а ныне за ним гоняется по всей Башкирии неустрашимый Михельсон.
Уезжая в Астрахань, Кречетников «все правление воинских дел по городу» поручил коменданту полковнику Бошняку. Таким образом, Бошняк назначался единственным распорядителем по укреплению города и начальником всех войск, в нем находящихся.
Вот тут-то и начались всякие пререкания между начальствующими лицами. Так, управляющий конторой опекунства иностранных поселенцев Ладыженский по всему Саратову кричал, что он первое лицо в городе, что он крайне обижен губернатором, который предпочитает ему Бошняка, что он, наконец, бывший бригадир, а ныне носит чин статского советника и ни в коей мере не считает себя обязанным подчиняться какому-то полковнику Бошняку.
А находившийся в Малыковке и вызванный в Саратов поручик Державин вообще-то никакого начальника над собой не признавал, кроме власти государыни Екатерины. Да и на самом-то деле, рассуждал он, со смертию главнокомандующего Бибикова не губернатор же Кречетников над ним, Державиным, начальник! Правда, несколько побаивался он генерал-майора Потемкина, сидевшего в Казани, страшноват ему был и новый главнокомандующий Петр Панин, сидевший в Москве. А какому-то захудалому коменданту Бошняку он волен только приказывать и ни в коем случае не подчиняться. И вот трое впряглись в воз и потянули его всяк в свою сторону.
Во второй половине июля докатилось до Саратова поразившее всех известие: Пугачев выжег Казань и перебрался на правый берег Волги.
И начальство и жители сразу повесили носы, все въяве представили себе грозившую городу опасность. Как быть, что делать?
24 июля состоялось военное совещание. Пришли к заключению, что обширно раскинувшийся Саратов, окруженный высокими холмами, не может быть укреплен вполне: не хватает ни времени, ни средств, да к тому же и воинской силы маловато, артиллерии и вовсе недостаточно – всего четырнадцать чугунных пушек, да и те на обгоревших при пожарище лафетах. Было вынесено довольно странное, ничем не подкрепленное постановление: самозванца к Саратову не допускать, а встретить его в поле и разбить. В случае же неудачи и чтоб было где воинским частям и жителям укрыться, устроить земляное укрепление вблизи города, на берегу Волги, там, где опекунские провиантские магазины с хранившимися в них 30 000 четвертей муки с овсом.
Ладыженский, как бывший инженер, запроектировал укрепление, а Бошняк обещал выслать на работу городских жителей. Поручик же Державин снова выехал в Малыковку, чтоб там собрать и вооружить 1500 человек крестьян на помощь Саратову.
На третий день после военного совещания комендант Бошняк получил от князя Щербатова уведомление, что Пугачев трижды разбит Михельсоном и ныне он, с остатками своей толпы, удирает на переменных лошадях к Курмышу и Ядрину, за ним по пятам гонится граф Меллин и другие военачальники, а посему «городу Саратову опасности быть не может».
И в тот же день было получено из города Пензы другое ошеломляющее известие, находящееся в полном противоречии с уведомлением князя Щербатова: «Пугачев с толпой в 2000 человек приближается к Алатырю», то есть, в общем, держит путь на Саратов.
Кому же верить: князю ли Щербатову или пензенской провинциальной канцелярии? Бошняк поверил князю и до выяснения обстоятельств прекратил меры по укреплению города. Статский советник Ладыженский, возмутясь беспечностью Бошняка, велел своему сподручному чиновнику Свербееву вызвать Державина из Малыковки в Саратов. «Эти пречестные усы (Бошняк), – писал Свербеев Державину, – обеззаботили всех нас своим упрямством. На заседании некоторые с пристойностью помолчали, иные пошумели, а мы, будучи зрителями, послушали и, пожелав друг другу покойной ночи, разошлись, и тем спектакль кончился. Приезжай, братец, поскорее и нагони на него страх!»
Желая сохранить за собой мнение, как о человеке влиятельном, поручик Державин немедля выехал в Саратов «наводить страх». Но страх и без того навис над городом и начальством: было получено известие, что Пугачев занял Саранск, находившийся всего в трехстах верстах от Саратова, и что силы его огромны.
Начался кавардак, суетня, а между начальством обоюдные упреки, свара, перепалка. Одно за другим возникали заседания с недоговоренностью, противоречивыми постановлениями, бранью и угрозами. Рыжий, воинственного вида Бошняк, поддерживая огромные, ниспадавшие на грудь усы, настаивал, что оставить город без защиты он не может, потому что «церкви Божии будут обнажены, к тому же острог с колодниками и немалое число вина останется на расхищение злодеям». Тучный, коротенький Ладыженский, оправляя круглые большие очки на маленьком носу и седой парик, доказывал, что город защищать не стоит, так как почти все строения истреблены пожаром, и возобновлять городской вал не позволяет время. Ладыженского поддерживали и его клевреты. Задирчиво вел себя, потрясая шашкой, и Державин.
– Мы думаем сделать укрепленье внутри города, чтоб укрыть в нем собор, женский монастырь, Никольскую и Казанскую церкви, воеводскую канцелярию с острогом, дом соляной конторы и винные погреба, – говорил Ладыженский, ссутулившись и упираясь в стол мясистыми кулаками. – Я, как бывший инженерный бригадир, составил сему укреплению прожект.
– А я ваш прожект и смотреть не стану, – возразил Бошняк, топорща длинные усы. – В военном отношении он сущий вздор: тогда пришлось бы сломать многие дома, дабы удобнее по неприятелю пальбу производить. И вашего прожекта я утверждать не намерен.
– Вот что, почтеннейший господин полковник, – снова поднялся тучный, низкорослый Ладыженский и, запыхтев, сбросил на стол круглые очки. – Я не могу надивиться вашему упрямству. Вы возмечтали, что вы комендант, но вы вовсе не комендант, ибо коменданты ставятся только в крепостях, а Саратов не есть крепость. И по вашей должности вы никому не имеете права делать приказаний, кроме батальонных солдат. Сие и прошу принять в память. Во всяком разе начальник здесь не вы, а я!
Бошняк завертел во все стороны рыжей, гладко причесанной головой и не успел рта открыть для возражения, как на него напустился Державин:
– Если его превосходительство астраханский губернатор Кречетников, отъезжая отсюда, не дал вам знать, с чем я прислан в сторону сию, – проговорил молодой задира, – то имею честь вашему благородию объявить, что я прислан сюда от имени покойного генерал-аншефа Александра Ильича Бибикова, вследствие именного ея величества высочайшего повеления по Секретной комиссии, и предписано по моим требованиям исполнять все. Все! – выкрикнул Державин, облизывая губы и широко распахнув глаза.
Не удостоив Державина даже взглядом, обращаясь только к Ладыженскому, Бошняк спокойным голосом сказал:
– Предполагаемое вами укрепление провиантских магазинов не имеет цели: ведь туда, за дальностью расстояния от города, трудно перевезти и собрать имущество жителей. А гораздо сподручней было бы перенести укрепление на Московкую дорогу, оно находилось бы как раз на прямом пути наступления мятежников.
– Нет-с, Иван Константинович, – ответил Ладыженский коменданту Бошняку. – Разговоры наши кончены, и я не дам вам из своего ведомства ни своих команд, ни мастеровых для исправления пушек.
Обескураженный Бошняк направился домой и нашел там предписание губернатора Кречетникова, где вновь требовалось от Бошняка, чтобы он в качестве коменданта взял на себя оборону города: «К чему находящихся тамо во всех командах воинских людей собрав, употребить на защищение и отпор в случае нападения, а именно: всех состоящих при опекунской и соляной конторах казаков истребовать, несмотря ни на какие отговорки, чтобы все они отданы были в команду и распоряжение ваше». Кречетников приказывал ордер этот секретно показать Ладыженскому и начальнику соляной конторы, дабы они не имели права чинить Бошняку каких-либо препятствий. Державин же в бумаге совершенно не упоминался, как чин второстепенный и прямого касательства к обороне Саратова не имеющий.
В тот же день Бошняк поехал к Ладыженскому, где сидел и Державин с начальником соляной конторы. Раздеваясь в прихожей, он слышал из-за дверей громкий голос Державина:
– Эх, уж эти мне пречестные усы! Я на вашем месте, господин Ладыженский, не постеснялся бы арестовать его...
После объяснения с Бошняком Ладыженский согласился осмотреть избранные комендантом места для укрепления. Бошняк повторил требование передачи ему всех команд и присылки двадцати артиллеристов, но Ладыженский это отклонил, заявив, что он с опекунской конторой «у губернатора не под властью». Бошняк после такого афронта со стороны Ладыженского был совершенно обескуражен: город покидался беззащитным. Что же оставалось делать Бошняку? Ему оставалось плюнуть в кулак и ударить этого толстого битюга по физиономии. Но Бошняк сдержался. А тут еще за чаепитием, которое устроил Ладыженский, на незадачливого Бошняка наскочили приглашенные.
После этого «дружеского» чаепития Бошняк ретировался к себе и (2 августа) описал положение дел Кречетникову. «Державин и другие, – доносил Бошняк, – всячески, ругательными и весьма бесчестными словами поносили и бранили, а он, г. Державин, намерялся меня, яко совсем, по их мнению, осужденного, арестовать, в чем я, при теперешнем весьма нужном случае, ваше превосходительство, и не утруждаю, а после буду просить должной по законам сатисфакции».
Бошняк вынужден был от всех склочных дел себя самоустранить, а на его место, по собственному хотенью, вступил предприимчивый Державин. Он собрал купцов, явился к ним в магистрат и потребовал, чтоб немедленно было приступлено к постройке укрепления и чтоб высланы были на работу все без исключения трудоспособные. Он призывал защищаться до последней капли крови и грозил, что если кто окажет малодушие, тот будет, как изменник, скован и отправлен в Секретную комиссию. Перепуганное купечество дало подписку, что за измену они сами себя обрекают на смертную казнь. Подписал эту бумагу и первостатейный купец Федор Кобяков, впоследствии сыгравший при занятии Пугачевым Саратова виднейшую роль. Независимо от этого Ладыженский пригласил к себе, тайком от Бошняка, пять подчиненных коменданту офицеров. Руководимые Ладыженским и Державиным, они наспех выработали и подписали особое постановление. В нем говорилось о том, что немедленно нужно приступить к устройству укрепления только возле конторских магазинов, а не распространяя его на другие части города, как это предполагал Бошняк, ибо оборонять город по широкому фронту невозможно – упущено время и нет достаточного числа команды и орудий. Тут же отмечалось, что Ладыженский, будучи в чине бригадира, в распоряжении Бошняка состоять не может. Далее – коль скоро замечено будет приближение к городу злодеев, то, оставя в том укреплении небольшое число военных людей, с прочей командою идти навстречу злодеям и стараться разбить и переловить их. В следующем пункте постановления поручалось артиллерии майору Семанжу привести в боевую готовность все пушки и расставить их по батареям. «В рассуждении же того, чтобы помянутые злодеи не покусились прокрасться Волгою, коменданту приказать, в случае близости злодеев к городу, стоящие во множестве суда затопить или сжечь, а на берегу сделать батареи». В постановлении еще значилось несколько второстепенных пунктов.
Бошняк не принял это постановление и донес о том Кречетникову. Его взорвало выражение «коменданту приказать». В ответ на подобный захват власти Ладыженским самое лучшее, что мог бы предпринять Бошняк, – это немедленно арестовать Ладыженского, а может быть, по военному времени, даже и повесить, а власть взять в свои руки. Но Бошняк на подобный поступок не решился, он только внешним видом походил на старинного разбойника, на самом же деле нраву был тихого, к тому же, кроме «всечестных усов», он ничем не обладал, у Ладыженского же была немалая заручка в Петербурге и порядочное именьице под Костромой. Так ли, сяк ли, но дело с обороной продолжало оставаться в плачевном состоянии. Если б поблизости находился главнокомандующий Панин, немедленно было бы учреждено единовластие и все сверчки разлетелись бы по своим шесткам, но Панин все еще барствовал в Москве. Бошняк все же тужился, как находил нужным, делать свое дело. Державин немедля сообщил в Казань Потемкину о том, что много труда и хлопот положил он в борьбе с комендантом Бошняком, но что «теперь все привел в подобающий порядок». Бошняк же, чтоб сбить спесь Державину, тем временем послал ему копию полученного письма губернатора Кречетникова, в коем, между прочим, тот предписывал «объявить Державину, чтоб он оставил Саратов и пребывал на Иргизе, в Малыковке, неподвижным»[65]65
Предписание Кречетникова Бошняку от 27 июля. – В.Ш.
[Закрыть].
Впоследствии, когда Пугачев разгромил Саратов и ушел дальше, была получена Державиным от Потемкина из Казани бумага, где между прочим Потемкин писал: «К крайнему оскорблению, из вашего рапорта вижу, что саратовский комендант Бошняк, забывая свой долг, не только не вспомоществует благому учреждению вашему к охранению Саратова, но и препятствует укреплять оный: того дня объявите ему, что я именем ея императорского величества объявляю, что ежели он что-либо упустит к восприятию мер должных... тогда я данною мне властию от ея величества по всем строгим законам учиню над ним суд».
Эта взбалмошная попытка недалекого человека ввязываться в несвойственные административно-военные дела неподвластного ему отдаленного края лишний раз показывает, до какой степени истрепались к тому времени колеса государственного механизма. Почти всюду наблюдалось среди ответственных чиновников отсутствие сознания долга, превышение власти, вмешательство в чужие дела.
Конечно, все эти «недочеты механизма» были на руку пугачевскому движению. И Петр Панин, расправляясь впоследствии с приверженцами Пугачева, в первую голову должен был бы повесить казанского сатрапа Потемкина и ему подобных. А между тем, как мы видели, деятельность того же Потемкина была высоко оценена Екатериной: она скупила на много тысяч рублей все векселя промотавшегося картежника и препроводила их своему ставленнику в подарок, по окончании же смуты наградила его чинами, деньгами и землею с людишками.
Между тем укрепление города кое-как продолжалось. Люди, вооруженные лопатами, топорами, пилами, рыли землю, возили на тачках и телегах глину, известь, камни, мастерили деревянные рогатки, из мешков с мукой, овсом, известью складывали заграждения. Стояла жара. Водовозы ушатами развозили людям воду с Волги. Чернобровая молодая баба, напоминавшую оренбургскую Золотариху, торговала вразнос пирогами, копченой рыбой и осердием. Всюду выпирали из земли обгоревшие печные трубы, валялись обглоданные огнем бревна, головешки, пепел. На огородах шалаши – убежища погорельцев. Кой-где уцелевшие церкви, у одной из них опален купол, выбиты стекла, золоченый крест валяется поперек тропинки. На Соколовой горе степной ветродуй вздымает пыль вместе с блеклыми, преждевременно облетевшими от засухи листьями.
Работают люди по-казенному, с леностью, не на полную силу: позевывают, поплевывают, почесываются, щурятся на солнце. Люди в душе знают, что все эти укрепления ни к чему: хоть ты тут каменную крепость выстрой, «батюшка» все равно заберет.
Купцы выслали своих приказчиков. От Федора Кобякова пришло четверо. Купец Кобяков – друг-приятель казанскому купцу Крохину, в бане у которого мылся Пугачев.
Кобяковский приказчик старик Яков Сергеич, копая землю, беззубо шамкает:
– Эх, напрасно это... Ни к чему... Одна канитель людям. Все равно Емельяну Иванычу, батюшке нашему, достанется...
– Да ты, Сергеич, сдурел? – набросились на него приказчики. – Какой же он Емельян Иваныч, когда он природный Петр Федорыч, третий амператор!
– Да будет вам лопотать-то!.. «Природный», «природный», – окрысился на них Сергеич и, сбросив на землю шляпу, отер рукавом выцветшей рубахи вспотевшую лысину. – Он природный и есть, только простой природы, мужичьей, наш он! От царя-косаря, от царицы-чечевицы... Вот он какой – батюшка! – не унимался Сергеич; в пустом рту его мелькали два больших желтых зуба, и бороденка была беленькая с прожелтью.
– Небылицу городишь, Яков Сергеич... Приснилось, что ли!
– Казаки сказывали!.. – бросил старик. – Намедни у хозяина по тайности два казака ночевали, ну так вот, по их розмыслу, батюшка-то наш – Пугачев Емельян Иваныч...
– Печалуешь ты нас, старик...
– Эх, вы, непутевые... Радоваться надо, а не кручиниться... Свой батюшка-то, заступник-то, а не немецкий выродок...
Вот если бы подобные речи принес волжский ветер в уши Емельяну Пугачеву! Сначала они испугали бы «батюшку» и поразили, затем сердце его наполнилось бы радостью. Крепко был бы рад этому и Андрей Горбатов, и кой-кто из пугачевских атаманов. Может быть, может быть... Эти слова не выдуманные, они действительно впервые прозвучали на Волге. Они еще кой-где прозвучат, они впоследствии найдут свой отзвук и в Москве.
И откуда взялись они? Эх, видно, не одна в поле дороженька разнесла их по России... Сверху, что ли, натрясло их, или вместе с яблоками и всяким злаком созрели они сами по себе? Врал старый приказчик, что слышал те слова от заезжих казаков. Правда, были казаки тайком в купеческом дому, но они толковали о том, что вот-вот сам государь Петр Федорыч пожалует в Саратов. А старика-приказчика словно шилом в бок: «Нет, это не Петр Федорыч, это сам Емельян Пугачев – мужицкий царь, как в царицыных манифестах предуказано», – подумал он.
Когда же стал он поусердней к народной молве приклоняться, то и сам опознал воочию, что и многие из простолюдинов помышляют так же, как и он. Значит, попы долбили-долбили каждое воскресенье по церквам, вычитывая царицыны манифесты, да и додолбились: кой-кому начало влетать в голову, что, пожалуй, правильно в манифестах говорится: заступник-то народный, пожалуй, не Петр Федорыч, третий царь, а сам Емельян Пугачев, казак простой. Впрочем, такие помыслы были у немногих – раз, два и обчелся, но все же они стали в народе самостийно возникать. Будь здрав, Емельян Пугачев, мужицкий царь!








