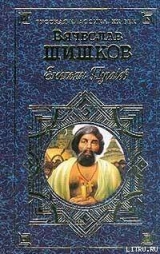
Текст книги "Емельян Пугачев, т.2"
Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 53 (всего у книги 73 страниц)
Неожиданная встреча. Три битвы с Михельсоном
После торопливого обеда Пугачев быстро прошел в палатку Софьи, разбитую в нескольких шагах от его собственной.
– Ну, здравствуй, Митревна, – обнимая жену, сказал он, сколь мог, ласково, но с тревожным холодком и отчужденностью. Затем поцеловал ребят.
Они одеты бедно, платьишки обветшали, выцвели, ноги босы. Трошкина рубашонка подпоясана лычком. Софья в грязных чулках и старых чоботах. Когда-то красивая, работящая казачка, она поблекла, захирела. Лицо удлинилось, щеки ввалились, губы утратили сочность. И ранняя седина начала серебрить темные волосы. Да, есть отчего поседеть, поизноситься!
Трошка, чуть набычившись, с любопытством рассматривал большую светлую звезду на груди отца, девчонки, застенчиво улыбаясь, никли к матери.
Пугачев, насупившись, стал расспрашивать Софью: каким случаем она здесь, в Казани, очутилась? Софья Митревна упавшим голосом отвечала ему, как она с малыми ребятами ходила по Зимовейской станице меж дворов, Христовым именем собирала милостыню, как затем ее схватили, увезли в Казань и бросили с детьми в тюрьму, потом стали выпускать на базар с приказом «срамить тебя и разглашать народу, что ты муж мой, что ты простой казачишка с Дону, бродяга Емельян Пугачев».
– Вот что, Софья, – нетерпеливо взмахнув рукой, начал Емельян Иваныч. – Неисповедимым промыслом Божиим народ признал меня за царя и в том утвердился. Чуешь? (Жена, вздрогнув, опустила голову, из глаз ее брызнули слезы.) Не плачь и не кручинься, – подавив вздох, продолжал Емельян Иваныч. – Таперь помни: я тебе не муж, а царь твой, и ты не жена мне. Ты есть вдова Емельяна Пугачева, казака, дружка моего. Покудов я, низверженный царь Петр Федорыч, в рабском виде скитался по Руси, оный Емельян был схвачен и на пытке замучен замест меня. Крепче запомни, что говорю, Митревна. (Тут, поняв смысл его слов, жена и дети, что повзрослей, изумленно воззрились на него, а у Трошки дрогнул подбородок.) А ежели станешь языком брякать, – засверкав глазами, закончил шепотом Пугачев, – атаманы мои смерти предадут тебя и ребят твоих с тобою вместе. Поняли ли?
– Поняла, Омельянушка, – побледнев, шепотом же откликнулась Софья.
– А поняла, так помни...
Пугачев порывисто повернулся и вышел вон. Сердце его дрожало, в ушах гудело, он дышал взахлеб, отдувался. Справившись с собой, приказал Давилину позвать Ненилу и в его присутствии сказал ей:
– Слышь-ка, Ненилушка. Бабу с ребятами, кою седни доставили сюда, ну... в палатке... рядом... Ты корми ее и ребяток малых, Ненила, от моего царского стола. Она, ведаешь, жена первого друга моего, казака Пугачева, кой, укрываючи меня, государя, в скитаниях моих, Богу душу за меня отдал, царицыны слуги замучили его, бедного... А мне сам Господь препоручает толикое попечение о сиротах иметь. Я не оставлю их.
Подобное же приказание получил и казак Фофанов, хранитель царского имущества: все сирое семейство одеть, обуть.
Затем Емельян Иваныч, не отдохнув, снова на рысях вернулся в город.
Пожар подкрался к самой крепости и тут вдруг начал затихать.
Но вот налетел вихрь, рванул, закрутил, зашвырялся огнем и пеплом. Огонь вновь сразу воспрянул. Стройные минареты пламенными столпами вздымались к задернутому дымом небу. Опаленная пыль с дорог, смешанная с пеплом и дымом, завихаривала, гуляла над пожарищем. Все выло, металось, гудело, все бежало прочь в поисках спасения. Летучие пылающие головни, подобно огненным драконам, расшвыривались вихрем в разные стороны. Пугачевцы начали отступать в укромные места, где пожар уже сделал свое дело. Однако пушечные выстрелы, приглушенные общим гулом, слышались как со стороны мятежников, так и ответные – с крепостной стены.
В кремле становилось нестерпимо жарко, душно. В кремлевских зданиях лопались стекла, воспламенялись рамы. Люди валились на землю. Возле ведер с водой драка.
– Воды, воды глоточек! – взывали истомленные. Кремль то покрывался тучами дыма и становился невидим, как сказочный город Китеж, то, под ударами бури, вновь выплывал на свет.
Вот вихрь крутнул, крутнул в последний раз и так же внезапно, как возник, сложил крылья, замер. Стало тихо. Изнемогающий огонь припал к земле и, как пожиравшее себя с хвоста до головы чудовище, исходил ползучим дымом.
Пожар, осветив площадь перед крепостью, как бы расширил ее. Теперь можно было вести обстрел из пушек на большое расстояние, и пугачевцам некуда укрыться.
Емельян Иваныч, щадя силы, отменил брать крепость штурмом. Он убедился, что крепостная артиллерия стреляет дальше, чем его немногочисленные пушки. Да и зарядов у него не так уж много, их надо поберечь для схватки с Михельсоном, который не сегодня-завтра должен подойти сюда: в этом Пугачев не сомневался.
Конные башкирцы и калмыки с гиком подскакивали к крепости, пускали стрелы и под картечными выстрелами, теряя людей и лошадей, откатывались прочь. В кремле басисто гудел могучий благовест раскаленного большого колокола. Из двух соборов – Благовещенского и Спасского – выходил народ и крестный ход. И вот залился трезвон во многие еще не остывшие от близкого пожарища колокола. Престарелый Вениамин, окруженный клиром и жителями, чинно шел вдоль крепостных стен. Всем миром пели богородичные тропари. Люди, усердно крестясь и вздыхая, плакали. Плакали люди оттого, что не ведали, что им сулит приближающаяся ночь, они ожидали ежечасного нападения, готовились к смерти. Да и вернуться многим было некуда, одеться не во что: все расхищено, все пожрал огонь.
Было шесть часов вечера. Вышел из укрытия воинственный Потемкин, он снова взобрался на башню Сумбеки и чрез трубу осматривал пожарище. Кроме каменных построек, города почти не существовало. По самую Егорьевскую улицу в нем не осталось ни кола ни двора. Уцелели только части Суконной да Татарской слободы да купеческие постройки по Булаку.
Большинство населения было выгнано на Арское поле. Казань опустела. Над погорелыми просторами снова стали табуниться галки и вороны. Пугачевцы, по приказу командиров, постепенно оставляли город, выстрелы прекратились.
Ваня Сухоруков всем пережитым был подавлен. Особенно поразил его детскую душу невиданный пожар. Вот-то страх! Он забыл и про смерть своего любимого дедушки. Под вечер Ваня, да и его мать с бабушкой Ульяной сильно проголодались. Ему, малышу, разрешили выйти из огромного лагеря схваченных, и он пошел гулять по Арскому полю, переходя от костра к костру, в надежде поживиться чем-либо съедобным. Он подошел к трем казакам. Они из глинобитной самодельной печурки вынимали свежий хлеб. Он стал кланяться, просить кусочек. Они сначала пригрозили ему нагайкой, затем смиловались и дали четверть краюхи хлеба.
– Батюшка приехал. Царь, царь! – услыхал Ваня раздавшиеся по полю крики. Он отнес хлеб своим родным, взял с собой корку и побежал к царской ставке.
Пугачев сидел возле своей палатки в кресле, принимал казанских татар. В его обширную палатку входили и выходили какие-то молодые женщины, одетые в немецкое платье. «Дворянки, должно, а нет – купеческие дочки», – подумал Ваня. (И так впоследствии, уже седовласым, записал в свои мемуары.) У другой палатки сидела на завалинке простая женщина, рядом с ней паренек да две девчонки. Возле Пугачева развевалось воткнутое в землю голубое с черным орлом знамя, при знамени смирно стояли два казака с обнаженными саблями.
Татары подходили к Пугачеву друг за другом, – некоторых Ваня узнал: торговцы мехами, – целовали его руку, клали пред ним подарки: кто лису, кто цветной бешмет или полукафтанье, что-то говорили ему, жаловались, трясли головами, указывали в сторону сгоревшей Казани. Но их слов Ваня не слыхал. Он и сам хотел подбежать и пожаловаться царю на свою обиду, он даже прикинул в уме, что должен был сказать: «Вот, мол, дедушку моего, ваше величество, приняли за барина и решили жизни». Но подойти не осмелился, только мордочка его плаксиво сморщилась. Ваня часто-часто замигал.
Солнце закатилось, спустился вечер, всюду зажглись костры, из города привезли пятнадцать бочек вина, разделили его по полкам, стали угощаться.
Пугачев самолично объезжал войска, благодарил народ за взятие Казани, просил и впредь грудью стоять за дело правое, никаких Михельсонов не бояться, брать пример с храбрецов – яицких казаков, не щадить себя, слушаться военачальников, свято повиноваться государю.
Шум, песни, смех не умолкали до полуночи. Казаки плясали у костров. Лишь далеко выдвинутые секреты и дозоры не принимали участия в гульбе, да под пушками, никуда не отлучаясь, чутко подремывали канониры: им настрого приказано быть готовыми на случай ночной тревоги.
В палатке, отведенной под канцелярию, за топорным, на козликах, столом сидели Творогов, Дубровский, Горбатов с Минеевым и при свете свечей строчили воззвания к укрывшемуся в крепости гарнизону, а также манифесты к крестьянскому населению и еще указы на уральские заводы о скорейшей присылке пушек с зарядами.
Пугачев заранее приказал приготовить для «высочайшего» осмотра лагерь пленных. В сопровождении Овчинникова и небольшого конвоя он с наступлением сумерек поехал в лагерь. Он знал, что среди пленных много безвинно пострадавшей бедноты, которой надо оказать помощь. Хотя в казне Пугачева денег много, но он рассчитывал взять еще дополнительно у купцов Крохина, Жаркова и других обещанные ими деньги. Вот он и направится к купцам, да, кстати, не грех ему и в баньке похвостаться веником, смыть с себя грязь и копоть: ведь у него не токмо полукафтанье, а и рубаха-то исподняя прожжена в десяти местах.
– Едет, едет! – заорали многоголосо в таборе пленных. – К нам, кажись! Царь едет!
Началась сумятица, все сгрудились, опустились на колени.
– Детушки! – во всю мочь взголосил въехавший в толпу Пугачев. – Вы, люди подъяремные, отныне будьте вольны. Все до единого!
– И так, батюшка, вольные, – угрюмые раздались голоса. – Ни кола, ни двора таперича. Огонь все пожрал.
– А в оном зле сами, детушки, повинны. Ежели б честь честью встретили меня, государя своего, и Казань бы целехонька была. А вы вот с генералами да с солдатней за рогатки схоронились да моих верных слуг, что волю вам добывают, побили да поранили.
– По принужденью, надежа-государь! Потемкин генерал да Брант. Ведь супротив них никому и рта отворить нельзя.
– Ну, да уж таперь не воротишь, – говорил Пугачев. – После драки кулаками неча махать... Поди, вам вестимо, детушки, что Катерина-то приезжала к вам пиры задавать, а чего доброго-то она для народа сделала? Плешь на голом месте, вот чего она сделала! А я для вас, детушки, для-ради пользы вашей войной на ваших супротивников иду, грудь свою под пули да под ядра подставляю. Спасибо, народ простой, чернь замордованная, подмогу мне дает, а вы вот не дали... Ну, да уж ладно... Казань сгорела, хибарки ваши, – не кручиньтесь, новая Казань из земли подымется, краше первой... И объявляю вам, детушки: заутро бедноте будет раздаваться деньгами вспоможение...
В этот миг из большой толпы черничек девичьего монастыря вырвалась молодая женщина и подбежала к Пугачеву. Простирая к нему трепетавшие руки, устремив на него исступленные глаза, она пронзила душу Пугачева криком:
– Батюшка! Я Симонова, Дарья!
– А-а-а, знакомая, – вымолвил, несколько смутившись, Пугачев. Его удивило столь внезапное появление Даши. Как могла она попасть сюда и почему этакая пригожая, а одета как монахиня? Пугачеву в момент вспомнилась его ненаглядная Устя, великая государыня Устинья Петровна, подруга Даши, сердце его больно защемило. Где-то она, горемычная, как здравствует?
– Помню, помню тебя, милая, – с ласковостью в голосе произнес он.
– Ради всего святого, скажите мне, батюшка, не утайте от меня, жив ли сержант Дмитрий Павлыч Николаев, нареченный жених мой?..
Голова Пугачева опустилась на грудь, быстротечные думы опалили его сердце, он заглянул в хмурое лицо Овчинникова и, обратясь к девушке, спросил ее:
– Можешь ли по-казацки ездить?
– Усижу, батюшка, не раз езжала, – с безоглядной решимостью ответила Даша. Она все на свете позабыла, в ее мыслях – лишь незабвенный Митенька.
Ей подвели коня. Она, как во сне, не вполне сознавая происходящее, взобралась в седло.
– Постойте тут, подождите меня, – сказал своим Пугачев. И оба с Дашей рысью поехали в царскую ставку.
– Ну, слезай, – сказал Пугачев девушке, – я сейчас, – и вошел в палатку с канцелярией.
У входа стоял какой-то полнотелый казак с рыжими усами, на рукавах позументы. Невысоко над городом висела серебристая луна, к ней тянулись от потухавшего пожарища легкие дымки. На дальнем взгорке, видимый теперь издалека, словно каменный орех, очищенный от скорлупы, высился многострадальный кремль с башней и соборами. Возле палатки, где стояла Даша, пылал костер.
Вдруг полы палатки распахнулись, вышел Пугачев, он вел за руку рослого, красивого, с белокурыми волосами молодого человека.
– Вот твой суженый, – проговорил Пугачев, подталкивая офицера Горбатова к ошеломленной девушке. – Вот твой любезный, – повторил он и, вскочив на коня, умчался. Движения его сердца были искренни и внезапны. Он был уверен, что Даша и Горбатов, два цветка с одной гряды, встретятся – водой не разольешь. Ну до чего приятно доставить людишкам хоть какое ни есть счастье!
Конь скакал, как зверь, вокруг вихрились ветерки.
В изумлении стояли один против другого молодые люди. Они всматривались друг в дружку обостренными воспоминающими глазами. И вот...
– Даша!
– Я вас не знаю...
– Даша, Дашенька! Я Горбатов...
– Андрей!.. Неужели ты?!
Все пред ними исчезло, только кусочек тверди под ногами да их двое. Они разом бросились друг другу на шею.
Пробегавшая беленькая собачонка, хвост калачом, наспех обнюхала их и, слезливо всхамкнув, поскакала дальше – разыскивать своих хозяев.
Подхватив Дашу под руку, Горбатов повел ее подальше от людей, в сторонку. Он усадил ее на чей-то брошенный сундук. Она все еще не могла прийти в себя, дрожала. Первый ее вопрос был о Мите Николаеве. Андрей Горбатов колебался, ему больно было взволновать девушку горестным известием.
– Говори всю правду, – сказала она и подняла на него глаза свои. – Чувствую я, почти что наверное знаю: он погиб. Только, ради Господа Бога, не скрывай, расскажи все, что знаешь...
Горбатов стоял возле нее, она сидела. Луна светила ярко, ему хорошо было видно лицо девушки со страдальчески вскинутыми бровями. Он сказал ей, что сержанта Николаева давно нет в живых, что в его смерти повинен некий злодей, атаман-предатель, тогда же казненный.
Даша со стоном уткнулась в платок, в отчаянье замотала головою. Горбатов сел рядом на сундук, взял Дашу за руку и старался успокоить ее.
– Значит, все кончено, – сдерживая глухие рыдания, проговорила Даша. – Мне теперь один путь – в монастырь.
У Горбатова обмерло сердце, он отстранился от нее, воскликнул:
– Даша! В твои-то годы?
– Я буду молиться за его душу.
– Его душа, чаю, не очень нуждается в чьих бы то ни было молитвах. Он мученик.
Даша снова приложила платок к глазам. Горбатов сказал:
– Тебе надо думать о том, как бы устроить жизнь свою, она вся впереди, а не бежать от жизни...
Даша вскинула голову и с особой пристальностью, будто вспомнив самое главное, уставилась в лицо Горбатова заплаканными глазами. Затем спросила:
– А ты-то, ты-то, Андрей, как попал в плен к разбойнику?
Андрей Горбатов, шумно задышав, поднялся. Он вдруг уразумел, что между ним и Дашей – пропасть, что она, из бедных бедная, давно осиротевшая дворянка, ненавидит Пугачева и все дела его. А ненавидит потому, что обо всем, что касалось Пугачева, имела самое превратное понятие. И вот он начал исподволь, с одним желанием направить ее мысли в нужное ему русло.
У костров по всему лагерю после легкой выпивки началось безудержное веселье. Старик-богатырь Пустобаев, сидя подле бурлацкого костра и потряхивая бородой, рассказывал бурлакам о том, как он однажды вступил в борьбу с медведем – цыганы ручного медведя водили – и как он, понатужившись, перебросил зверя через поленницу; и еще рассказывал, как на царской свадьбе довелось ему «возгаркнуть» многолетие. «Вот было попито-погуляно!» Секретарь Дубровский от нечего делать играл на утоптанном месте с мягкотелым Давилиным в орлянку. Поп Иван, с трудом воздержавшийся от выпивки, сидел возле палатки Ненилы, обучал девочку Акулечку молитвам и без передыху дымил цыганской трубкой. Атаманы Овчинников и Творогов разъезжали по лагерю с отрядом казаков, следили за порядком, скандальных «питухов» приказывали хватать, тащить к пушкам под караул – на продрых. Брант и Потемкин, независимо друг от друга и как бы сговорившись, писали графу Меллину, находившемуся с отрядом неподалеку, чтобы он немедля следовал в Казань. Монахини, возвратившиеся вместе с игуменьей в монастырь, близки были к отчаянию. Игуменья послала к губернатору трех своих рясофорных стариц с известием о том, что злодей похитил Дашу.
В это время «злодей» вел деловые разговоры с купцами, благодарил их за деньги, за оружие, за полсотни купеческих работников, вступивших в его армию.
...А эти двое, взявшись за руки, неспешно ходят взад-вперед по луговине за палатками и под голубоватым светом луны говорят без умолку. Изложенные с горячностью, со всей искренностью доводы Андрея показались Даше убедительными, и после резких возражений, переходящих в крик, она постепенно успокоилась.
С нею никто за всю жизнь не говорил так серьезно, так умно и убедительно, как говорил сейчас Андрей. Она со всеми своими мыслями как-то неожиданно для себя подчинилась ему и во многом стала согласна с ним. Теперь она этого чернобородого человека с открытым к добру сердцем никогда больше не назовет «злодеем». Но как же, как же человек этот не смог уберечь от погибели Митю Николаева!
Впрочем... «Да будет, Господи, воля твоя», – и Дашенька мысленно перекрестилась.
– Да, наша встреча – чудо, превеликое чудо, – с каким-то благоговением сказала она и на миг подняла свой взор к небу. – Но как ты мог узнать меня, Андрей? Так вот, сразу?
– Какая-то сила шепнула мне: это Даша, – проговорил Андрей Горбатов, заглядывая в такое милое, знакомое с детских лет лицо. – Мои родители, ты ведаешь, были неимущи, а твои еще беднее. Наши усадьбы соприкасались. Яблони вашего сада глядели в наш, и цветы ваших вишен осыпались на нашу землю. Боже, до чего было хорошо существовать! Невозвратимое детство...
– Помнишь, как мы играли в любовь, Андрей? Ты был моим женихом, я твоей невестой.
– Мы играли, – ответил Горбатов, – а наши родители, по крайней мере мои, считали это дело решенным. Мне в ту пору было лет четырнадцать, а тебе, Даша, восемь... И вот ты, ангелоподобная девочка, на протяжении каких-нибудь двух-трех месяцев лишаешься родителей, и мою Дашу увозят от нас добрейшие Симоновы сначала в Москву, затем в Яицкий городок... И знаешь что, Даша? Я, мальчишка, без памяти был влюблен в тебя, ей-ей! Я места себе не находил после того, как разлучили нас. Я плакал не один день, клянусь тебе, и надо мною все смеялись.
Они остановились, ласково и нежно заглядывая друг другу в глаза.
– А я разве не любила тебя? Ты думаешь, я не плакала? Я помню твои первые письма ко мне... А потом ты замолчал. Почему?
– Потому, что со мной самим стряслось ужасное...
– Ужасное? – передернув плечами, испуганно переспросила Даша. – Расскажи, Андрей.
– Изволь, – согласился Горбатов. – Только допрежь я хочу сказать тебе знаешь что?
– Нет, не знаю.
– Гм, не знаешь? – проговорил Андрей дрогнувшим голосом, глаза его загорелись. Он стиснул руки девушки и тихо сказал: – Я люблю тебя.
– Безумный! Сомутитель мой... – простонала Даша, она больше ничего не успела сказать, отдавшись ласкам Горбатова. Впрочем, она вскрикнула: – Милый!.. Я тоже люблю тебя!.. – И тут же, как бы спохватившись, добавила: – А как же Митя? Как же память о нем?
– С Митенькой кончено, – проговорил Горбатов. – Живому о живом думать предлежит, а никак не о мертвом. Вот ты встречу нашу чудом назвала. Верно... Чудо и есть. И я чаю, судьба не зря столкнула нас. Ты, Даша, должна стать моей женой. Согласна ли?
– Безумный! – снова воскликнула Даша и в сильном волнении готова была разрыдаться. – Так быстро решить. Возможно ли?
– Чем скорее, тем лучше. Ты сама видишь, каковы обстоятельства. Надо быстро, не колеблясь. Нерешительность – удел слабых.
Даша посмотрела на него с раздумьем и жалостью, затем вымолвила:
– Довольно, Андрей... После... А теперь расскажи о себе.
И они опять принялись ходить по луговине. Луна обливала их голубоватым сиянием. И под благодетельными брызгами этого серебристого дождя душа девушки распускалась как бы заново. Но в отуманенной голове ее копошились беспокойные, раздернутые мысли: то укорчивые вопросы самой себе и неясные, сбивчивые на них ответы, то запоздалый, может быть, ложный голос совести, что вот она, легкомысленная девчонка, столько хлопот наделала всечестной игуменье Ираклии и сестрам во Христе, принявшим горячее участие в судьбе ее. Ждут, поди, ждут и в великую впадают горесть. А Симоновы, а тень Мити Николаева, а этот неразрешимый для нее вопрос, так настойчиво высказанный соблазнителем ее Андреем?..
– Говори, говори, Андрей, я слушаю, – тихо произносит она, стараясь придать своему лицу выражение радости и счастья. Но голова ее в тумане и сердце мрет.
Огненный страшный день еще не кончился. Казань еще не догорела. Вдали дремлет голубоватый кремль с соборами, над городским пепелищем плавают лохмы дыма, то приникая к земле, то седой волной вздымаясь вверх. Воздух пропитан гарью, у Даши заболела голова.
– И вот понаехали к нам гости, – продолжал Горбатов,– мой двоюродный дядя из Воронежа, для закупки или, как он говорил, «ремонта» лошадей его воинской части – усатый с брюшком майор, а другой, питерский чиновник Пятнышкин, вез в губернское казначейство много новых, только что выпущенных бумажных денег. Прожили они у нас с неделю, оба картежники превеликие. Да, кажись, и шулеры к тому же. Словом, обобрали они как следует соседних помещиков, и родитель мой, помню, немало пострадал. И стали собираться в обратный путь. А я забыл тебе сказать, что заехали-то они к нам по окончании своих дел. Мой двоюродный дядя, этот усач с брюшком, на коротких ножках, и говорит моим родителям: «А отпустите-ка со мной вашего Андрея. Я вскорости перевожусь в Питер и там определю Андрюшу в кадетский шляхетский корпус, по крайности офицером будет. А воспитание мальца я приму на свой полный кошт, я человек со средствами и бездетный».
Я, признаться, услыша от дяди такие речи, сразу пришел в радость: «Черт возьми, Питер, офицерство, вот счастье-то!»
Тогда и другой гость, чиновник Пятнышкин, этакий неуклюжий... он тоже взглянул на моего младшего братейника Колю да и говорит: «Знаете, достопочтенные родители, я человек, как видите, известный, в чине партикулярного полковника, и к новому году светским генералом чаю быть... А человек тоже бездетный. Отпустите-ка вы в науку и Коленьку, он мальчик премилый. Я замест сына воспитывать его стану, в коллегию определю, в люди выведу».
Родители, жившие в изрядной бедности, подумали, поплакали, отслужили молебен и нас обоих с братом отпустили. Не доезжая трех станций до Нижнего Новгорода, мы с Колей распрощались и поехали с дядей дальше. А с Колей случилось так...
Даша слушала со вниманием. Луна вздымалась все выше. По луговине ходили женщины с подойниками, бегали мальчишки, разыскивая своих коров.
– С Колей так... Ему шел тогда десятый год. Он был щупленький, болезненный. Чиновник Пятнышкин остался на почтовой станции играть в карты. Денег у него было множество, но он нарвался на шулеров, пробиравшихся на Макарьевскую ярмарку. Он все спустил им, и свои и казенные деньги. Проиграл и Колю...
– Как, Колю проиграл? – с изумлением воскликнула Даша.
– Да, представь себе... Проиграл. Колю купил в рабство содержатель почтовой станции, местный разбогатевший мужик. И с тех пор несчастный братишка перестал быть дворянским сыном Колей, а сделался крестьянским сыном Васюткой. Ну и запродажные фальшивые документы были сфабрикованы – почтарь мужик богатый... – Горбатов снял казацкую шапку-трухменку, провел рукой по своим светлым волнистым волосам и, обращаясь к девушке, с жаром добавил: – Вот видишь, Дашенька, какие дела творятся под скипетром обожаемой тобой государыни Екатерины.
Даша, опустив голову, молчала, глаза ее заслезились: Коля был ее сверстник, они вместе играли с ним в куклы и в шармазлу.
– Чиновный изверг Пятнышкин, – продолжал Горбатов,– доехал до Нижнего и там на постоялом дворе застрелился. А ни в чем не повинный Васька, он же бывший Коля, был переодет в крестьянскую сряду, в лапотки. И под жестокими побоями хозяев, обливаясь слезами, стал прислуживать в кухне, исполнять всякую черную, тяжелую для мальчонки работу... «Эй, Васька! Принеси дров да разлей телятам пойло!» – «Эй, Васька! Вычисти господам проезжающим сапоги да самовар поставь!» В то время уже вводились в моду самодельные, из толстой жести самовары. Мальчик под зуботычинами, под плетью постепенно свыкался со своим положением. Но иногда на него накатывало отчаяние, он при проезжающих кричал: «Я не Васька, я дворянский сын Николай: мой отец Горбатов! Господа проезжающие, возьмите меня с собой, спасите!» Тут врывался хозяин с веревкой, выбрасывал мальчишку вон, а проезжающим говорил: «Вот наказал меня Господь... Взял на воспитание сироту, а он с тоски, чего ли, алибо с глазу худого с ума сошел, вроде дурачком делается». Так прошел год с лишком. Родители встревожились: никаких вестей ни от меня, ни от Коли, ни от Пятнышкина нету. И вдруг случай... Что ты, Дашенька?
– Так, ничего, продолжай, – невнятно ответила Даша, начавшая приметно дрожать, как в ознобе.
– Наша соседка помещица Проскурякова ехала в Петербург, и, понимаешь, Дашенька, остановилась она передохнуть на этой самой станции. Она ехала в столицу по своим делам, довольно состоятельная была, и родители упросили ее навести справки обо мне и Коле. Она женщина премилая, к нам расположена отменно, она и меня крестила, и Коля был ее крестник. Почтарь-хозяин ввел ее в горницы, дождик был, высунулся в окно, крикнул: «Васька! Беги, бесенок, сюды, барынин архалук у печки просуши, грязь отчисти». Вот вбежал в горницу грязный, лицо в саже, отрепанный мальчонка в лапотках... Помещица Проскурякова сидела в тени, голова у нее болела, шалью замотала голову, и Коля не сразу узнал свою крестную. А она как взглянула на парнишку, так сердце у нее и обмерло. Она возьми да и спроси: «Мальчик! Как тебя звать?» Он посмотрел в передний угол: «Батюшки, крестна!» – с ужасом взглянул на зверя-хозяина с веревкой в руке и торопливо, взахлеб, ответил: «Я Васька, Васькой меня зовут, вот дяденька купил меня, он добрый...» А Проскурякова и говорит: «Преудивительное дело... Ты точь-в-точь как сын помещиков Горбатовых, Коля». Тут мальчик как бросится с воем на шею помещицы да как заблажит: «Крестна! Крестнушка! Это я, Коля...» – и залился горючими слезами. И она горько заплакала. Хозяин заорал: «Вон, вражонок!» Коля в страхе убежал, а мужик попробовал было фордыбачить, одначе Проскурякова, женщина роста крупного, как вскочит да как затопает ногами: «В каторгу тебя, мерзавец, в каторгу!» Мужик кричит: «Вот вы докажите-ка, что он есть Коля, а я завсегда докажу, что он Васька, куплен там-то и там-то, при свидетелях таких-то и таких-то, эвот документы-то у меня». И вот Проскурякова начала против мужика дело. Многих денег ей это стоило, великих хлопот, но уж ей хотелось завершить сие благополучно и по чувствам человеческим, да и амбицию ее задели. Почти целый год тянулись суд да волокита. Злодея-мужика все же засудили, а мальчонку возвратили в прежнее состояние. Но пока шел суд да дело, Коля на той клятой почтовой станции, битый да голодный, захворал и умер... Умер, Дашенька!
– Боже мой, Боже мой! – всплеснув руками, воскликнула Даша. – Бедный мальчик, бедный, несчастный мой Коленька... Я как сейчас вижу, такой тихий, такой нежный, особенный какой-то. Вот такими душеньками праведными и полнится церковь Божия на небеси.
– Да, неоцененная моя Дашенька, – глубоко вздохнув и почмыкивая носом, проговорил Горбатов. – На небесах-то душенькам, может статься, и неплохо, а вот каково-то на земле живым жить при наших проклятых порядках? И мне нимало не удивительно и народа нашего восстание, что потянулся народ за правдой, что поверил в царя-батюшку и идет за ним. – И, помолчав, добавил: – Ну а теперь, ежели желаешь, о себе расскажу.
Как ни любопытно было Даше послушать Андрея, но она заторопилась.
– Ну и растревожил ты меня, Андрей, – сказала она, глядя в сторону и помигивая грустными глазами, опушенными длинными ресницами. – Всю ночь спать не буду... Милый, бедный Коленька... Проводи меня, Андрей. Поздно уж. Расскажешь завтра... ежели встретимся.
– Ты останешься здесь?
– Нет, не проси, меня там ждут.
Андрей не мог убедить ее остаться ночевать в лагере. И вот он видит: едут рысью справа и слева от него два всадника, кричат тонкими пронзительными голосами:
– Горбатов! Где Горбатов?!
Андрей выхватил из кармана медную свистульку и резко засвистал. К нему тотчас подкатили оба всадника.
– Господин Горбатов! – проговорил один из них, молоденький и юркий. – Вас требует атаман всей армии Овчинников.
– Что за экстра? – спросил Горбатов.
– Получены вести: подходит Михельсон. Верстах в сорока отсюдова.
– Ну, это не столь близко, – несколько успокоился Горбатов. – А где государь?
– За ним помчали, за его величеством.
Горбатов приказал заложить для девушки таратайку.
– Я завтра приду к тебе чем свет, – говорит Даша, сжимая его руку. – А еще лучше, приходи за мной сам, Андрей. Боже мой, что же опять будет?.. Стрельба, кровь, опасности. Как это ужасно!
– Чаю, крепко чаю: ты останешься со мной, будешь моей подругой...
– Не знаю... Подумаю... Буду молиться Богу со всем усердием... – И она, вздохнув, добавила: – А все-таки как я в душе благодарна этому чернобородому, что свел нас. Господи, прямо чудеса! Опомниться не могу. И о нем помолюсь с усердием.
Горбатов, физически измученный, но душевно бодрый, возвращался домой в настроении необычайном. Сколько потрясающих событий сегодня свалилось на него: горячий бой, взятие и пожар Казани, Даша. Ну что ж!.. Такова жизнь теперь!








