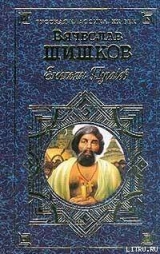
Текст книги "Емельян Пугачев, т.2"
Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 73 страниц)
Тем временем атаман Грязнов, после неудачного приступа к Челябинску, отошел к Чебаркульской крепости. А Челябинск вскоре занял Деколонг.
Грязнов снова подступил к Челябинску и остановился в шести верстах от города в деревне Першиной. У него в толпе 4000 человек – крестьян, башкирцев и киргизов. Небольшие грязновские партии разъезжали по окрестностям, хозяйничали в селениях. Трусливый и старый Деколонг бездействовал. Окрестное население, не видя себе законной защиты от Деколонга, передавалось Грязнову. Силы пугачевцев с каждым днем возрастали. Челябинску угрожала блокада, отряду Деколонга и всем жителям – голод.
Чтоб не быть запертым в городе, Деколонг вынужден был Челябинск покинуть. Кстати представился случай: от полковника Василия Бибикова он получил из Екатеринбурга письмо с просьбой о помощи, так как «самый Екатеринбург и его окрестности от злодейских обращений весьма опасны».
8 февраля весь воинский отряд его – около 3000 человек – выступил из города. Деколонг забрал с собой воеводу Веревкина, всех рекрут, всех чиновников, купцов, казну и годную артиллерию.
По дороге пугачевцы то и дело нападали на Деколонга, но тот ни разу не переходил в наступление, торопливо удирая, и через неделю достиг села Воскресенского. Отсюда послал полное отчаянья донесение сибирскому губернатору Чичерину, стараясь преувеличить опасность и прося себе помощи.
С уходом Деколонга из Челябинска пугачевцы стали полными хозяевами не только всей Исетской провинции, но отдельные партии их начали проникать и в Сибирскую губернию.
Чичерин скрепя сердце послал Деколонгу некоторую помощь и в то же время пожаловался на него генерал-аншефу Бибикову. Разгневавшись на бездеятельного Деколонга, Бибиков между прочим писал императрице:
«Странность поведения генерала Деколонга или лета его, или вкоренившаяся сибирская косность причиною. Признаюся, всемилостивейшая государыня, что я бы лучше желал, чтоб сей генерал на нынешнее время там не был, и если бы возможно кого надежнейшего отправить, а его отозвать...» и т. д.
Екатерина ответила ему, что сделала указание отправить на место Деколонга генерал-поручика Суворова. Однако фельдмаршал Румянцев с театра военных действий Суворова не отпустил и, таким образом, полученного им повеления императрицы не исполнил.
Деколонг остался на прежнем месте и продолжал с той же трусливой осторожностью командовать своим отрядом.
Часть пугачевцев из армии Грязнова мелкими отрядами направилась к Долматову монастырю. Эта старинная твердыня большим была для них соблазном. Заняв ее, они могли держать в своих реках всю долину реки Исети с многолюдными селеньями: в монастыре были пушки, порох, ружья, продовольствие.
Долматов Успенский монастырь[27]27
Впоследствии город Долматов. – В. Ш.
[Закрыть] стоял на высоком левом берегу реки Исети, на сибирском тракте, в 160 верстах к востоку от Екатеринбурга. Монастырь был обнесен высокими кирпичными стенами с башнями, бойницами. Он напоминал собою крепость.
Подтянувшиеся к монастырю отряды полагали овладеть им с помощью экономических крестьян, ненавидевших монастырское начальство за притеснения и неправые поборы. Двенадцать лет тому назад возле монастыря возгорелся бунт[28]28
Известный под именем «дубинщины». – В. Ш.
[Закрыть]: крестьяне пытались поколотить монахов, а жестокого настоятеля, архимандрита Иакинфа, – убить. Бунт был подавлен, наказанные крестьяне затаили к монастырю злобу.
При первом же известии о появившемся под Оренбургом Петре Федорыче все монастырское крестьянство подняло голову. Архимандрит Иакинф, предвидя неспокойное время, стал готовиться к защите и в начале января 1774 года выехал в Тобольск просить губернатора Чичерина о воинской помощи.
Вскоре отряд пугачевцев в полтысячи человек прибыл из-под Челябинска в окрестности монастыря. Командовали отрядом Пестерев и Тараканов.
Отсутствующего архимандрита заменил экономический казначей, секунд-майор Заворотков. Человек деятельный и бывалый, он хорошо подготовил монастырь к встрече мятежников. Он приглашал на борьбу с ними подчиненных ему крестьян близлежащего многолюдного села Никольского.
– Спешите укрыться в стенах святой обители! Беритесь за мечи, за ружья.
Более зажиточные крестьяне, всего 383 человека, перебрались в монастырь с семействами и скарбом. Огромное же большинство крестьян осталось в Никольском. Дух мятежного неповиновения поддерживал в своих прихожанах сельский священник Петр Лебедев.
11 февраля с высокой монастырской колокольни дозорные заметили приближавшихся пугачевцев. Защитники высыпали на стены и взялись за оружие. В монастыре было 15 пушек, 80 ружей.
Местный крестьянин Боголюбов, приблизясь от толпы мятежников к монастырю, передал монастырской братии бумагу. Походный атаман Пестерев писал в своем «известии о благополучии», что он прислан от армии его величества с полутора тысячами человек команды при двадцати орудиях и просит без кровопролития покориться ему. Он сообщал, что вся Казанская губерния, царствующий град Москва, также Нижний и другие города «склонены наследником, государем-цесаревичем Павлом Петровичем, так и государем нашим Петром Федоровичем. Оренбургская губерния и показанные: Челяба, Троицкая крепость и прочие жительства в склонность приведены благополучно...»
В тот же день, к вечеру, мятежники, не получив ответа, ворвались в Никольское, зажгли два крестьянских овина и разбрелись по избам. Атаман Пестерев велел устроить возле своей квартиры две виселицы.
Бушевавшая толпа приволокла к месту казни несколько монастырских служителей, капитана Врубова и попа Хорсина. Все они были повешены.
На другой день Пестерев послал к воротам монастыря крестьянина Мокрушникова с требованием монастырю сдаться. Все монастырские стены снова были усыпаны защитниками. Мокрушников, задрав бороду, кричал:
– Сдавайтесь, православные! Довольно злодей архимандрит измывался над вами! Царь-батюшка всех нас, рабов своих, льготить обещал. Он, отец наш, все вольности дает нам, крест и бороду, леса, реки, травы!.. Вот я тут царский манифест на колышек приколю. А вы сдавайтесь, а то смерти-то всех вас исказнят.
В сводчатой трапезной, размалеванной рукой немудрого живописца, собрались монастырские заправилы со старшей братией и при тусклом свете восковых свечей стали сочинять увещание мятежникам. Писал гусиным пером на добротном листе бумаги молоденький послушник Дорофей, сын крестьянский. Волосы у него длинные с льняным отливом, лицо сухощекое и бледное, глаза голубые, в них смятение и грусть об уходящей юности, руки белые с длинными тонкими пальцами, и весь он, как березка, тонкий, с перехваченной кожаным поясом девичьей талией. На голове бархатная остроконечная скуфейка.
Экономический казначей из села Никольского секунд-майор Заворотков да седой монах с крупным красным носом и блудливыми глазами диктовали:
– Пиши, сыне...
«О благополучии вашем, – выводил пером юный Дорофей, – известие сюда от вас, через нашего мужика, прислано, в коем смешного достойныя прописаны бредни, чему никоим образом статься не можно. Да и помыслить ужасно, чтоб покойному государю Петру III, прежде чаемого общего воскресения, из мертвых одному воскреснуть...
...А сия гнусная чучела, Пугачев, назвавшись таким ужасным по России именем, наподобие якоб вокрес из мертвых и желает похитить самим Богом узаконенную власть грабежами, разбоем и кровопролитьем, чего и в целом свете не слыхано. Всякий монарх вступает на престол тишиною и полезным всему обществу спокойствием. А как ваш мнимый император Петр III, в своем ложном, и то письменном, а не печатном, манифесте, всему обществу в сведение не предъявил, где он и в каких местах через двенадцатилетнее время находился и для чего только в одну Оренбургскую губернию вкрался... И склонившихся ему ослепленных мужиков прельщать старается крестом и бородою, травами и морями – чем мы и без его награждения от милостей нашей монархини довольствуемся. Крест Спасителя нашего всякий из православных чтит и поклоняется, а бороды природные у всякого по человечеству имеются. Растущие на ней волосы по всей воле кто стрижет и бреет, а иной отпущает. Травами же мы без награждения вашего довольны и недостатка никакого не имеем».
Строчки перечеркивались, вместо них скрипучее перо выводило новые, юный Дорофей дважды чинил перо брадобрейным ножом, перемазал чернилами пальцы, и, Боже, милостив буди нам, грешным! – в его неискушенное людскими страстями сердце вползал от лукавого сатаны соблазн: вот, сейчас он безраздельно верит тому, что пишет, а когда читался манифест новоявленного государя, он без колебания верил тому манифесту. Господи, отведи напасть, изведи из темницы душу!.. Впрочем, на лице светловолосого с голубыми глазами юноши не отразилось и тени страдания, он только на минуту задумался, но его думы прервал повелевающий голос:
– Пиши!
Красноносый седой монах то и дело нюхал их тавлинки и чихал, сотрясая стол и колебля огоньки свечей. Секунд-майор в новом мундире похаживал, крутил черные усы.
«Покориться, конечно, мы были бы готовы, – писал послушник под диктовку, – ежели б называющий себя государем Петром III появился в царствующем граде Петербурге, там был принят и объявил о своем восшествии на престол без грабежей и разорения народа».
Грамота эта, помеченная 12 февраля 1774 года, была без подписей, но с монастырскою со шнуром печатью[29]29
Приводится в большом сокращении. – В. Ш.
[Закрыть].
Многие крестьяне и монахи ночь провели в соборе, с усердием молились Богородице. Юный Дорофей высоким, почти женским голосом читал книгу о разных чудесах, о том, как благословенная Богоматерь спасла великий град Константинополь от Епифского воеводы, свирепого зверя-кабана, и потопила в море лютые бусурманские полки его. Читал он бледными устами, а сердцем был в селе Никольском возле родной своей крестьянки-матери, возле двух своих сестренок. И твердо решил послушник, если будет неустойка, он передастся царю Петру Третьему: государь простой народ льготит и повсеместно волю возвещает.
Ранним утром были отслужены в переполненном людьми соборе утреня, обедня и молебен о ниспослании победы. Иеромонах благословил крестом всех защитников.
Вдруг, сотрясая воздух, загрохотали пушки. Началась перестрелка между враждующими сторонами. Пальба из пушек, ружей и пищалей длилась весь день, весь вечер до полуночи, потери в том и другом лагере были ничтожны. Обстрел монастыря продолжался и на следующий день, ядра отскакивали от монастырских стен, ворота были крепки и хорошо защищены, монахи и не думали сдаваться. Такая канитель, бесполезная для пугачевцев и нестрашная для монахов, длилась две недели.
К толпе атамана Пестерева подходили новые партии, отделившиеся от Белобородова, разбитого майором Гагариным, а также – от Кузнецова, но толку не было: монастырские стены стояли, как скала.
1 марта произошло под стенами монастыря непостижимое для осажденных чудо. Со стен заметили приближение со стороны Шадринска новой толпы пугачевцев. Прибывшие наскоро переговорили с осаждающими и вдруг всей массой стали поспешно отступать по дороге к Челябинску, покинутому Деколонгом. Монахи, вытаращив глаза, смотрели им вслед, мотали бородами, воздевали руки к небу, громогласно славословили владычицу мира за содеянное ею чудо.
Но никакого чуда не произошло. Переполох в толпе пугачевцев наделало разосланное Деколонгом объявление, в котором он требовал от них полной покорности и в дальнейшем сообщал, что «с состоящими при мне войсками, коих не менее трех тысяч, имею следовать к Екатеринбургу, для того в деревне Коротковой, в Долматовом монастыре и в прочих по тракту лежащих местах приготовить к продовольствию тех войск провианта, овса и сена безнедостаточно».
Возблагодарив Богородицу за чудесное избавление от злокозненных нечестивцев, монастырское начальство и представитель гражданской власти секунд-майор Заворотков приступили к расправе. Крестьян, принимавших участие в мятеже, собрали к северным воротам, якобы для выслушивания «всемилостивейшего» манифеста императрицы, а жившие в монастыре солдаты окружили их и штыками загнали в ограду.
Было опознано двадцать девять главных бунтовщиков. Их возвели на открытое крыльцо верхнего корпуса и учинили им скорый суд. Допрашивали: секунд-майор Заворотков и возвратившийся из Тобольска архимандрит Иакинф, человек жестокий и ненавидимый крестьянами. Участь двадцати девяти была предрешена.
– Палки! Плети! – неистово кричал на подсудимых иссохший рыжий Иакинф, ударяя в каменный пол тяжелым архимандритским жезлом. – Властию, мне данною, я вас научу, зверей несмысленных, как присягу рушить. Вы, скоты безрогие, самозванцу предались, священника да офицера и с ним сколько-то монастырской братии повесили.
– Мы не вешали...
– Молчать! – и архимандрит с такой силой ударил жезлом в каменные плиты, что из-под стального острия брызнули искры. – Камни сии вопиют к небу о вашем злодеянии! Вы святую обитель нашу и покровительницу Долматова монастыря преблагословенную Богородицу в немалую скорбь ввели! И за сие примете наказание велие... Так ли, всечестная братия моя? – обратился он к заседавшему ареопагу старцев.
– Так, – невнятно гнусили седобородые монахи, с тяжелыми вздохами опуская взоры: могут ли они прекословить столь строптивому Иакинфу?
– Палки! Плети! Стража, хватай! Палачи, постарайся во имя святой обители, дабы прочим изуверам-мужикам неповадно было.
Приговоренных по очереди валят на каменный промерзший пол, срывают одежду и начинают увечить гибкими палками и ременными плетями. Вопли избиваемых несутся по белу свету во все стороны, в исетские леса, на уральские заводы, догоняют отступающих пугачевцев, летят по сыртам, степям, увалам, мчатся в Оренбургский край к самому Емельяну Пугачеву – авось мирской заступник услышит их чутким своим ухом, а не услышит, так ему вольный ветер перескажет, а всего верней – примчится к царю на скакуне какой-нибудь отчаянный крестьянин-самовидец, упадет в ноги, завопит: «Слышишь ли, надежа-государь, как лихой богоотступник Иакинф мучает верное тебе крестьянство?» – «Слышу, – ответит государь. – Точи топор, настанет пора-времечко катиться голове твоего Акинфа с плеч долой».
Внизу, сострадая воплям избиваемых, гулко шумела огромная толпа крестьян:
– Какой ты архимандрит! Ты бесу служишь!
– Богоослушник ты!
– У тебя две любовницы на стороне, две бабы!
– Ты жилы из нас тянешь!.. Да и все монахи-то клянут тебя!..
Сухопарый Иакинф, мстительно стиснув зубы, криво улыбнулся, его реденькая, мочального цвета бороденка загнулась влево, испитое желтоватое лицо покрылось болезненными пятнами, из-под густых щетинистых бровей сверкали какие-то ехидные, шныряющие по сторонам глаза.
Вот он сорвался с места и, путаясь в длинной лисьей шубе, подскочил к перилам высокого крыльца.
– Молчать, дети сатаны! – закричал он на шумевшую толпу. – Здесь суд господен совершается!
– Сам сатана! Сам пес рыжий! – выкрикивали из толпы. – Дай срок, дождешься. Пошто ты мужиков-то мучаешь, рысь лесная? Ежели они винны пред тобой, отправь в губернию... А ты не судья нам!
– Молчите, изуверы!
– Сам молчи, рыжий дьявол!.. Ты и веру-то православную мараешь.
– Про-о-о-кляну!
– Кляни!
Иакинф, подняв над головой руку с жезлом и отведя ее назад, скривил рот, избоченился и с силой низринул в толпу тяжелый жезл свой, как копье.
– Гей, стража! Хватай изменников! – закричал он резким и скрогочущим, как скрип немазаной телеги, голосом. – Хватай черномазого с цыганской образиной. Волоки!
День шел к концу. Вечернее солнце облекало снежные увалы то в розовые, то в светло-голубые нежнейшие оттенки, оно отражалось своим сверканием в остекленных окнах монастырских зданий, в золоченых церковных крестах и главах, в бисерных глазенках нахохлившихся воробьев, что подняли предвесенний гомон на пряслах и в кустарнике, оно сверкало в наперсном, выпущенном поверх шубы золотом кресте архимандрита и в луже крестьянской крови, растекавшейся по каменным плитам пола. Вечернее солнце заботливо освещало мягкими лучами весь грешный мир суеты и скорби. Солнце было ко всему равнодушным и далеким.
О, как тяжело, как бесконечно больно в этот осиянный солнцем вечер умирать! Ведь весна не за горами; вот растает снег и разольются многоводьем реки, а там подоспеет благостное лето, и все кругом зазеленеет, зацветут душистые цветы, засеребрится ковыль в степях, зазвенят весенние хоры залетных птиц, заколосятся золотистые нивы. И вот прощай, жизнь – всему и навсегда прощай!..
Лишившихся чувств или едва дышавших, по знаку Иакинфа, подволакивали к внешнему краю стены, уходившей в глубокий овраг. На дне оврага, сквозь сугробы, бурели, как стадо медведей, крупные скатные камнищи.
– Подхватывай! – командовал секунд-майор стражникам и старикам солдатам. – Швыряй!
Казнимых схватывали за руки и за ноги, раскачивали и, творя покаянную молитву, швыряли в пропасть. Так было сброшено двадцать девять человек.
Послушник Дорофей находился в толпе монастырской братии на широкой с зубчатыми бойницами стене. Всякий раз, когда сбрасывали в овраг очередную жертву, он вскрикивал и судорожно хватался за голову. Волосы его растрепались, свисли на лицо, глаза горели, он весь содрогался.
Когда, кувыркаясь в воздухе, полетел вниз последний человек, Дорофей внезапно нагнулся, внезапно подхватил увесистый камень и, набежав на Иакинфа сзади, метко швырнул ему камень в голову. Архимандрит ахнул и упал. В поднявшейся суматохе юному Дорофею удалось бесследно скрыться.
Сидевший в Шадринске Деколонг иногда выходил из города, отгонял бродившие в окрестностях толпы, иногда наносил им поражения, но отойти далеко от Шадринска боялся. От 27 февраля он рапортовал Бибикову: «Я здесь, а вокруг меня и за мною в Сибирской губернии, по большой почтовой дороге в Тюмени, сие зло, прорвавшись, начинает пылать» и что силы мятежников растут все больше и больше.
Деколонг был прав: общее количество многочисленных отрядов пугачевцев составляло в окольных местах пять с лишним тысяч человек. Отдельные группы партизан ныне составлялись из монастырских крестьян села Никольского и других экономических селений. Они направились к сибирским городам – Тюмени, Туринску, Краснослободску, а самая большая группа, под начальством священника-пугачевца Петра Лебедева, пошла в сторону Кургана. К его отряду пристал и послушник Дорофей. Он подстриг волосы в кружок, сменил рясу на старый полушубок, а скуфейку на овчинную шапку. Слезы матери и двух девушек-сестренок не могли остановить его, он уверовал в правое дело «царя-батюшки» и пошел мстить за обиженных крестьян.
К сибирскому городу Кургану, кроме группы священника Лебедева, стянулась трехтысячная толпа пугачевцев с пятью пушками. Для отражения мятежников был сформирован двухтысячный отряд вооруженных крестьян, к нему придана рота солдат при одной пушке. Майор Салманов повел отряд к окруженному пугачевцами Кургану. Как только обе стороны вошли в соприкосновение, крестьяне правительственного отряда схватили своего командира майора Салманова с двумя офицерами и выдали мятежникам. Все трое были повешены, пугачевцы заняли Курган. Большая часть населения окрестных сел и деревень, более 18 000 человек, целиком передались пугачевцам.
Сибирский губернатор Чичерин быстро мобилизовал остатки сил, имевшихся в его распоряжении, и направил на выручку Кургана небольшой, но крепко сбитый отряд майора Эрдмана. Смелою атакою Эрдман разогнал у Осиновой слободы трехтысячную толпу пугачевцев и вскоре взял Курган.
Прочие отряды мятежников тоже претерпевали неудачи. В Краснослободске, Туринске и Тюмени они получили поражение от сибирских рот и ополченцев. Чичерин доносил Бибикову: «Оных поражая, разгоняют, предводителей ловят и присылают в Тобольск, слободы и деревни утверждают вновь присягою».
Напрасно Чичерин своими донесениями вводил в заблуждение генерал-аншефа Бибикова: новые присяги никакого спокойствия средь взбаламученных крестьян не утверждали, и лишь только правительственные отряды покидали «замиренную» местность, как многие из крестьян, только что присягнувших на верность государыне, брались за топоры и поспешали к «батюшке».
Западные окраины Сибирской губернии, вся Исетская провинция с Екатеринбургом и северная часть Оренбургского края были в полном восстании, там целиком властвовали пугачевцы.
Подкоп подходил к концу. Русский мужик Ситнов, руководивший работами, известил Пугачева, что траншея уперлась в фундамент колокольни. Пугачев велел приостановить работу, выкопать в конце траншеи глубокую яму и заложить в нее бочонки с порохом. Затем все рабочие были выведены из траншеи и помещены в двух амбарах «безвыходно» впредь до того часа, когда воспоследует взрыв.
В самую полночь, 19 февраля, возле крепостной стены вскуковала кукушка. Казачок Ваня Неулыбин, и на этот раз впущенный в крепость, сообщил полковнику Симонову, что казаки собираются взорвать колокольню и броситься на кремль. Какие-то темные, неуловимые силы, вопреки всем предосторожностям, принятым Пугачевым, продолжали действовать.
Симонов приказал тотчас же убрать хранившийся у него под колокольней порох и приступить к устройству контрминной траншеи.
А пугачевцы меж тем приготовились к штурму. Небо было затянуто низкими тучами. Яицкий городок лежал во тьме. Не прошло и двух часов, как раздался глухой звук, словно отдаленный раскат грома, земля встряхнулась, белая колокольня вздрогнула и тихо-тихо начала валиться в ретраншемент. И – удивительное дело: два спавших на верхнем ярусе колокольни старых стража вместе с соломенными постельниками были как бы «положены» на землю[30]30
«Отечественные записки», 1824, № 52, с. 171. – В. Ш.
[Закрыть]. Очнувшись от страха, они вскочили и, ничего не соображая, дико закричали свое привычное:
– Посма-а-тривай!
– Погляа-а-а-дывай!
Камни рухнувшей колокольни не были расшвыряны, они свалились в груду, придавив собою около полсотни защитников крепости. И не успела еще осесть пыль от взрыва, как с крепостных батарей загрохотали пушечные выстрелы, затрещали залпы ружей.
– Измена! – пронеслось по рядам казаков-пугачевцев. – Откуда мог Симонов пронюхать?
Они надеялись, как только рухнет колокольня, неожиданно ворваться в спящую крепость – и все кончено! А теперь, когда всюду гремят пушки, казаки на штурм не отважились.
– На штурм! На слом, атаманы-молодцы! – слышались в темноте разрозненные выкрики, но в них мало было воинственного пыла.
Засев за своими завалами и укрываясь по задворкам от сильного крепостного огня, казаки кричали: «На штурм, на слом! Ги-ги! Ги...» – но сами ни с места.
От кучки к кучке перебегали озлившиеся и растерянные атаманы: хромой Овчинников, Витошнов, с подбитым глазом Каргин. Все вместе поощрительно взывали:
– Не трусь, казаки-молодцы. Вперед, вперед! Дай духу, дай духу!..
Один лишь Пугачев мог бы увлечь за собою казаков и бросить их в бой. Но он видел, что дело проиграно, и не хотел зря жертвовать самым верным своим оплотом. К тому же он не мог не понимать, что не в Симонове, не в Яицкой крепости наипервейшая задача, ведь он и походом-то двинулся сюда, уступая настоянию атаманов.
Штурм был отменен. Все труды с новым подкопом пропали даром. Симонов, видя бездействие со стороны мятежников, сбавил силу огня, а перед утром крепость вовсе замолчала. Однако крики, гиканье, устрашающий визг звучали со стороны штурмующих до самого рассвета.
Начались сборы Пугачева в Берду. Тихий городок зашевелился: приводились в порядок сани, лафеты, колеса пушек, грузились возы рыбой, овсом, мукой, казаки чистили скребницами кошлатых своих лошадок.
Пугачев говорил войсковому атаману Каргину:
– Послужи же, старик, мне верою и правдою. Я, государь, отправляюсь под Оренбург к своей великой армии, а государыню здесь оставляю. Ежели Бог приведет, я вскорости возворочусь сюды. А вы все, от мала до велика, почитайте государыню все равно так, как и меня чтите, своего государя. И во всяк час будьте ей послушны.
– Сполню, батюшка, ваше величество, – сказал Каргин и, достав из кармана, подал Пугачеву две вырезанные печати с гербом и прописью «Петр Третий». – Вот, батюшка, государственные печати вам сготовлены.
– А-а-а, ништо, ништо... Знатно сработаны, – залюбовался Пугачев печатями. – Кто делал?
– А делали их три серебряных дел мастера, дворцовые крестьяне, а четвертый – проживающий в нашем городке армянин.
Прошел в сборах день, наступила последняя ночь. Разлучаясь с мужем, Устинья плакала. Она лежала на кровати, прикрывшись до подбородка шелковым одеялом и разбросав по одеялу красивые обнаженные руки в браслетах и кольцах. Он взад-вперед ходил, босые ноги его неслышно ступали по пышному ковру. Нарядный кафтан был небрежно кинут на стул, лента со звездой валялась на столе, покрытом суконной вышитой скатертью. Стол был уставлен блюдами со сладостями, орехами, подсолнечными семечками и кувшинами с вишневой наливкой, квасом, медовой брагой. Скорлупки, шелуха, гребень с очесами волос, янтарные бусы. Две свечи горят. От изразцовой печки пышет зноем. Пугачев в беспоясой рубахе, ворот расстегнут, широкие и длинные шаровары, как юбка.
Устинья глядит в пространство, слезы покапывают на подушку, но лицо у нее окаменелое, застывшее. Она говорит негромко, то вызывающе и властно, то робко и приниженно, и тогда Пугачеву становится жаль ее.
– Вот пир был, свадьба... Царицей я стала, – говорит она. – А на сердце-то спокойно ли у меня, на душе-то, ну-ка, спроси? Две недели скоро, а я все еще, как полоумная... Лихо мне.
Пугачев на ходу почесывает поясницу, поддергивает шаровары, ерошит волосы, кряхтит. Он груб, прямолинеен, и в женской душе ему трудно разобраться. «Блажит баба», – думает он.
– Скажи, уж подлинно ли ты государь есть? – раздается ее голос. Пугачев хмурит брови, молчит, сердито гремит кружкой, большими глотками пьет квас. – Сумнительство меня берет, почто ты женился на мне, на простой казачке? Обманул меня, молодость мою заел. Ведь ты человек старый, держаный, а мне восьмнадцатый пошел.
– Ну, ладно, ладно!.. Чего больно-то в старики меня произвела? Вот бороду да усы сниму, все рыло выскоблю – много моложе буду. Я в Питенбурхе-то, понимаешь, завсегда бритый ходил.
– Бороду снимешь, казакам не будешь люб, – возразила Устинья.
– Да уж это так... Пуще всего этого опасаюсь. А для ради тебя – готов, прилюбилась ты мне шибко, – сказал Пугачев и подошел к Устинье, поцеловал ее в губы и протянул ей медовый пряник. – Не плачь, кундюбочка моя, утри слезки.
– Где это слыхано, где это видано, чтоб у царя две жены было? – помедля, сказала Устинья и устремила пристальный взор в смущенное, с круто вздернутыми бровями лицо своего супруга. – Ведь ты имеешь государыню... И смех, и грех, вот те Христос!
– Какая она мне жена! – вскричал Пугачев. – Она потаскуха! А меня с царства сверзила. Она злодейка мне!
– Не кричи столь громко-то, – тихо сказала Устинья. – А то внизу подумают, что бьешь меня... Так неужели тебе супругу-то свою прежнюю не жаль, Екатерину Алексеевну-то?
– А она меня жалела? Мне только Павлушу жаль, детище мое возлюбленное. Он, наследник-цесаревич, законный сын мой... А ей, коварнице, как только милостивый Господь допустит в Питер, тем же часом голову срублю.
– Тебе допрежь голову-то срубят, – сказала Устинья, и на ее щеках, покрытых еще не просохшими ручейками слез, заиграли улыбчивые ямочки. – Разве этакого допустят в Питер?
– Вот Оренбург возьму, до Питера дойду беспрепятственно...
– До Питера, поди, еще много городов.
– Мне бы только Оренбург взять, а достальные города сами ко мне преклонятся... Народ мой замаялся под изменницей жить. Меня, государя своего законного, ждут не дождутся все...
Снова наступило безмолвие. Сбивчивые, противоречивые мысли бросали Емельяна Ивановича в щемящий сердце сумрак. «Мне ли, темному, быть царем? Да Россией-то, пожалуй, и самому Рейнсдорпу не управить. Дворяне, генералы, царедворцы, они – один хитрей другого... Да нешто всех переказнишь? А ведь от них вся канитель... И, пожалуй, верно говорит Устинья: „Тебя, мол, первого и казнят“. Он гонит хмурые мысли прочь, он утомился. „Поспать бы да напоследок Устинью приголубить“, – думает и надбавляет шагу. Но горенка не особенно просторна, и он движется, как в клетке волк. Вдруг наступил ногой на острую скорлупку, резко крикнул: „Ой!“
– Ой! – встряхнувшись, вскрикнула и задремавшая было Устинья. – Чтой-то ты, миленький, взгайкал так?..
– Скорлупка, стрель ей в пятку, до боли проняла. – Пугачев нагнулся и швырнул скорлупу от грецкого ореха в печь.
– Тебе вот больно, а мне того больней, – со вздохом протянула Устинья. – Вот ты наутро в поход... Поиграл со мной, как кот с мышью, да и бросил... И осталась я, молодешенька, ни в тех, ни в сех... Ну, кто я, кто?
– Государыня!
Устинья сдвинула брови и, приподнявшись на кровати, крикнула:
– А ты-то кто?! Богом святым заклинаю тебя – царь ты али... злодей-путаник?
Пугачев запыхтел, жилы на висках у него надулись. «Эта похуже, пожалуй, Лидии Харловой! Допросчица какая...» Он дунул на одну, на другую свечу – в горенке темно стало; а когда глаз присмотрелся, – выплыли из тьмы два голубых оконца: через разукрашенные морозом стекла глядела полуночная луна.
Емельян Иваныч разделся, подошел к Устинье, проговорил:
– А ну, чуток подвинься... Государю всея России спать охота.
Утром в соседней горенке был приготовлен стол с яствами и питием. При государыне оставлены две фрейлины из молодых казачек: Прасковья Чапурина и Марья Череватая. А главной смотрительницей дома – баба Толкачиха. Из мужчин в придворный штат входили: отец Устиньи – Петр Кузнецов, Михайло Толкачев и Денис Пьянов. Пугачев распорядился отвести в нижнем этаже «дворца» горенку для старца-сказителя Емельяна Дерябина и взять его на казенный кошт.
Уезжая, он приказал иметь у дворца постоянный казачий караул, а войсковому атаману Никите Каргину сказал:
– Ты, старик, держи Симонова в блокаде. А учрежденные мною посты сохранять безо всякой отмены. Нарушишь приказ – строгий взыск буду чинить.
По отъезду Пугачева сила блокады не ослабевала: крепость была обложена старательно.
Перфильев попытался вступить с комендантом крепости в переговоры. Полковник Симонов выслал для переговоров капитана Крылова.
Беседа происходила в просторной, опрятной избе Перфильева. Он жил с женой хорошо, угощал гостя по-богатому. Откупорил бутылку рому, привезенного из Питера. Икра, жареная рыба, яичница со свиным салом, жаренные в масле пышки, соленый арбуз. Сначала выпили по стакану водки, а затем уже перешли на ром. Крепкий, склонный к полноте Крылов за время блокады отощал. Вчера пошел во щи последний кусок солонины. А с сего дня капитану пришлось перейти на хлеб, капусту, брюкву.
– Тактося, ваше благородие, Андрей Прохорыч, – завел речь Перфильев. – Вот я и толкую... Не пора ли вам образумиться да принести Петру Федорычу покорность?








