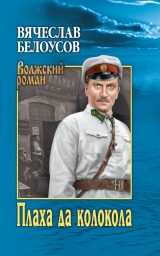
Текст книги "Плаха да колокола"
Автор книги: Вячеслав Белоусов
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
Но Китаец молчал. Он и вообще не говорлив, а теперь словно язык проглотил. Проклиная всё на свете, я принялся драить свой наган. Он всегда при мне, потому что в ближнем бою удобен. Китаец тоже повертел в руках двустволку, а увидев, как я потею, словно опомнившись, вытащил свой веер и принялся за него. Работа ему предстояла осторожная и аккуратная, каждое сверкающее перо в смертоносном опахале могло ужалить, и он пыхтел от усилий.
– Мы теперь с тобой за приманку будем, – напомнил я ему. – После нападения драпать к берегу станем, где основная наша братва схоронится… ну и правило знаешь: друг от друга ни на шаг и спина к спине.
Он мрачно кивнул, так и не открыв рта. И когда Прохор, по обыкновению, привёз нас к островку и укатил, оставив, тоже не проронил ни слова.
Замаскировавшись в сугробе и выложив перед собой оружие, мы молчали. Говорить было не о чем, оставалось ждать. Высилось над нами звёздное небо, тишь резала уши, и малейший звук, летя по льду бог весть из какой дали, отдавался барабанным боем в сердце.
Стук подков услышали разом. Без команды расползлись от дороги по обе стороны, пропуская подводы между собой, замерли, поджидая. Подвод оказалось три. Когда поравнялась первая, я выскочил перед мордой лошади, заорал и, не дожидаясь, пальнул вверх, опасаясь, что у Китайца что-нибудь не заладится. Но тут же дважды грохнуло позади третьей подводы, это у Китайца сработало. «Только почему из обоих стволов?» – с опозданием ударило мне по мозгам.
Обозники слетели с телег, утонув в сугробах. Получалось как по маслу. Запрыгнув на лошадь, я погнал первую телегу к берегу, где поджидала по договорённости остальная братва. Но, словно почуяв неладное, оглянулся: Китаец возился с отставшими телегами. Шарахнулась от выстрелов вторая кобыла, и он мыкался, подтягивая к ней третью с поклажей.
– Давай, мать твою! – заорал я ему. – Догоняй!
Но тут выскочили всадники. Откуда их принесло, я не заметил. Но это были не наши. Пуля просвистела мимо уха, загрохотало и справа, и слева, лошадь моя взвилась вверх и понесла. Я упал, сильно ударился, очухался от острой боли в ноге и, когда попытался подняться, рухнул, словно подкошенный. Очнулся, вокруг никого, стрельба велась у последней телеги. «Вот и пригодится наган», – мелькнула тоскливая радость, и, закусив губу, чтобы не застонать, я пополз на выстрелы. Два всадника кружили возле перевёрнутой телеги, упавшая лошадь хрипела, где-то в поклаже прятался Китаец. К нему они и подбирались, должно быть, забыв про меня, остальные унеслись за канувшей поклажей. Мне оставалось уже метров десять, когда всё кончилось. Китаец угрохал всё-таки одного, но второй стоял над ним, упираясь винтарём в грудь, и что-то орал, благословляя в последний путь или упиваясь удачей. Откуда-то с берега доносилась сумасшедшая перестрелка.
Ползти я не мог, силы кончились. Револьвер дрожал в руках, и, целясь, я молил Бога, чтобы не дал потерять сознание: над Китайцем стоял сам Борода! Я узнал его по визгливому крику; ухоженная бородка вздрагивала в лунном свете при каждом его вопле. Одно мешало стрелять, не укладываясь в моей голове, – на Бороде была милицейская форма!
– Скотина! – визжал он. – Я же простил! Отпустил с дружком прошлый раз!
Он оглядел вокруг себя навороченное: трупы лошадей, убитого товарища, перевёрнутые повозки:
– Здесь тебя кончу!
Щёлкнул затвор его винтаря. Но я нажал на спуск раньше…
Под мат, проклятья и стоны полуживой Китаец тащил меня на себе по снегу. Потом силы оставили его, и лунный свет поблёк для нас обоих.
* * *
Наткнулся на нас Коновал, когда, отчаявшись, все уже бросили поиски, да и опасно становилось – рассветало.
Оказывается, полз Китаец совсем не в ту сторону и достались бы наши грешные тела волкам или одичавшим собакам, если б не Коновал.
– Ты мой должник, – заскочил он в сарай, за ним показалась и бабка Чара, выхаживавшая нас. – Примешь для промыва нутра? Эта ведьма заморит вас отварами да мазями. – Украдкой он вытащил бутылку самогонки. – А моё средство верное!
Но распахнулась дверь шире, и в сопровождении Прохора возникла фигура Дилижанса. Толстяк, держа в руках шляпу, нагибал лысую голову, чтобы не задеть притолоку и паутину, свисавшую тут и там. Прохор старался забежать вперёд, выгоняя Коновала, но наш спаситель смылся сам, знал своё место.
– На ноги, на ноги, орлы! – бодро гаркнул Дилижанс, остановившись в нескольких метрах от нас.
Неприглядная обстановка, грязь и запахи лечебных настоек явно смущали его, не скрывая, он брезгливо морщился.
– Залежались, – поддакнул Прохор, не разгибая спины. – Балует их старуха.
– Пора, пора! – помахал перед нашими глазами ручкой в перчатке Дилижанс. – Готовлю вам интересную работёнку, орлы. Опоздаете, другим достанется.
И он заспешил на свежий воздух. Прохор, кашляя, успел опередить его и распахнул дверь.
– Сука! – процедил сквозь зубы Коновал, появляясь из темноты угла. Он, оказывается, и не думал уходить, спрятавшись в углу, и снова сунул мне водяру. – Ну что, примешь?
Я покачал головой, распухший язык всё ещё мешал говорить.
– Тогда, может, покуришь?
С его помощью я кое-как приподнялся, нога не разгибалась, старуха еще раньше пришпандорила к ней дрын.
– Как дитя, право, – хмыкнул Коновал, кряхтя, взвалил меня на спину и сволок к двери. – На сеновале курить нельзя. Прохор припрётся, хай подымет. Он пожара пуще смерти боится.
Мы осторожно закурили, приоткрыв дверь, и тут же услышали голоса. Дилижанс, стоя посреди двора, о чём-то выспрашивал Курагина, тот лебезил, только задницу ему не лизал.
– Так кто же кого из них тащил? – допытывался Дилижанс.
– А шут их знает, Корней Аркадьевич. Коновалу разве можно верить? Он вечно пьян.
– Говорю же, сука! – не вытерпел Коновал, рванулся в дверь, но я его удержал.
– Если Китаец, откуда в нём силы взялись? Тощий, как гвоздь.
– Красавчик, конечно. Не сомневайтесь, Корней Аркадьевич. Красавчик бугай вон какой!
– Не скажи. Желторожий – мужик жилистый.
– Мартышка и есть мартышка… Лучше б сдох! Нам теперь в нем надобности никакой, не до пароходов.
– Ты о чем, старик?
– Может, я шепну Чаре, ведьме нашей?
– Это как?
– Назад, на тот свет, возвернёт. Она легка на руку, лишь прикажите.
– Отравить, что ли?
– И не заметит никто. Уснёт желторожий, и все концы.
– Ах ты, чёрт! – Дилижанс задохнулся дымом. – Чего городишь, старый хрыч!
– Как скажете.
– Они ж это?.. Герои! Теперь они мне знаешь как нужны! Братва только о них трёп и ведёт! Это ж какой пример нашим молодцам! Урки про них сказки такие разведут!..
– Эти умеют…
– Ты газетки-то читаешь, старик?
– Газетки? – хихикнул Прохор. – Зачем они нам. Жива была моя бабка, сходила с ума, а мне не до них.
– Перековывать тебя надо, – захохотал Дилижанс. – Товарищи повсюду о чистке заговорили, нам об этом тоже следует подумать. А что? В ногу со временем поспевать надо. Я их по-свойски наградить думал.
– Без этого не обойтись?
– Орлы-то наши, знаешь, как своим подвигом Ваську подняли?
– Василия Евлампиевича?
– Читал бы газетки, не спрашивал. Вот, послушай. – Он захрустел бумагой. – «…За ликвидацию банды атамана Бороды, длительное время свирепствовавшей близ города и грабившей обозы рыбопромышленников, представлены к почётным грамотам»… – Он прервался, прокашлялся. – Это лишнее. Вот: «…сам атаман коварным и обманным способом проник в ряды нашей Красной милиции, поэтому долгое время был неуловим и ему удавалось вершить свои чёрные дела»… – Дилижанс поперхнулся, сплюнул, кашлянул, прочищая горло, сипловато пожаловался: – Всё у этих газетчиков в одной куче, пока до главного доберёшься. Вот: «Своей энергией, повседневным упорным трудом товарищ Турин честно выполнял все задания Советского Правительства, чем оправдал высокое звание Красного Пинкертона».
– Кого, кого?
– Уровень повышай, старик, – захохотал Дилижанс. – Вот тебе и Васька-божок! От самого товарища Полякова ему поздравления! Большой человек в губисполкоме! У них это, знаешь!.. – Он крякнул и продолжил: – «…Крепче держи Красное Знамя Труда, товарищ! Пусть оно ярко горит назло капиталистам и на великую радость пролетариям Земного Шара!» Но то бумага. А Василия нашего ещё и по службе продвинули. Теперь он о-го-го!
– Вона, значит, куда дотянулся…
– Вознёсся, старик. Вознёсся. – Дилижанс высморкался. – А за тех двоих молодцов теперь ты в ответе. И ведьме своей скажи, чтоб ни-ни!
– Да упаси Бог! Я что же… Как вами велено будет.
– Через неделю чтоб оба на ногах были. А встанут – ко мне.
Хлопнула калитка во дворе. Коновал затушил окурки и свой, и мой в собственной огромной лапище, бережно перетащил меня на сеновал.
– Так, – потрепал он меня за волосы, – красные пинкертоны, значит…
Развернулся и ушёл.
Тем закончилась наша встреча с Китайцем, впрочем, что я мелю, так началось наше дальнейшее содружество.
VI
Не надо большого ума догадаться, что последовало дальше. Вонючка, новая шестёрка Панкрата, утром уже рассвистел, что Китайца увезли из «Белого лебедя». Взялись за него якобы настоящие сыскари из уголовки. Прикид следовал очевидный: моего дружка будут раскручивать на убийство Голопуза, а на всякий случай подвесят с дюжину дохлых кражонок, числящихся нераскрытыми, или какой-нибудь гоп-стоп[4]4
Гоп-стоп (уголов. жаргон) – разбой.
[Закрыть] завалящий. Это нормально, значит, назад из конторы раньше недели его не возвернут.
Раз меня оставили в покое сыскари, смекал я, местными разборками в камере займётся сам Панкрат. Я у него теперь как кость в горле. Вонючку ко мне он уже приставил, тот мозолит глаза, отрабатывает усердно, но я пока сдерживаюсь.
Панкрату, конечно, также понадобится время подыскать заплечных дел мастеров, чтобы толково и без хлопот посадить меня на перо[5]5
Посадить на перо (уголов. жаргон) – убить.
[Закрыть]. Закавыка у него серьёзная, рассуждал я, уныло хлебая обеденную баланду и карауля из-под бровей каждого подозрительного из сокамерников. В этой своре отчаянных урок, желающих заработать на моей шкуре, достаточно, но одноногий подыскивал таких, чтоб без промаха. Поэтому я тоже с интересом прикидывал охотников по свою душу. Набиралось с пяток, реальных отмежёвывалось мной трое: Халява – уж больно он в деньгах нуждался, проигрывая в карты, задолжал многим. Ловок с финкой управляться, как-то по злобе метнул заточку в Ваньку Крысу, обвинив того в мухлеже при раздаче, пол-уха ему отхватил, а железяка, пролетев метра два, впилась в стену чуть не на четверть. Вот это удар так удар: стенка не деревянная, а каменная! Халява завалит за один взмах, если не уследить, уворачиваться поздно будет. Он поджар и ловок на ноги, не ходит, а стелется, полусогнувшись, словно лиса в курятнике, и звука шагов не слыхать.
Второй, без всяких сомнений, Валет. Черноусому брюнету с былой белогвардейской статью на балах с дамочками танцевать, а он в задрипанной шинели на нарах прохлаждается. Но главное – его глаза, в них запала такая идиотская печаль, что лучше не заглядывать. Поговаривали, он с придурью, был на фронте в Первую мировую контужен, не обошлось и без лечебницы для психбольных. Но не все верили: после Гражданской многие лепили горбатого, напуская на себя разного. Псих этот был опасен непредсказуемостью. Ну и третий – Дантист. Про натуру его нетрудно догадаться. Кличка подчёркивала его увлечённость: изощрён в жестокостях и пытках. Просто садист. Он прославился ещё в банде Ворона, кости которого давно сгнили. Рассказывали, что Дантист и своих провинившихся не щадил. Кочевал из одной кодлы в другую, вожаки брали его на роль палача. Редкая профессия, но нужная…
Конечно, к тем дням, о которых рассказ ведётся, Дантист постарел, сетовали, пыл не тот и прыти поубавилось, однако смельчака открыто сказать это не находилось.
Глаз на ушлую троицу я положил не зря, Панкрат с некоторых пор приблизил их к себе, снизошёл староста, так сказать, до личного общения. Наблюдая, я убедился, что одноногий ведёт с ними тайные переговоры.
Одним словом, перестал я спать по ночам. Днём клевал носом, а с отбоем старался глаз не смыкать. Раньше Китаец мне спину берёг, а я – ему, теперь каждый шорох поблизости мог быть смертельным. Однако хотя и дублёные у меня нутро и шкура, а без сна долго не продержаться, да и ждать в драке первого удара – верная погибель, поэтому подумал я, подумал и однажды в самом начале очередного обеда опрокинул, будто невзначай, содержимое своей миски на рожу Халявы. Я его первым выбрал, больно уж он посматривать стал со значением, будто выбирая место на моём теле; как ни обернусь, он пялится и тут же спешит отвернуться. Всё с улыбочкой ядовитой. Точно гадюка! Голову прижмёт и буркалы жёлтые прячет.
Миска товарная была, увесистая, а главное, ровно пропечаталась на его физиономии, мало что кашей зенки ему залепила, нос свернула набок, ну и зубы затерялись бы под ногами, если б Халява их вовремя не проглотил вместе с хлынувшей кровью. Ногой-то можно было не трогать, но живот безобразный он отрастил, так свисал, что грех было его уже не поправить… Он и успокоился на полу. Первенький из троицы.
Так я угодил в сундук. Кто там не был, не советую торопиться; мне-то по нужде пришлось туда лезть, карцер похлеще, чем в подвалах Бутырки: без окошка, под ногами тьма крыс и вонь от прогнившей влаги. Как нос ни затыкай, а дышать чем-то надо. Выбирать не приходилось, зато я там всласть выспался в первые сутки. Но благость попортили крысы, затеяли настоящую охоту за моими ногами. Подёргался я, повоевал и с тоской подумал, что больше недели не стерпеть, останусь без башмаков, а там и без пальцев. Спас вертухай[6]6
Вертухай (уголов. жаргон) – надсмотрщик, конвоир в тюремных коридорах.
[Закрыть], весть от барина[7]7
Барин (уголов. жаргон) – начальник тюрьмы, ИТК.
[Закрыть] принёс, что наградил тот меня всего тремя сутками, и я успокоился – перекантуюсь, в камеру возвернусь, а там видно будет.
VII
Но потревожили меня раньше.
Накануне, измучившись от крысиной возни и визга, задумал я на них облаву. Свет в сундуке горел постоянно, определиться, когда день, а когда спать пора, невозможно, я ориентировался на глазок надзирателя – хлопнет он, просунут в окошко кружку воды и корку хлеба, значит, приняв харч, пора укладываться, заматывать ноги поплотней разным барахлом, что, может, когда-то и называлось одеялом, укрывать на всякий случай и голову. Бывало, крысы шастали и по ней, пока дрыхнешь и не проснёшься от их допеканий. Но продолжалась идиллия недолго. Надоели им передышки или запах хлеба раздражал, им-то не доставалось ни крошки, крысы изменили тактику и завели постоянную возню вокруг моих ног, желая испробовать их на вкус. Причём с некоторых пор я заметил, что количество их увеличилось. Тлевшая под высоким потолком мизерная лампочка, хотя и была залеплена чёрной от погибших мух паутиной, однако свет чудом пробивался, и мне удалось приметить среди огромной стаи озверевшего вожака. Это было чёрное мерзкое чудовище размерами и повадками напоминавшее ехидну с продолговатой пастью и щёткой острых мелких резцов. Хвост превышал его вдвое, волочился, и порой чудовище щёлкало им, как хороший пастух кнутом. Так это было на самом деле, или мерцающий свет чудил надо мной, однако выстрелы, издаваемые хвостом, перепутать с другим шумом было невозможно, поэтому впервые стало мне по-настоящему не по себе. «Не привели ли эти твари своего матёрого вожака, чтобы поставить последнюю точку?» – подумалось мне, и подвальный холод, до того продиравший до самых костей, вдруг исчез, а я изрядно пропотел. Страшилище было окрещено мною Шушарой, и сразу же повело коварное наступление. Прячась так, чтобы я не видел, оно каким-то образом забиралось в тёмных углах по булыжникам вверх, выше моих нар, и внезапно пикировало оттуда на гору тряпья, под которой я выдерживал оборону. Продумано было хитро: вгрызалась Шушара своими клыками глубоко, разбрасывая всё и пытаясь добраться до моего тела. Тяжко пришлось уже от первой её атаки. Опомнившись, я попытался её схватить, но шерсть выскользнула из моих пальцев, она улизнула. Я снова затаился, но её смутили отпор и мои ухищрения. Шушара придумала новую подлость и теперь обрушилась на меня сверху уже с другой стены. Подготовившись, я тут же вскочил на ноги, но зверю вновь удалось удрать, при этом у меня был прокушен башмак и едва не задет большой палец правой ноги. Он уже был у неё в пасти, но ударом второй ноги я сбросил тварь с нар и, спрыгнув вниз, стал топтать и давить всю смердящую и визжащую стаю. К моему разочарованию, Шушара удрала, хотя ей тоже досталось. Двух или трёх её подружек я безжалостно размазал по полу, и теперь передвигаться в камере следовало осторожно, чтобы самому не поскользнуться в месиве их останков и не грохнуться. Вони прибавилось, но вертухай лишь расхохотался на все мои просьбы выделить швабру и воду, чтобы хоть как-то зачистить пол.
– Воюешь? – хрипел он в глазок, наслаждаясь зрелищем и не открывая двери. – Давай, давай. Это тебе в качестве тренировки. И меньше дрыхнуть станешь, а то потолок трясётся от твоего храпа.
Крысы убрались, зализывая раны и справляя тризну по усопшим. Удивительно, но, когда через некоторое время с опаской я поднялся и отправился по нужде, трупы раздавленных тварей отсутствовали.
«Они утаскивают их в норы и пожирают!» – затошнило меня. Что-то ещё раз изменилось в моём сознании – мне почему-то представилась наиболее уязвимая нижняя часть моего тела, бедные мои худые конечности, в которые вгрызаются клыки этой паскудной Шушары. А вот уже и целые полчища этих мерзких тварей цепляются в меня, хрустят мои кости, ручьём льётся кровь, и всё моё нижнее составляющее со смаком пожирается ими!..
Треск перемалываемых челюстями костей был так естественен и натурален, что я вздрогнул и больно ударился головой о булыжники. Это вернуло меня к действительности, треск или посторонний неосторожный шум мне не почудился. К двери карцера кто-то подбирался, и её уже пробовали осторожно открыть. Вертухай так не ходит, смекнул я. Это-то и заставило меня насторожиться. Вертухай топает так, что его можно услышать за версту, он или сам боится один шастать по коридорам каземата, либо окриком предупреждает заранее о своём появлении, чтобы разбудить меня. Значит?..
На всякий случай, чтобы не сразу заметили, я на своём месте на нарах быстро сбил кучку тряпья, изобразив спящего, а сам примостился в углу под дверью. Чем чёрт не шутит!
Скрипнул ключ в дверях, хотя чувствовалось, его изрядно смазали. Заскрипела бы и дверь, но её приоткрыли очень осторожно и медленно. Внутрь просунулась голова. Долго прислушивался её владелец.
– Дрыхнет? – с нетерпением спросил тот, кто был сзади, так как голова вертелась в разные стороны, насколько позволяла щель и молчала.
– Не видно ни черта! Тут такая вонь и темень!
– Дрыхнет?
– Да не напирайте вы, Панкрат Семёнович! – прогневался Халява, шепелявя.
Я наконец узнал его голос. «А вторым, выходит, староста припёрся на экскурсию, – смекнул я, – зачем же я им в сундуке-то понадобился?»
– Дырявь его, пока дрыхнет! – Голос старосты подрагивал от нетерпения. – Не приведи Господи, проснётся. Бугай он здоровый.
– Да не слышно, чтоб храпел…
– Ну и чего?
– Силантий, вертухай-то, успокаивал, что храпит лишенец, когда спит… Что-то тут не так…
– Здорово он тебя миской по башке шарахнул! До сих пор, гляжу, в себя не придёшь. Или струсил?
– Да погоди, дай прислушаться.
– Чего тут слушать! – Дверь распахнулась под напором старосты. – Дай-ка шило. Я его, падлу, насажу, и не шевельнётся.
– Нет уж, позвольте! – решился Халява. – Мои зубы дорого ему обойдутся!
И с этими словами Халява нырнул в карцер, бросился на гору тряпья и всадил руку в самую глубину.
Встать ему уже не удалось. Я навалился на него всей своей массой сзади, схватил обеими руками голову и дубасил ею железную раму нар до тех пор, пока не почувствовал, как треснул его черепок. А потом обернулся к старосте. Одноногий как застыл от неожиданности в дверях, так и стоял столбом, всё ещё недоумевая. Я сбил его с ног, помня опасность его острой деревяшки, и стал месить его тело ногами, как только что топтал крыс. Видно, я был в совершенном бешенстве или совсем без понятия от ненависти: я плясал на нём, не слыша ни хруста его костей, ни его воплей, ни окриков подбежавшего вертухая. Что-то тяжёлое ударило меня промеж глаз. Наверное, это была связка ключей. Сознание покинуло меня.
Когда я очухался, не двигаясь и приоткрыв один глаз (второй был залит кровью), в карцере переговаривались уже двое вертухаев. Тот, который опрокинул меня с ног, возился у тела Халявы.
– Ей-богу, насмерть! Вот мать его! – матерился он. – Весь череп ему раскроил, падла!
Его напарника больше волновало другое, он пнул меня ногой:
– Ты глянь на этого. Сам-то не угрохал Красавчика? Ключами-то, кажись, лоб ему разбил. – Он лениво нагнулся, брезгливо поднял связку здоровущих ключей, долго обтирал их от крови, потом принялся за свои руки.
– А хрен с ним! – ткнулся мой обидчик к телу одноногого. – Глянь, он и Панкрата укокошил!
– Не может быть!
– Не дышит и этот.
– Ты грудь, грудь его послушай!
– Да я уже перемазался весь! Тут каша сплошная, а не грудная клетка. Истоптал ему рёбра этот слон.
– Чего же делать будем? – Брезгливый выпрямился и опёрся о косяк. – До конца вахты часа два. Натворил ты делов, Силантий Ферапонтович. Дались тебе сребреники этого Иуды. – Он пнул ногой теперь уже старосту.
– Ежели бы серебро! Бумага! А ты про свою долю забыл?
– Ты мне сунул-то кукиш! – сплюнул на тело одноногого брезгливый. – Договаривались насчёт одного Красавчика? Ты же сам обещал, повесят лишенцы этого бугая, и назад?.. Объявим чистое самоубийство… А что мы имеем теперь?
– Что имеем?
– Три трупа! Я под этим не подписывался.
– Подписывался, не подписывался, теперь поздно рассуждать. Задним умом все горазды, Степан Ефремыч. Что ж, заложишь меня?
– Подумать треба…
– Накину я тебе долю.
– А прокурор добавит.
– Да брось сопли распускать! Впервой, что ли? Не обижу.
– Сколько?
– Да всё, что одноногий собрал, тебе и отдам.
– Ну всё-то ни к чему, – потёр руки брезгливый.
– Вот и спасибочки!
– Теперь и лепиле нашему подкинуть придётся…
– Соломонычу-то?
– А как же! Кто бумаги будет мастырить?
– Резонно. Ну так что? Поволокли, что ли?
– Бери первого за химот, а я уж ногами займусь. Тяжёлый, бля, задрыга!
Они уволокли тело старосты, потом пришли за Халявой, я изображал дохляка до последнего. Лишь когда надо мной нагнулась санитарка и тюремный врач разорвал куртку на груди, я открыл глаз.
– Господи! – отшатнулась санитарка. – Моисей Соломонович! Он живой!
Обоих вертухаев рядом уже не было.
VIII
Штопать меня не пришлось, и из больнички выперли мигом, лишь перепуганный лепило вызвал местных сыскарей. Те, разнюхав про старосту и Халяву, собравшихся устроить мне самосуд в карцере под видом самоубийства, затряслись сами и начали ни свет ни заря трезвонить барину. Скандальчик не скандальчик, а заварил я им прецедент непредвиденного масштаба. С перепугу они перестали меня замечать, творили и трепали такое, чему ни глаза, ни уши мои никогда бы не поверили, но меня больше интересовала собственная шкура. С виду выглядело всё довольно пристойно – чистая самооборона, а вот уж как среди ночи мимо вертухаев ко мне пробрались два матёрых зэка, это их дело. Так рассуждал я, стрельнув мимоходом у одного из сыскарей папироску. Тот вгорячах не пожадничал, а когда под самое утро заявился барин и стал наедине выпытывать в собственном кабинете, мне перепало и настоящего чая в настоящей татарской расписной чашке, и не одна ароматная папироска. Взлохмаченный и красный от всего услышанного, начальничек щурил узкие глазки, раздувал щёки, правда, сахарку не предложил, но попроси я его – подали бы и сахару.
Почти после каждого моего слова он хватался за трубку телефонного аппарата, но в нерешительности опускал руку. Так длилось с полчаса, пока я не замолчал, затем он вызвал заместителя, тот велел меня вывести из кабинета, и ещё полчаса за стеной они кричали друг на друга. Потом неожиданно стихло, зам выскочил, хлопнув дверью, я уже начал думать, что про меня забыли, и смелее пытался раскрутить на курево молоденького конвоира, но приехали из уголовки и меня увезли в свою контору.
В уголовке – малина. Там в камере предварительного заключения мне всё раем показалось. Среди прочей шпаны я сразу уснул, но скоро был разбужен, и меня повели наверх. Много не добавят, не горевал я, когда обойдя стул, на который меня усадили, к допросу приступил агент первой категории, назвавшийся Петриковым. Так он представился, лишь я заикнулся о папироске, а скоро я и про чай забыл, едва ускользая и увёртываясь от молний, которые полетели из проницательных глаз слуги пролетарского возмездия. Мне стало скучновато; за окном, куда тянулась моя шея, происходили гораздо интереснее события, но после настойчивого совета поберечь её для карающего меча сурового суда, я сник. Крути не крути, а на что я надеялся? Угодил-то туда же, откуда чудом выбрался. Почище, конечно, одеты эти сыскари, слова подбирают, кадры особые, а суть одна. В общем, бился агент Петриков надо мной весь оставшийся световой день, и ночью спать не дали. Не успел я по-настоящему провалиться в сладкое забытьё, меня растолкали, привезли куда-то. Снова повели наверх по широким лестницам. И здесь коридоры пустые и никого, кроме часовых. И здесь зашторенные наглухо окна, и что там, за ними, попробуй догадайся. Впрочем, ни на что уже не надеясь, я ни о чём и не думал, жалел об одном – поспать не дали. За несколько дней после убийства Голопуза я, кажется, и в весе добрую половину потерял, и в росте убавился, и ноги не слушались меня, и голова ничего не соображала. Приморился Красавчик, только бы уснуть!..
Там, куда меня привели, света почти не было. Лампа на столе упиралась светящимся колпаком в пол, оставляя всё остальное пространство почти в кромешной темноте. И не было никого. Стол пуст. Но так лишь казалось. Это со света глаза мои утратили способность видеть. Я зажмурился, продолжая стоять. Чувствуя, что караульный ушёл, слегка открыл глаза. Проступили силуэты. Если лампу прикрыть ладонью, что я и проделал, можно было рассмотреть человека у другой стены. Он неподвижно стоял у приоткрытого окна, из которого веяло ветерком и свежестью. Мужчина курил, не оборачиваясь ко мне.
– Как кличут? – донеслось до меня.
– Красавчик, но мне не очень нравится.
– Другого имени не заслужил?
Я промолчал.
– За рожу?
Я проглотил и это.
– Послушать, что про тебя рассказывают, так тебя сам сатана спасает.
– Может, и он.
– Так бы и нарекли.
– Есть ещё время.
– Уверен?
– А что нам, уркам бездомным?
– Кому прибедняешься?
– А мне откуда знать? Вели – не объявили.
– Зубаст. А вот умён ли?
– А вы проверьте.
Мужчина развернулся, затушил папироску в пепельницу на столе, сел, отодвинув далеко стул, и закинул ногу на ногу. Его лицо по-прежнему оставалось в темноте, но кое-что под ярким лучом лампы я различил. Это был офицер высокого милицейского ранга. В парадной белой форме с орденом или почётным знаком на груди. Худ и невысок, быстр и даже резок, а голос жёсткий, с особым выговором каждого слова, будто он их подбирал, прежде чем произнести Но это всё я уяснил потом, а сначала он лишь мелькнул причёской, когда садился, пригнув голову, не смог скрыть чёрных волнистых волос и широкой, мощной груди. Такой грудной клетки не спрятать, если и стараться будешь, такая только у волжских грузчиков. Но философствовать да рассуждать было некогда, я лишь успевал отвечать на его неожиданные вопросы.
– Как же обоих сокамерников завалил? – усмехнулся он.
– Жить хотелось.
– А от вертухаев как спасся?
– Мертвяком притворился, им не до меня было.
– Значит, схитрил?
– В бою кулак не главное.
– Не первых на это берёшь?
– Что вы, начальник!..
– Мы здесь одни.
– Хотелось бы верить.
– Моего слова не достаточно?
– Я вас даже не вижу.
– Васька-божок. Слыхал про такого?
– Не приходилось. Чудно больно. Вроде в милиции находимся.
– Врёшь! – Он поднялся и снова отошёл от стола к окну, закурил. – Кончай крутить! Бороду ты завалил?
– В газетках читал. Хвалили милицию. В начальники кто-то выскочил за счёт того Бороды.
– Ну хватит дурака разыгрывать! – вспылил он. – Или ты следователя Борисова так испугался, что до сих пор трясёшься? Так я не Борисов.
Во мне всё перевернулось, но я промолчал.
– Забыл Жигулёвские горы? Про пароход «Серебряные глазки» да девку по имени Серафима? А она ведь, Красавчик, на тебя виды имела!
Эти слова, произнесённые громче обычного, зло и с дрожью, обрушились на меня градом. Словно булыжник за булыжником, и всё на мою бедную голову: Жигули! «Серебряные глазки»! Серафима!.. Крякнул я, не удержавшись, заскрежетал зубами, а он опередил тише и глаже:
– Да не кидайся ты волком! Глянь, аж волосы на голове дыбом. Про Серафиму это я так. Сам её давно не видел, но по оперативным данным, близко она где-то. Ущучили её в Саратове, как бросила спившегося комиссара. Того в тюгулевку за растрату, потом к стенке за связь с воровкой, а она хвостом следы замела. Но ты-то помнишь, у неё не задержится. Скоро у нас, на низах, объявится.
– Вы, начальничек, мастер до сказок, – всё же запустил я свою наживку. – Про всё-то вам известно, только, гляжу, лица своего так и не открываете. Всё-то вы в тенёчек, за свет…
– Хватит, хватит клоунаду мне устраивать, – отмахнулся он лениво. – Зачем тебе моё лицо? Не видел ты его никогда и не надо пока. Ну, а если не дурак, насмотришься, погоди, надоест ещё. Одно ответь – не забыл Стёпку Нагорного?..
Вот тут я вздрогнул второй раз.
– По кличке Штырь?..
Из тех, кто знал человека с этой кличкой, по моим расчётам, осталось в живых хрен да маленько: я, Серафима, Тимоха Саратовский… Вот, пожалуй, и вся компания. Остальные если не по тюрьмам свои семь копеек[8]8
Семь копеек (уголов. жаргон) – стоимость пули в те времена; значит – ждут расстрела.
[Закрыть] дожидаются, то догнивают в земле их косточки или сожрали раки да рыбы.
– Не забыл, вижу. Давно получил от него на тебя маляву. Отписана она была, сам понимаешь, не на бумаге, бумаге – грош цена. Поэтому потерпеть тебе пришлось, прежде чем сюда попал и разговор со мной имеешь. Но ты мужик тёртый, понял, надеюсь, что мы тебя не слишком утюжили, поблажки давали. А то, что помытариться пришлось, сам виноват. Были у меня сомнения насчёт тебя. Чего теперь скрывать? Поэтому и пришлось тебе всю горькую, так сказать, чашу испытаний хлебнуть. А как ты хотел? Сам же и нагородил! С Бородой переборщил. Он у нас под колпаком ходил, мы его совсем не тем макаром в оборот должны были брать, а ты что натворил? Не следовало с ним так жёстко. Без смерти, без крови надо такие дела решать, мы бы его перековали, обратили бы в нашу веру. А ты шлёп пулю в лоб. Так всех можно перестрелять. Не метод это в нашей внутренней борьбе. Чистка – да, но следом перековка, а не террор. Другое время. Чуешь?..








