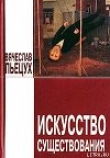Текст книги "Левая сторона"
Автор книги: Вячеслав Пьецух
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В пассатижи Аблязов не поверил, а пить ему хотелось до такой степени, что перед глазами ходили огненные круги.
– Ладно, пытайте, – согласился он. – Только давайте начнем с воды.
Папа Карло плюнул и вышел вон. Некоторое время он бродил вокруг баньки, а потом присел на охапку дров и начал смекать, как бы ему вывести зоотехника на чистую воду. Из-за стен баньки послышалось невнятное бормотание.
– Алё! – громко сказал Папа Карло. – Ты чего там, Семен, бубнишь?
– Ась? – донеслось из баньки.
– Я говорю, ты чего там бубнишь? Помираешь, что ли?
– Нет, это я стихотворение сочиняю. У меня такая повадка, пока я не отремонтируюсь: стихотворения сочинять.
– Ну и чего ты там сочинил?
– А вот послушай:
Чем веселее на улице пение,
Тем второстепенней зарплаты значение.
– А что?! – сказал Папа Карло. – Законный стих!.. Жизненный, складный, политически грамотный. Тебе бы, Семен, в газетах печататься, а не телок осеменять. Ты в газеты-то посылал?
– Посылал, – донеслось из баньки вместе с протяжным вздохом. – Не печатают они, сукины дети, моих стихов. Говорят, с запятыми у меня получается ерунда.
– Дурят они тебя. На самом деле твои стихи не печатают потому, что характер у тебя пакостный, потому что только их напечатай, как ты сразу потребуешь персональную пенсию. И во всем ты такой! Например, тебя по-человечески просят рассказать, зачем у вас в Ермолаеве околачивается Свистунов, а ты из себя строишь незнамо что!
Банька ответила тишиной.
Вскоре на двор к Папе Карло явилось за новостями несколько слесарей. Поскольку желанных новостей не имелось, команда посовещалась и решила-таки прибегнуть к помощи пассатижей. Папа Карло сбегал за ними в сарай, слесари тем временем затопили печь в летней кухне, и после того, как пассатижи раскалили до малинового сияния, так что от промасленных концов, которыми обернули ручки, пошел вонючий дымок, всей командой ввалились в баньку.
Увидев раскаленные пассатижи, решительные физиономии слесарей и сообразив, что дело принимает нешуточный оборот, Аблязов сразу поник лицом. Он уже рад был бы ответить на любые, самые каверзные вопросы, однако он не только не знал того, зачем Свистунов «околачивается» в Ермолаеве, но и того, что в Ермолаеве «околачивается» Свистунов. Впрочем, неведение в некотором роде облегчало аблязовское положение, ибо у него не было искуса повести себя малодушно. С отчаянья он играл желваками и даже улыбался, но все-таки руку ему попортили в двух местах.
Так как толку от Аблязова парни из Центрального не добились, около обеденного времени они отпустили его пить пиво и стали советоваться, как быть дальше. В конце концов Папе Карло пришло на мысль заслать в Ермолаево своего человека; человек этот, именно один работник районной конторы Заготзерно, приходился шурином Папе Карло. Он как раз собирался в Ермолаево по делам, и его обязали навести справку относительно инспектора Свистунова, каковую он впоследствии и навел.
В свою очередь, ермолаевские были до такой степени обеспокоены пассивностью неприятеля, что попросили тракториста Самсонова, который направлялся в Центральный менять поршневые кольца, разнюхать, не готовятся ли тамошние как-либо диковинно отомстить. Однако Самсонов никаких сведений не представил, ибо ему принципиально всучили такие поршневые кольца, что он намертво встал в двух километрах по выезде из Центрального и с горя заявился домой в невменяемом состоянии.
Между тем работник Заготзерна исправно донес о том, что участковый уполномоченный Свистунов просто-напросто гостил в Ермолаеве у своего двоюродного брата, что утром двадцать четвертого числа он надолго отбывает в Оргтруд и что в тот же день вечером вся ермолаевская молодежь соберется в клубе на репетицию пьесы «Самолечение приводит к беде», которую сочинил тамошний фельдшер Серебряков.
Таким образом, на 29 июля наметился переход от позиционного периода к боевому. Как оно намечалось, так и вышло: утром того памятного дня ермолаевские избили водителя поселкового грузовика, который вез продукты из Оргтруда и неосмотрительно остановился у Рукомойника освежиться, а вечером произошло, так сказать, Ермолаевское сражение.
Около пяти часов вечера парни из Центрального погрузились в автобус, прихватив с собой велосипедные цепи, обрезки шлангов и картонный ящик, обернутый мешковиной. В седьмом часу автобус остановился возле моста через Рукомойник, команда спешилась и стала дожидаться сумерек, так как ударить было решено под покровом ночи. Чтобы скоротать время, сначала выкупались в реке, а потом развели костер, уселись вокруг него и принялись за скабрезные анекдоты. Наконец, на синюшнем небе проступила первая сумеречная звезда, парни из Центрального затушили костер и цепью тронулись на деревню.
В это время ермолаевская молодежь, как и было обещано, репетировала пьесу «Самолечение приводит к беде». Режиссировал фельдшер Серебряков; он сидел на бильярдном столе, держа между пальцами самокрутку, и говорил:
– Вы поймите, товарищи, что тут у нас драма, почти трагедия. Потому что человек из-за этого… из-за вольнодумства, вместо того чтобы вылечиться, еще хуже заболевает. Тут, товарищи, плакать хочется, а вы разводите балаган! Давайте эту сцену сначала! Давай, Ветрогонов…
Щуплый, не по-деревенски бледный паренек, представлявший Ветрогонова, шмыгнул носом и произнес свою реплику:
– Я признаю исключительно народные средства. Например: сто граммов перца на стакан водки.
– Вступает Правдин, – распорядился Серебряков.
– На такое лечение денег не напасешься, – вступил Правдин, которого изображал Петр Ермолаев. – Если, конечно, их не печатать.
– Отлично, Правдин, – похвалил его Сергей Петрович и показал большим пальцем вверх. – Теперь опять Ветрогонов.
– Мне печатать деньги ни к чему, я всегда от жены заначку имею…
– Нет, – оборвал парнишку Серебряков, – так не пойдет! Ты давай говори эти слова, как сказать… развратно, что ли, потому что в разделе «Действующие лица» у нас имеется примечание: «Роман Ветрогонов, молодой механизатор, любитель семейной свободы». А ты эти слова так говоришь, как будто прощенья просишь. Повтори еще раз!
– Мне печатать деньги ни к чему, я всегда от жены заначку имею, – повторил Ветрогонов, состроив такую дурацкую мину, что прочие действующие лица прыснули в кулаки.
– Это абсурдные слова, – сказал Правдин. – В семье все должно быть обоюдно, при полном согласии сторон. Потому что семейное счастье – явление хрупкое. Оно складывается из трех категорий: духовной, физической, материальной.
И материальная база в семейном счастье занимает не пос леднее место, поэтому получку ложи в одно место с женой. Чем крепче семья, тем крепче отечество!..
– Так! – сказал Серебряков. – Теперь у нас идут звуки из-за кулис: «Мычание коров, блеяние овец, рев быка». Пашка?! Куда подевался Пашка?
– Я тут, – отозвался пастух Павел Егоров, которому из-за придурковатости смогли доверить только «звуки из-за кулис».
– Давай, Емеля, твоя неделя, – язвительно приказал кто-то из ермолаевских.
Павел добросовестно изобразил то, что от него требовалось.
– Так! – сказал Серебряков. – Правдин уходит, остается один Ветрогонов. «Эх, полечиться, что ли…»
– Эх, полечиться, что ли, – покорно повторил Ветрогонов.
– «Берет стакан, – начал читать ремарку Серебряков, – сыплет в него перец, ромашку, ревень, ваниль, заливает водкой, размешивает, подносит ко рту». Тут у нас снова голос из-за кулис…
– Самолечение приводит к беде! – произнес Павел Егоров гробовым голосом, выглянув из-за трибуны, выкрашенной под орех, и делано рассмеялся.
– Это ктой-то говорит?! – довольно натурально произнес Ветрогонов. – Привидение, что ли?
– В привидения верят только старые бабки и дураки, – ответил ему Правдин, выйдя из-за кулис. – Это говорит голос разума…
Как раз на словах «это говорит голос разума» противник из Центрального, скрытно вторгнувшийся в Ермолаево, завершил окружение клуба широким полукольцом и Папа Карло начал распаковывать ящик, в котором оказались бутылки с зажигательной смесью, приготовленные поселковым умельцем по прозвищу Менделеев. Разобрав бутылки, ребята из Центрального изготовились и застыли.
В клубе тем временем зажгли свет, и ярко вспыхнувшие окошки отбросили на мураву огромные бледные прямоугольники. Где-то вдалеке промычал теленок, промычал жалобно, призывно, точно пожаловался на что-то. Явственно слышался голос Петра Ермолаева, разоблачавшего народную медицину. На крыльцо вышел какой-то парень с крошечной звездочкой сигареты, несколько раз затянулся и через минуту исчез за дверью.
– Пора! – сказал Папа Карло, и в окна клуба полетели бутылки с зажигательной смесью: зазвенело стекло, раздался надрывный визг, дробно, панически застучали по полу ноги; потом из окон повалил масляно-черный дым, погас свет, и внутренность клуба зловеще озарилась занимающимся огнем.
Расчетам вопреки ермолаевских не сломила внезапность и причудливость нападения. Повыскакивав из клуба и напоровшись на парней из Центрального, они почти сразу опомнились и оказали неприятелю жестокий отпор. С четверть часа ситуация оставалась невнятной: кто сдает, кто берет верх, – этого было не разобрать. Только жутко свистели в воздухе велосипедные цепи, со всех сторон слышалось горячее дыхание, дикие возгласы, матерщина. Петр Ермолаев свирепо раскидывал слесарей, приговаривая:
– Эх, кто с мечом к нам придет!.. – дальше он почему-то не продолжал.
Папа Карло воевал молча.
Однако, когда уже сделалось так темно, что своих от чужих отличить было практически невозможно, ребята из Центрального вынуждены были отойти сначала к заброшенной конюшне, а там и к Рукомойнику, где их поджидал автобус.
Очистив деревню от неприятеля, ермолаевские вернулись в клуб подсчитать потери. Собственно, потери были исключительно материальные, если не принимать во внимание ссадины, шишки и синяки: в клубе были побиты стекла да сгорели бильярдный стол, сундук, в котором хранили елочные украшения, и два никудышных стула. Тем не менее эти мизерные потери были приняты близко к сердцу, и ермолаевские, морщась от запаха гари, стали прикидывать, как бы опять же Центральному отомстить. Предложения были следующие: потравить дустом поселковую пасеку, которую постоянно вывозили на ермолаевскую гречиху, разобрать избу Папы Карло, взорвать ремонтные мастерские. Но ни одному из этих предложений не суждено было осуществиться, так как в силу некоего космического происшествия Центрально-Ермолаевская междоусобица неожиданно пресеклась.
На другой день рано утром, едва отзвонил обрезок рельса и путем не проспавшийся народ направился на работы, тракторист Александр Самсонов начал распространять беспокойно-любопытную весть: будто бы 31 июля ожидается последнее в двадцатом столетии полное солнечное затмение.
Эта весть почему-то произвела на деревне смуту: старики злобно взбодрились, видимо, предвкушая исполнение библейского обещания, ермолаевские среднего возраста немного занервничали, глядя на стариков, молодежь же принялась коптить стекла. Стекла коптили буквально с утра до вечера, используя на это дело каждый досужий час. Петр Ермолаев пошел еще дальше: он взял отгул и сел сооружать маленький телескоп, на который пошла «волшебная трубка», то есть калейдоскоп, два увеличительных стекла, два дамских зеркальца и старинный светец, обнаруженный за рулоном толя на чердаке.
В пятницу 31 июля все ермолаевское население с раннего утра высыпало на улицу, и как ни бесновался бригадир, гнавший колхозников на работу, молча простояло возле своих дворов до тех пор, пока не увидело обещанного затмения. Это была по-своему пленительная картина: раннее утро, еще свежо, улица, сотни полторы ермолаевских, которые задрали головы и с самыми трогательными выражениями смотрят в небо, полная тишина; впечатление такое, что грядет какая-то небывалая общечеловеческая беда или, напротив, обязательное и полное счастье; чувство такое, что если сверху ничего так-таки и не упадет, то это будет ужасно странно; а тут еще Петр Ермолаев забрался с телескопом на крышу своей избы и до страшного похож на жреца, который готовится к общению с небесами.
Солнце довольно долго не подавало признаков ожидаемого затмения, и вскоре среди ермолаевских пошел ропот. Но вдруг правый краешек огненного диска тронула легкая пелена, как если бы это место несколько притушили, – толпа вздохнула и обмерла. Затем началось нечто апокалиптическое, похожее на гриппозное сновидение: постепенно стало темнеть, темнеть, внезапно смолкли звуки, кузнечики в поле и те притихли, и только на ферме дико заревел финский бугай Фрегат; через некоторое время блеснули звезды, и даже не блеснули, а навернулись, что ли, как наворачивается слеза, и немедленно пала ночь; по земле побежал ветерок, пугающий на манер неожиданного прикосновения, затхло-холодный, как дыхание подземелья. Черное солнце смотрело сверху пустой глазницей, оправленной в золотое очко, потусторонним светом горела линия горизонта, и было несносно тихо, по-космическому тихо, не по-земному.
В общем, затмение ошарашило ермолаевских, особенно молодежь. Впечатление от него оказалось настолько значительным, что не обошлось без кое-каких капризных последствий, например тракторист Александр Самсонов зарекся пить. Что же касается молодежи, то она на какое-то время притихла, смирилась, как это бывает, когда дети получат заслуженный нагоняй. Собственно, никто не понял, что такое произошло, но все поняли: что-то произошло. Впрочем, во влиятельности на нашего человека затмений, топонимики, климата, пейзажа нет ничего особенно удивительного, ибо у нас почему-то ничего так не перелопачивает человека и его жизнь, как наиболее внешние, казалось бы, посторонние обстоятельства! Суховеи у нас подчас ставят на край могилы самою российскую государственность, как это было в начале семнадцатого столетия, необузданные пространства и эпидемии определяют направление литературы, хвостатые кометы до такой степени сбивают с толку власть предержащих, что они провоцируют соседей на интервенции; а разливы рек, уносящие целые погосты, а благословенные русские дороги, имеющие великое историческое значение, так как они испокон веков обороняют нас от врагов, а грамматика нашего языка, которая обусловливает огромную внутреннюю работу, а, наконец, широкое распространение лебеды? Одним словом, не так глупо будет предположить, что солнечное затмение вогнало в меланхолию ермолаевскую молодежь по той самой логике, по какой даже отъявленный негодяй, встретивший похороны, на какое-то время становится человеком.
Логично также будет предположить, что дело тут отнюдь не в небесной механике, суховеях и грамматике русского языка, что просто какой-то чрезвычайный закон нашей жизни строит универсальные характеры, чрезмерно богатые судьбы и разные причудливые происшествия, от которых так и тянет ордынским духом. Но это все-таки сомнительная идея, потому что это сомнительно, чтобы фермер из какой-нибудь Оклахомы был нравственно организованнее механизатора из-под Тамбова, чтобы жизнь в Осташковском районе была менее содержательной, нежели жизнь в округе Мэриленд, а там деревенская молодежь все же не так изгаляется, как у нас. Следовательно, разгадка все-таки в том, что в русской душе есть все, а все в ней есть потому, что она отчего-то совершенно открыта перед природой, в которой есть все, и, следовательно, дело именно в небесной механике, суховеях и грамматике русского языка.
Итак, сразу после окончания солнечного затмения 31 июля 1981 года Центрально-Ермолаевская междоусобица нежданно-негаданно пресеклась. Формальный мир был заключен 4 августа в деревне Пантелеевке, стоявшей на пути в городок Оргтруд, во время тамошнего престольного праздника, на который съехалась вся округа. Петр Ермолаев и Папа Карло столкнулись в самом начале танцев. Папа Карло уже было полез в задний карман за разводным ключом, припасенным на всякий случай, однако вид у врага был до того добродушный, миролюбивый, что на первых порах он решил ограничиться свирепым взглядом из-под бровей. Петр Ермолаев подошел к нему твердым шагом, протянул сигарету, зажженную спичку, потом спросил:
– Затмение видел?
– Ну, видел… – сказал Папа Карло.
– Правда, впечатляет?!
– Ну, впечатляет…
– Слушай, Папа Карло, давай мириться?
Папа Карло оглянулся на своих слесарей, стоявших поблизости наготове, и произнес:
– Мириться мы никогда не против. Прости, если что.
– И ты прости, если что, – сказал Петр Ермолаев. Поскольку от «прости» вообще отечественное «прости» отличается тем, что имеет самостоятельное значение, как правило избыточное, даже чрезмерное относительно его возбудителя, наступивший мир оказался таким же отчаянным, как и давешняя война. Бывшие неприятели не на шутку сдружились и впоследствии дело зашло так далеко, что было решено осуществить совместную постановку нового опуса фельдшера Серебрякова под названием «Внимание – бутулизм!». Тракторист Александр Самсонов, правда, предупреждал юных односельчан, что их благодушие преждевременно, так как в январе ожидается еще полное лунное затмение, и, принимая во внимание некоторые особенности национального характера, невозможно предсказать, чем оно обернется.
ТРАГЕДИЯ СОБСТВЕННОСТИ
Прудон утверждал, что собственность есть кража, и был, безусловно, прав. Он был прав именно безусловно, потому что его утверждение справедливо даже в тех случаях, когда собственность не есть результат собственно воровства, например, когда собственность есть результат того, что вы зарабатываете слишком много, ибо денег в стране все-таки ограниченное количество и если вы зарабатываете слишком много, то кто-то зарабатывает слишком мало, а это очень похоже на воровство. Впрочем, изложенная идея не столько идея, как каламбур. В действительности дело обстоит следующим образом: всякое благосостояние, слагающееся, например, из того, что читают, на чем сидят и едят, посредством чего прикрывают тело, когда это благосостояние соразмерно той пользе, которая вытекает из вашего общественного бытия, – это законно, это подай сюда. Но все остальное – кража чистой воды, даже если и она комароносанеподточительна. Эта оговорка, кстати сказать, круто принципиальна, так как в последнее время у нас распространилась та обманчивая идея, что если человек занимается воровством, за которое его почти невозможно упечь в тюрьму, то это не воровство. Такая позиция, конечно же, требует разоблачения, но разоблачения не на уровне «красть нехорошо», и не на уровне «красть нехорошо, как бы это ни было безопасно», и даже не на уровне «сколько веревочке не виться», а такого разоблачения, которое бесповоротно убедило бы и первого умника, и последнего дурака: красть невыгодно и глупо, разумнее и выгоднее не красть. Во всяком случае, разумнее и выгоднее в наших условиях, в географических пределах СССР, где из-за некоторых особенностей жизни и национального характера несоразмерная собственность – это трагедия, рок, обуза. Воспомним хотя бы Акакия Акакиевича, который худо-бедно жил без новой шинели, а приобрел новую шинель – и погиб.
Разумеется, классическому ворью ничего не докажешь, поскольку книг оно не читает, поскольку у нас издревле так повелось: или человек читает, или уж он крадет; но тот, кто ворует, наивно полагая, что он наживается, а не ворует, нет-нет да и возьмет книжку в руки – это известно точно.
Так вот же им доказательство того, что в наших условиях разумнее и выгоднее не красть…
В Москве, в большом новом доме у Никитских ворот, живет относительно молодой человек по фамилии Спиридонов. Он работает приемщиком на пункте по сбору вторичных ресурсов. В романтические пятидесятые годы, когда еще стеснялись таких профессий и когда вторичные ресурсы назывались утильсырьем, должность приемщика едва обеспечивала существование, но в деловые восьмидесятые годы Спиридонов извлекает из нее баснословные барыши. Как он это делает… Во-первых, он продает пуговицы; во-вторых, он занимается оптовой торговлей мужскими костюмами, пришедшими в относительную негодность, которые нарасхват берут частники, шьющие из них кепки; в-третьих, он наживается на книгах, сдаваемых под видом макулатуры; в-четвертых, он нанимает женщину, которая распускает ему шерстяные вещи, и отдельно торгует шерстью… ну и так далее. В общем, самостоятельных прибы льных статей у Спиридонова так много, что есть даже в-одиннадцатых и в-двенадцатых. Но это как раз не самое привлекательное, самое примечательное как раз то, что с точки зрения уголовного права эти статьи комароносанеподточительны, и Спиридонова практически невозможно упечь в тюрьму.
Результаты его плутовской деятельности, что называется, налицо: у него дача, фарфоровые зубы, автомобиль, красавица жена и яхта, которую он держит под Ярославлем. До самого последнего времени в его квартиру было страшно войти: прихожая обита шагреневой кожей, в гостиной одна стена зеркальная, другая тоже зеркальная, а третья заклеена громадным видом императорского дворца в Киото, спальня отделана кремовым шелком, ванная – дубом, туалет – фальшивыми долларами, кухня оборудована под шкиперский кабачок.
К настоящему времени у Спиридонова в целости-сохранности только фарфоровые зубы и яхта под Ярославлем, все остальное в той или иной степени пошло прахом. И вот что интересно: это не первый крах в истории спиридоновского рода. Спиридонов-прадед, владевший галантерейной фабрикой, лишился всего в результате Великой Октябрьской социалистической революции и до самой смерти торговал папиросами в Охотном ряду. Спиридонов-дед начал сызнова строить родовое благосостояние и, надо сказать, начал довольно оригинально; он собирал дань. В 1926 году, когда Спиридонов-дед работал объездчиком в Забайкалье, в двухстах километрах за станцией Борзя, он как-то наткнулся на многочисленный род эвенков, которые оказались до того добродушны и беззащитны, что нельзя было их как-нибудь не надуть: Спиридонов-дед провозгласил себя эмиссаром Забайкальского улуса и повелел платить дань. Три года спустя обман был раскрыт, и липовый комиссар срочно бежал в Россию. На станции Муром Владимирской области у него украли баул с деньгами, которые он выжулил у эвенков, – этого удара он не перенес и умер от нервного потрясения в Муроме же, в больнице. Таким образом, Спиридонову-отцу тоже пришлось начинать с нуля. Начинал он так: выкопал собственный водоем и заселил его мальком зеркального карпа. Два года спустя, когда карп достиг товарного веса, Спиридонов-отец выручил десять тысяч рублей, на третий год – целых пятнадцать тысяч, но на четвертый год окрестные поля удобрили каким-то гибельным химикатом, и карп немедленно передох. После этого Спиридонов-отец так крепко запил, что не оставил сыну практически ничего, если не считать тысячи рублей, которые он подарил ему после окончания средней школы. На эти-то деньги последний Спиридонов и купил себе должность приемщика на пункте по сбору вторичных ресурсов, которая позволяет ему извлекать баснословные барыши.
Теперь вот какой неожиданный поворот. В том же самом доме, даже в том же самом подъезде, но только двумя этажами выше, живет еще один относительно молодой человек, специалист по автоматическим системам управления, некто Бурундуков. Этот Бурундуков издавна недолюбливал Спиридонова, имея на то серьезные, но несколько путаные причины. Первая причина: Бурундукову претило несоразмерное спиридоновское благосостояние, что, в общем, можно понять, так как нормальный советский интеллигент – это существо благостное, отчасти даже поэтическое, во всяком случае, подозрительно косящееся на все, что выходит из рамок двухсот пятидесяти рублей. Вторая причина: он терпеть не мог походки скрывающейся знаменитости, которой отличался последний Спиридонов, и обычного выражения его лица, на котором, кажется, было написано: «Придурки, учитесь жить!» Третья причина: Спиридонов был все-таки хамоват. Наконец, причина четвертая последняя: Бурундуков питал симпатию к спиридоновской жене, и даже немного больше. Это обстоятельство потому нельзя упустить из виду, что всякий раз, когда Бурундуков случайно встречал спиридоновскую жену, она неизменно говорила ему глазами: может быть, ты и ничего мужик, но по большому счету ты не мужик. Это доводило Бурундукова до исступления: его глубоко оскорбляла мысль, что жулик, добывающий полторы тысячи рублей в месяц, – это мужик, которого обожают и, возможно, даже боготворят, а он, отличный специалист по автоматическим системам управления, – не мужик, так как он не умеет ловчить, не имеет нюха на то, что плохо лежит, и в результате располагает только тем, что читают, на чем сидят и едят, посредством чего прикрывают тело, если, правда, не считать кое-каких цивилизующих мелочей вроде телевизора «Старт», показывающего почему-то только учебную программу, и велосипеда «Харьков», у которого к тому же то и дело отказывают тормоза. В конце концов эти мысли привели Бурундукова к одному неожиданном у и не совсем оправданному поступку: в горькую минуту он спиридоновскую жену немного поприжал в лифте.
Когда жена пожаловалась Спиридонову на придурка с четвертого этажа, тот не долго думая выпил стакан коньяку, взял отвертку, вызвал лифт и поехал мстить. Он звонил в квартиру к Бурундукову и думал: «Пусть меня посадят, но я его замочу!» Бурундуков вышел к нему в спортивных штанах с лампасами и в вязаной женской кофте.
– Здравствуй, сука! – сказал Спиридонов. – Сейчас я буду тебя мочить!
– Проходите, – отозвался Бурундуков, и это отрешенное «проходите» подействовало на Спиридонова некоторым образом расслабляюще, так что у него почти пропала охота мстить. Он даже сделал усилие, чтобы не дать сползти с лица свирепому выражению, и вошел.
– Дома, как нарочно, никого нет, – добавил Бурундуков, – можете начинать.
– Что начинать-то? – спросил его Спиридонов и свирепое выражение его лица все-таки сменилось на просто сердитое, бытовое.
– Как что?! Вы же пришли меня это… уж не знаю, как по-вашему, короче говоря – убивать. Ну и убивайте! Классовая борьба – это кровь.
– Какая еще классовая борьба? Что вы там плетете? – сказал Спиридонов, перейдя на настороженное «вы».
– Самая настоящая классовая борьба! По одну сторону баррикад – работники, то есть мы, а по другую – жулики, то есть вы. И пускай вы меня сейчас убьете, все равно мы рано или поздно раздавим вашу «пятую колонну», которая методически подтачивает основы социализма!
– Знаете что, – сказал Спиридонов, – вы тут кончайте демагогию разводить! Ну, какой я, к чертовой матери, классовый враг?! Я деловой человек, вот я кто! Если бы таких людей, как я, назначали на ответственные посты, то через десять лет Америка боролась бы за экономическое сотрудничество с Востоком.
– Ну, это дудки! – сказал Бурундуков. – Деловые люди – это кто дело делает, а вы – деньги. По-настоящему, вы все душевнобольные, вот вы кто!
– Это почему же мы душевнобольные? – с обидой в голосе спросил Спиридонов и присел на стул.
– Например, потому, что вы время от времени садитесь в тюрьму из-за денег. Ведь это же курам на смех – сесть в тюрьму из-за денег, как вы не понимаете! Или вот еще что: вы все уверены, что умеете жить, а между тем вы представления не имеете о том, что значит жить! Вы как младенцы, у которых мир ограничен пределами песочницы и коляски, в то время как этот мир измеряется даже не двором, даже не улицей, даже не городом и даже не страной…
Спиридонов вытащил из кармана носовой платок, высморкался и сказал:
– Это идеализм и полный отрыв от жизни. Философия, одним словом, как говорится, без пол-литры не разберешься. Кстати, не найдется у вас пол-литры?
– Не пью, – буркнул Бурундуков и слукавил: на самом деле он попивал.
Спиридонову стало немного не по себе.
– Слушай, может быть, перейдем на «ты»? – предложил он из опасения, что дело принимает нежелательный оборот. – Тебя как зовут-то, блаженный ты человек?
– Павел, – ответил Бурундуков.
– А меня Серега.
Бурундуков с минуту пристально смотрел на Спиридонова, как если бы он намеревался его окончательно раскусить, а потом пошел в кухню, из которой он неожиданно принес початую бутылку водки и сковороду жареной картошки.
– Подогреть или так срубаем? – спросил он, показывая картошку.
– Так срубаем, – ответил Спиридонов, махнув рукой. Когда выпили по второму стакану и немного потыкали вилками в сковороду, Бурундуков накуксился и сказал:
– Жалко мне тебя, Серега, до слез жалко, потому что профуфукал ты бесценный дар жизни!
– Ну, это еще бабушка надвое сказала, – возразил Спиридонов.
– Нет, Серега, это определенно. У нормальных людей деньги всегда были чем угодно, но только не всем. Средством накопления, средством платежа, мировыми деньгами – только не всем. Так что погубил ты себя, Серега, без ножа зарезал и заживо закопал!
– Нет, это ты зря.
– Что – зря? Я вас не понимаю…
– Мы на «ты».
– Я тебя не понимаю. Что – зря?
– Да все! Может быть, ты только потому на меня критику наводишь, что у тебя денег нет.
– Поклеп!.. – с чувством произнес Бурундуков, пошатывая головой. – Если бы у меня были деньги, то знаешь, что бы я с ними сделал? Я бы купил грузовик конфет! Встал бы где-нибудь на перекрестке и раздавал москвичам конфеты за просто так. Писатель Ильф об этом очень мечтал.
– Ты думаешь, я так не могу? – сказал Спиридонов.
– Конечно, не можешь, потому что ты жулик и крохобор!
– А вот и могу!
– Нет, не можешь!
– А я тебе сейчас докажу, что могу. Ты думаешь, что барахло для меня все? что у меня за пазухой не русская душа?..
– Бумажник у тебя за пазухой, а не душа!
– Нет уж, это извини-подвинься! Давай поспорим на штуку, что я смогу?
– Штука, это что?
– Тысяча рублей.
– Ну, подумай своей головой: откуда у меня тысяча рублей?
– Действительно… Ну ладно, я и без тысячи докажу. Есть у тебя ломик?
Бурундуков подумал и сказал:
– Ломика нет.
– А палка покрепче есть?
– И палки нет. Но можно снять вот этот карниз, и Бурундуков указал головой в сторону карниза, на котором висели шторы.
Спиридонов внимательно посмотрел на карниз, вытащил отвертку и начал его снимать. Когда дело было сделано, они положили карниз на плечи и стали спускаться по лестнице с четвертого этажа. Ходу было максимум полминуты, но так как карниз то и дело заклинивало в пролетах, тащились они минимум полчаса. Во дворе Спиридонов отобрал у Бурундукова карниз, подошел к своей «Ниве», занес карниз над капотом так, как заносят цеп, и ехидно проговорил:
– Значит, не могу?
– Не можешь, – подтвердил Бурундуков.
Карниз обрушился на капот, сильно помяв его примерно посередине.