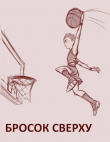Текст книги "Голубые пески"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
VII
Все утро, похрустывая замерзшими беловатыми комьями грязи, бродил старикашка у дверей, у набросанных подле амбара досок. Дергал гвозди.
Спина у Кирилла Михеича ныла. Шмуро от холода накрылся доской, и доска на нем вздрагивала. Шмуро быстро говорил:
– Сена им жалко, могли бы и бросить.
– Гвозди дергат, – сказал тоскливо Кирилл Михеич.
– Кто?
– Сторож.
Шмуро скинул доску на землю, вскочил и топая каблуками по доске, закричал:
– Я в Областную Думу! Я в Омский Революционный комитет! К чорту, угнетатели, грабители, воры! Ясно! Я свободный гражданин, я всегда против царского правительства… Это что же такое…
– Там разбирайся.
Старик-сторож постукивал молотком. Кирилл Михеич посмотрел в щель:
– Выпрямляет.
С рассвета в ограде фермы скрипели телеги, кричали мужики, и командовал Запус. Телеги ушли, протянул мальчишка:
– Дядинка-а, овса надо?
Остался один старик, дергавший гвозди. Шея у старика была закутана желтым женским платком, он часто нюхал и кашлял.
– Какой нонче день-то? – крикнул ему в щель Кирилл Михеич.
Старик расправил гвоздь, посмотрел на отломанную шляпку его и сунул в штаны. Кашлянув, вяло ответил:
– Нонче? Кажись – чятверк. Подожди – в воскресенье холонисты конокрадов поймали, во вторник я поветь починял… Верно, чятверк. Тебе-то на што?
– Выпустят нас скоро?
– Вас-та? Коли не кончут, выпустят… а то в город увезут по принадлежности. Только у нас с конокрадами строго – на смерть, кончают. Не воруй, собака!.. Так и надо… Я для тебя ростил?
Он внезапно затрясся и, грозя молотком, подошел к дверям:
– Я вот те по лбу жалезом… и отвечать не буду, сволочь!.. Воровать тебе?.. Поговори еще…
Кирилл Михеич устало сел на доски. Его знобило. К дверям подпрыгнул Шмуро и, размазывая слова, долго говорил старику. Было это уже в полдень, широкозадая девка принесла старику молока. Пока старик ел, Шмуро палкой разворотил щель и тоненько сказал:
– Ей-Богу же, мы, дедушка, городские… Ты, возможно, девушка, слышала о подрядчике Качанове, на семнадцать церквей подряд у него…
– Городски… – протянул старик: – самый настоящий вор в городе и водится. Раз меня мир поставил, я и карауль. Мужики с казаками за землю поехали драться, а я воров выпускай; видал ты ево!
– До ветру хотя пустите.
– Ничего, валяй там, уберут.
Девка, вытянув по бедрам руки прямо как-то, заглянула в амбар.
– Пусти меня, деда, посмотрю.
– Не велено, никому.
Шмуро забил кулаками в дверь.
– Пусти, дед, пусти. У меня, может быть, предсмертное желание есть, я женщине хочу его об'яснить. Я понимаю женское сердце.
И, обернувшись к Кириллу Михеичу, задыхаясь, сказал:
– Единственный выход! Я на любовь возьму.
– Так тебе она ноги и расставила. Ты им лучше сапоги пообещай. Хорошие сапоги.
Старик девку в амбар не пропустил. Она взяла крынку, пошла было. Здесь Шмуро торопливо сдернул свои желтые, на пуговицах, сапоги и, просовывая голенище в щель, закричал, что дарит ей. Девка тянула сапог: голенище шло, а низ застревал. Старик, ругаясь, открыл дверь. Кирилл Михеич и Шмуро быстро вышли. Девка торопливо махнула рукой:
– Снимай другой-то.
Засунула сапоги под передник и, озираясь, ушла. Старик об'яснил:
– За такие дела у нас… – Он, подмигнув, чмокнул реденькими губами: – я только для знакомства.
– Может, мои отдать? – сказал Кирилл Михеич.
– А отдай, верна. Лучше, парень, отдай. Возьмут да и кончут, – бог их знат, какому человеку достанутся… сапоги-то ладные. Я вот гвоздь дергаю для хозяйства, тоже в цене… а тут лежит зря, гниет.
– Подводу мы в город достанем?
– Подводу? Не. Подводы все мобилизованы, в поход пошли, с пареньком этим, с Васькой комиссаром, казаков бить. Ты уж пешком иди, коли такое счастье выпалило. Мне бы вас выпускать не надо, – коли вы конокрады, тогды как, а? А я, поди, скажу – убегли и никаких. Ты не думай, што я на сапоги позарился, – я бы и так их мог взять, очень просто. Я из жалости пустил… А потом, раз вы нужные люди, они бы вас перед походом пристрелили. Лучше вам пешком, парень. Скажу убегли, а убьют в дороге, – тоже дело не мое… Пинжаки-то вам больно надо, я пинжаков не ношу, у меня сын с хронту пришел…
– Пошли, – сказал Кирилл Михеич. – Ноги закоченели.
Сквозь холодную и твердую грязь – порывами густые запахи земли – на лицо, на губы. Прошли не больше версты они, вернулись. Нога словно кол, – не гнется. А в головах – озноб и жар.
Верно, – никто в селе не дал подводы: боятся перед миром. Просфорнина дочь Ира подарила им рваные обутки брата. Просфорня, вспомнив сына, заплакала. Еще Ира принесла кипу бумаги:
– Заверните, будет ноге теплее.
– Знаю, сам в календарных листках читал: бедняки в Париже для теплоты ноги в бумагу завертывают. А когда от такой грязи плаха даже насквозь промокает – на чорта мне ее?
И все-таки взял Шмуро газеты под мышку.
После теплого хлеба просфорни – широки и тяжелы степные дороги. Пока был за селом лесок – осина да береза, – держалась теплота в груди; мимо – лесок, как муха, мимо – запахи осенних стволов медвяные. Под ноги степь. За всем тем степным: – бурьяном, крупнозернистым песком, мелким, как песок, зверем и, где-то далеко за сивым небом, снегами, – печаль неисцелимая, неиссякаемая, как пески. Тоска. Боль – от пальцев, от суставчиков, и дробит она о мелочи, щепочками все тело, все одервеневшее мясо.
Шли.
Пощупал Кирилл Михеич газеты у Шмуро. И не газеты нужны бы, а человек, тепло его.
– Куда тебе ее?
– Костер разожгу.
– Из грязи? На степи человек – как чирий, увидят, убьют. Свернем лучше с дороги.
– Куда? Плутать. И-их!.. Сидели бы лучше дома, Кирилл Михеич, а то бабу искать. Бабу вашу мужики кроют… Искатели!.. Меня тоже увязало. Никогда я вам этого простить не смогу, хотя бы отец родной были.
Кирилл Михеич, бочком расставляя ноги, шею тянул вперед. Архитектор Шмуро шел сзади и следы ног его давил своими:
– Революция бабья произошла. Баба моя от мужиков взята, – к мужикам и уйдет, кончено. У бабы плоть поднялась, ушла. Каждая пойдет к своему месту, а мы будем думать – само устроилось. Ране баба шла на монету, теперь на тело пойдет… Кому против мужицкого тела конкулировать? Мужик да солдат – одно… Кончено. Старики об этом бабьем бунте говорили, я не верил.
– Предрассудок. Любовь у вас случилась.
– В Пермской губернии от крепостного права умные старики остались…
Вязкий, все дольше, длиннее след Кирилла Михеича. Раздавить его труднее, надо ногу тянуть. Со злостью тянет ногу Шмуро, размазывает.
– Как в такое время одному человеку жить – хуже запоя ведь!..
– В большевики идите, баб по карточкам давать будут.
Верхом навстречу – казак. Нос широкий – от бега ли, от радости ли ал. Чуб из-под красно-околышной фуражки мокр от пота. От лошади тепло, и сам казак, теплый и веселый, орет:
– Матросы с казаками братуются! Ворочай назад, битва отменена, подмога не требуется… Павлодар-то под Советской властью, Ваську комиссара над всей степной армией командером выбрали… Атамана Артюшку Трубачева собственноручно в Иртыш сбросил!.. Во-как, снаружи!..
Заткнул нагайку за опояску, сплюнул и поскакал.
Лег Кирилл Михеич тут же, подле дороги, в полынь, ноги скорчил, застонал:
– Господи, Господи, прости меня и помилуй!
А в следы его, последние перед полынью, встал архитектор Шмуро. Злорадно посмотрел в грязную серенькую бороденку подрядчика:
– Дождался? Комиссаров тебе на квартиру принимать, женой потчивать? Из-за вас, сиволапые стервы, некультурная протоплазма, погибаем!..
Казак скакал далеко, у лесочка. Кирилл Михеич не шевелился, дышал он хрипло и быстро.
«Помирает» – подумал Шмуро, а вслух сказал:
– Вот человек хочет итти к богу, как к чему-то реальному, а я стою рядом и не верю в бога… Кирилл Михеич!
VIII
«Павлодарский Вестник», газета казачьего круга, сообщила о приезде инженера Чокана Балиханова с важным поручением от Центрального Правительства.
В это же день расклеили по городу на дощатых заборах, на стенах деревянных домов списки кандидатов. В Городскую Думу. Рядом со списками синяя афиша, и на ней: «Долой правительство Керенского! Вся власть советам!». Ниже этого списка рабочих кандидатов в Городскую Думу, а на первом месте:
№ № Имя, отчество и Род занятий
Местожительство в по фамилия в данное до данное время порядку время революции
1. Василий Антонович Комиссар Матрос. Сельско-хоз. ферма на Запус. Рев. Штаба. уроч. Копой, Павл. у Семип. обл.
Полномочий от центра Чокан Балиханов не имел. Был он в голубоватой форме с множеством нашивок. Черные жесткие волосы острижены коротко, а глаза узкие и быстрые, как горные реки. Происходил он из древних киргизских родов ханов Балихановых.
Полдень. Стада в степи грызут оттаявшие травы. Глухие, осенние, они скупы, словно камень, эти травы.
Чокан Балиханов и атаман Артемий Трубычев пришли с заседания комитета общественной безопасности, в гостиницу. Владелец гостиницы, немец Шмидт, спросил почтительнейше:
– Из уезда слухи различные плывут, на заборах различные афиши, пройти в вашу комнату не разрешите?
– Успокойтесь, успокойтесь, – сказал Балиханов, – катайтесь на своем иноходце. Ходу переливного иноходец… какие есть в степи кони… ах!
Так и прошел в комнаты, полусощурив длинные глаза.
Олимпиада разливала чай. Женщин Балиханов, как все азиаты, любил полных, чтобы мясо плыло, как огромное стадо с широкими и острыми запахами. Олимпиада ему не нравилась.
– Я в степь еду, – сказал Балиханов и, вспомнив, должно быть, кумыс, охватил чайное блюдечко всей рукой.
– Джатачники к большевикам переходят. Или у вас, действительно, есть поручения из центра к киргизам?
– Это казаки трусят Запуса и лгут. Я в род свой поеду, джатачников у нас немного: мы – вымрем, а революций у нас не будет.
Говорил он немножко по книжному, жесты у него быстрые и ломкие.
– Я уехал из Петербурга потому, что русские бунтуют грязно, кроваво и однообразно. Даже убивают или из-за угла, или топят. У нас, как в старину – раздирают лошадьми…
– Лебяжий поселок Запус выжег. Я комиссию составил и прокурора из Омска вызвал.
Балиханов улыбнулся, перевернул чашку и по-киргизски поблагодарил:
– Щикур. Я в Омске о Запусе слышал. Страшно смелый человек, много… да… много…
Олимпиада вышла.
– Его женщины очень любят. Я вам по секрету: когда арестуете его, пошлите за мной. Я приеду. Я посмотрю. У нас в академии малоросс один был, я не помню фамилии его, он чудеса делал.
Атаман вдруг вспомнил, что с инженером раньше, до войны еще, они были на «ты», теперь Балиханов улыбается снисходительно, говорит ему «вы», и на руках его нет колец.
«Украдем, что ли?» – подумал атаман и сказал со злостью:
– Врут очень много. Запуса выдрать и перестанет.
– О, да. Лгут люди много. Я согласен. Я ведь крови не люблю…
– Это к чему же?
Балиханов не ответил. Улыбаясь протяжно, чуть шевеля худыми желтыми пальцами, просидел он еще с полчаса. Артюшка показал ему новую винтовку – винчестер. Киргиз похвалил, а про себя ничего не стал рассказывать. Артюшка вытащил седло, привезенное из степи, – инженер поднял брови, крепко пожал руки и ушел.
Олимпиада сказала:
– Обиделся.
– Повиляла бы перед ним больше, глядишь бы не обиделся.
– Артемий!..
– Молчи лучше, потаскуха!
Ночью, когда Олимпиада опять повторила мужу – не отдавалась она Запусу, только поцеловала, сам же Артюшка просил выведать, – тогда атаман стал врать ей о ненормальностях Запуса; о том, что это сказал ему Балиханов. Олимпиада краснела, отворачивалась.
Атаман дергал ее за плечо, шипел в теплое ухо:
– Молчишь? Ты больше моего знаешь… молчишь! Сознайся, прощу – лучше он меня? Не веришь?..
– Пусти, Артемий, – больно ведь.
Он вспоминал какой-то туманный образ, а за ним слова старой актрисы, пришедшей на-днях просить пропуск из города: «женщина отдается не из-за чувственности, а из любопытства».
– Потаскуха, потаскуха!..
IX
Вверху, где тонкие перегородки отделяли людские страдания (не многочисленные страдания), где потели ночью в кроватях (со своей или купленной любовью), где днем было холодно (дров в городок не везли – у лесов сидел Запус) – вверху жила Олимпиада.
Внизу, где в двух заплеванных комнатах толкались люди у биллиарда, где казаки из узких медных чайников пили самогон, днем гогот стоял: над самосудами, над крестьянскими приговорами, над собой, – сюда по скользской – словно вымазанной слюной – проходила Олимпиада.
Были у ней смуглые руки (я уже о них говорил), как вечерние птицы. Платья муж приказывал носить широкие, синие, с высоким воротником. Как и о платье, так же важно упомянуть о холодной осени, о потвердевших песках и о птицах, улетающих медленно, словно неподвижно.
Над такими городками самое главное здание – тюрьма, потому – раньше здесь шли каторжные тракты на рудники, в тачки. Еще – церкви, но церкви (не так как тюрьмы) пусты, их словно не было; они проснулись в революцию. Вкруг тюрьмы – ров с полынью, перед воротами – палисадник – боярышник, тополя, шиповник.
Все это к тому, – в тюрьму казаки водили людей, мужиков из уезда; пахли мужики соломой, волосы были выцветшие, как солома. Как ворох соломы, – осеннее солнце; как выцветшие ситцы, – холодные облака.
И любовь Олимпиады – никому не сказанная – темна, тонка. От каждодневной лжи мужу высыхали груди (старая бабка об'яснила бы, но умерла в поселке Лебяжьем); от раздумий высыхали глаза; губы – об губах ли говорить, когда подле нее весь городок спрыгнул, понесся, затарахтел.
От Пожиловской мельницы (хотя она не одна), сутулясь, бегали сговариваться с Мещанской слободки рабочие; ночью внезапно на кладбищенской церкви вскрикивал колокол; офицеры образовали союз защиты родины; атаман Артемий Трубычев заявил на митинге:
– Весь город спалим, – большевики здесь не будут.
А внутри сухота и темень, и колокол какой-то бьет внезапно и туго. Ради горя какого ходила Олимпиада городком этим с серыми заборчиками, песками, желтым ветром из-за Иртыша?
X
Генеральша Саженова пожертвовала драгоценности в пользу инвалидов. На мельнице Пожиловых чуть не случился пожар; прискакали пожарные – нашли между мешков типографский станок и большевистские прокламации. Арестовали прекрасного Франца и еще двоих. Варвара Саженова поступила в сестры милосердия, братья ее – в союз защиты родины. Старик Поликарпыч забил досками ограду, ворота, сидел внутри с дробовиком и вновь купленной сукой. Атаман Трубычев увеличил штаты милиции, из казаков завели ночные об'езды. Три парохода дежурили у пристаней.
И все-таки: сначала лопнули провода, – не отвечал Омск; потом ночью восстала милиция, казаки; загудели пароходы, и – на рассвете в город ворвался Запус.
Исчез Артюшка (говорили – утопил его кто-то). Утром в Народном Доме заседал совет, выбирая Революционный Трибунал для суда над организаторами белогвардейского бунта.
XI
Надо было-б об'яснить или спросить о чем-то Олимпиаду. Пришел секретарь исполкома т. Спитов и помешал. Бумажку какую-то подписать.
Запус – в другой рубашке только, или та же, но загорела гуще, – как и лицо. Задорно, срывая ладони со стола, спросил:
– Контреволюция?.. Весело было?
Олимпиада у дверей липкими пальцами пошевелила медную ручку. Шатается, торчит из дерева наполовину выскочивший гвоздик:
– Или мне уйти?
Здесь-то и вошел т. Спитов.
– Инженер Балиханов скрылся, товарищ. Джатачники организовали погоню в степь…
– Некогда, с погонями там… Вернуть.
– Есть.
Так же быстро, как и ладони, поднял Запус лицо. На висках розовые полоски от спанья на дерюге. В эту неделю норма быстрого сна – три часа в сутки.
– Куда пойдешь? Останься.
– Останусь. Фиоза где?
– Фиоза? После…
Здесь тоже надо бы спросить. Некогда. Мелькнуло, так, словно падающий лист: «пишут книжки, давал читать. Ерунда. Любовь надо…». Вслух:
– Любовь…
– Что?
– Дома, дома об'ясню. На ключ. Отопри. У меня память твердая, остановился на старом месте… Кирилл Михеич Качанов… Товарищ Спитов!
– Есть.
– Пригласите по делу белогвардейского бунта подрядчика Качанова.
– Это – у вас домохозяин?
– Там найдете.
– Есть.
Еще мелькнули тощенькие книжки: «кого выбирать в Учредительное Собрание», «Демократическая Республика», «Почему власть должна принадлежать трудовому народу». Нарочно из угла комнаты вытащил эту пачку, тряхнул и – под стол. Колыхнулось зеленое сукно.
– Ерунда!
Дальше – делегаты от волостей, от солдат-фронтовиков, приветственные телеграммы Ленину – целая пачка.
– Соединить в одну.
– Есть.
Комиссар Василий Запус занят весь день.
Дни же здесь в городе – с того рассвета, когда ворвалась в дощатые улицы – трескучие, напитанные льдом, ветром. Шуга была – ледоход.
Под желтым яром трещали льдины. Берега пенились – словно потели от напряжения. От розоватой пены, от льдов исходили сладковатые запахи.
И не так, как в прошлые годы – нет по берегу мещан. С пароходов, с барж, хлябая винтовкой по боку, проходили мужики и казаки. На шапках жирные красные ленты, шаг отпущенный, разудалый, свой.
Кто-то там, между геранями, «голландскими» круглыми печками и множеством фотографий в альбомах и на стенах, – все-таки надеялся, грезил о том, что ускакало в степь: сытое, теплое, спокойное. Здесь же (по делу) проходил берегом почти всегда один комиссар Запус. Пьяным ему быть для чего же? Он мог насладиться фантазией и без водки. Он и наслаждался.
Мелким, почти женским прыжком, в грязной солдатской шинели и грязной фуражке, вскакивал он на телегу, на связку канатов, на мешки с мукой, на сенокосилки – и говорил, чуть-чуть заикаясь и подергивая верхней – немного припухшей – губой.
– Социальные революции совершаются во всем мире; отнятое у нас, у наших предков возвращается в один день; нет больше ни богатых, ни бедных все равны; Россия первая, впереди. Нам, здесь особенно тяжело – рядом Китай, Монголия – угнетенные, порабощенные – стонут там. Разве мы не идем спасать, разве не наша обязанность помочь?
На подводах, пешком проходили городом солдаты – дальше в степь. Молча прослушав речь, не разжимая губ, поворачивались и шли к домам!
Запус спать являлся поздно. Про бунт скоро забыли; вызывали для допроса Олимпиаду, – сказала она там мало, а ночью в постели спросила Запуса:
– Ты не рассердишься?..
– Что такое?
Потрогала лбом его плечо и с усилием:
– Я хочу рассказать тебе об муже…
Веки Запуса отяжелели – сам удивился и, продолжая удивляться, ответил недоумевающе:
– Не надо.
– Хорошо…
Запус становился как будто грязнее, словно эти проходившие мимо огромные толпы народа оставляли на нем пыль своих дорог. Не брился, – и тонкие губы нужно было искать в рыжеватой бороде.
Если здесь – у руки – каждую минуту не стоял бы рев и визг, просьбы и требования; если бы каждый день не заседал совет депутатов; если б каждый день не нужно было в этих, редко попадавших сюда, газетах искать декреты и декреты, – возможно, подумал бы Запус дольше об Олимпиаде. А то чаще всего мелькала под его руками смуглая теплота ее тела, слова, какие нельзя запоминать. Сказал мельком как-то:
– Укреплять волю необходимо…
Вспомнил что-то, улыбнулся:
– Также и читать. Социальная революция…
– Можно и не читать? – спросила задумчиво Олимпиада.
– Да, можно… Социальная революция вызвана… нет, я пообедаю лучше в Исполкоме…
Фиозу так и не видала. Запус сказал – встретил ее последний раз, когда братались с казаками. Разве нашла Кирилла Михеича, – живет тогда в деревне, ждут когда кончится. А смолчал о том, как, встретив ее тогда между возов в солдатской гимнастерке и штанах, провел ее в лес, и как долго катались они по траве с хохотом. Ноги в мужских штанах у ней стали словно тверже.
Поликарпыч сидел в пимокатной, нанял какого-то солдата написать длинный список инвентаря пимокатной, вывесил список у дверей. Кто приходил, он тыкал пальцем в список:
– Принимай, становой, – сдаю… Ваше!..
Была как-будто еще встреча с Кириллом Михеичем. Отправилась Олимпиада купить у киргиз кизяку. И вот мелькнул будто в киргизском купе маленький немножко сутулый человечек с косой такой походкой. Испуганно втерся куда-то в сено, и, по наученью его что ль, крикнули из-за угла мальчишки.
– За сколько фунтов куплена?.. Комиссариха-а!..
Тогда твердо, даже подымая плечо, спросила Запуса:
– Надолго я с тобой?
Запус подумал: спросила потому, что начал наконец народ выходить спокойно. Распускают по животу опояски, натянули длинные барнаульские тулупы.
Кивнул. В рыжем волосе золотом отливают его губы.
– Навсегда. Может быть.
– Нравлюсь?
– Терпеть можно.
И сразу: к одному, не забыть бы:
– Дом большой, куда нам двоим? Я вселю.
Хотела еще, – остановилась посреди комнаты, да нет – прошла к дверям:
– Почему детей не было с Артюшкой?
– Дети, когда любят друг друга, бывают.
– Немного было бы тогда детей в мире… Порок?
– Я же об'яснила…
– Э-э…
Перебирая в Исполкоме бумаги с тов. Спитовым, – спросил:
– Следовательно, женщины… а какое к ним отношение?
До этого тов. Спитов был инструктором внешкольного образования. Сейчас на нем был бараний полушубок, за поясом наган. Щеки от усиленной работы впали, и лоб – в поперечных морщинах. Ответил с одушевлением:
– Сколько ни упрекай пролетариат, освобождение женщины диктуется насущностью момента. Раньше предавались любви, теперь же другие социальные моменты вошли в историю человека… Стало быть, отношения…
– Если, скажем, изменила?.. Обманула?..
Спитов ответил твердо:
– Простить.
– Допустим, ваша жена…
– Я холостой.
– А все-таки?
– Прощу.
С силой швырнул фуражку, потер лоб и вздохнул:
– Глубоко интересуют меня различные социальные возможности… Ведь, если да шара-ахнем, а?..
В то же время или позже показалось Запусу, что надо подумать об Олимпиаде, об ее дальнейшем. Тут же ощутил он наплыв теплоты – со спины началось, перешло в грудь и, долго спустя, растаяло в ногах. Махая руками, пробежал он мимо Спитова и в сенях крикнул ему:
– А если нам республику здесь закатить? Республика… Постой! Советская Республика голодной степи… Киргизская… Монгольская… Китайская… Шипка шанго?..
Широколицый солдат в зале, растопив камин, варил в котелке картошку. Тыча штыком в котелок, сказал:
– Бандисты, сказывают, в уезде вырезали шесть семей. Изголяются, тоже… Про-писать бы им.
– Прокламацию?
– Не, – винтовочного чего-нибудь…
– Устроим.
Постоял на улице, подумал – к кому он испытывает злость? Артюшка, Кирилл Михеич, Шмуро – еще кто-то. Их, конечно, нужно уничтожить, а он на них не злится. Теплота еще держалась в ногах, он быстро пошел. Вспомнил – потерял где-то шпоры. Решил – надо достать новые. Опять Кирилл Михеич – не глаза у него, а корни глаз, и тоже нет детей. Пальцы холодели «надо достать варежки; зимы здесь…». С тех пор как выпал снег, в Павлодаре еще никого не расстреляли.
– Сантиментальности, – плюнул Запус.
И ладонью легонько – три раза хлопнул себя по щеке.
Через три дня, – впервые за всю войну и революцию, – в Павлодаре стали выдавать населению карточки на хлеб, сахар и чай.