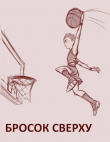Текст книги "Голубые пески"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Всеволод Иванов
Голубые пески
Посвящ. Анне Весниной.
Книга первая
Корабельная вольница
I
Была монета старая – в наш царев пятак объемом. Косо к одному боку давили друг дружку буковки – «2 копейки. – 1798, е. м.», а на обороте широкое жирное «П» втискивало в себя – «I». А над «П» – корона, которых теперь в России нет. Меди монета темной как чугун.
В Перми, рассказывают, много раньше таких монет водилось.
Только одну вот эту монетку перевез сюда на Иртыш переселенный человек Кирилл Михеич Качанов. Да еще лапти, кошель сухарей.
Церквей в Павлодаре – три. Две из них выстроил Кирилл Михеич, а третья выбита была во времена царя с темной монетки (у церквей своя история – дальше).
Сволочь разную казацкую Кирилл Михеич не уважал, а женился на казачке Фиозе Семеновне Савицкой из станицы Лебяжьей. И была с этой Фиозой Семеновной тоже своя история.
Кирпича киргиз делать не умеет. Киргиз – что трава на косьбу. Выстроил кирпичные заводы Кирилл Михеич.
Бороду носил карандашиком, волос любил человеческий, не звериный гладкий.
А телу летом в Павлограде тепло. Из степи пахнущая арбузами розовая пыль, из города – голубоватая. Дома – больше деревянные, церковь разве в камне (но у церквей своя история – дальше).
И у каждого человека своя история. Свое счастье.
У монеты своя история. Свое счастье.
И как неразменная золотая монета – солнце. И как стерляди – острогорбы и зубчаты крытые тесом дома. И степь, как Иртыш – голубой и розовый зверь.
На монету ли, на руку тугожильную шло счастье?
* * *
Счастье мое – день прошедший!
Радость, любовь моя – Иртыш голубой и розовый.
* * *
Хотел Кирилл Михеич бросить папироску в пепельницу, – но очутилась она на полу, и широкая его ступня ядовито пепел по половику растащила. По темно-вишневому половику – седая полоска.
А жена, Фиоза Семеновна, – даже и этого не заметила. Уткнулась, – казачья кровь – упрямая, – уткнулась напудренными ноздрями в подушку, плачет.
Кирилл Михеич тоже, может быть, плакать хочет! Чорт знает, что такое! Повел пальцами по ребрам, кашлянул.
Плачет.
Стукнул казанками в ладонь, прокричал:
– Перестань! Перестань, говорю!..
Плачет.
– Все вы на один бизмен: наблудила и в угол. Орать. Кошки паршивые, весну нашли… Любовников заводить…
Еще громче захныкала подушка. Шея покраснела, а юбка, вскинувшаяся показала розоватую ногу за чулком…
Побывал в кабинете Кирилл Михеич. Посидел на стуле, помял записку от фельдшера. Эх, чорт бы вас драл – чего человеку не хватает! Все бабы одинаковы: как листья весной – липнут.
Надел Кирилл Михеич шляпу и как был в тиковых подштанниках с алыми прожилками, в голубой ситцевой рубахе, – так и отправился. Так, всегда, носил сюртук и брюки на выпуск, но исподнее любил пермских родных мест и в цвета – поярче.
Дворяне жен изменниц всегда в сюртуках бранят и в таком виде убийства совершают. А мужик должен жену бить и ругать в рубахе и портках, – чтобы страшный дух, воспалительный, от тела шел.
Надо бы дать Фиозе в зубы!
Неудобно: подрядчик он на весь уезд – и жену, как ратник 2 разряда, бьет. Драться неудобно. И опять: письмо, Господи, да мало ли любовных бумаг еще страшнее бывает? Здесь, что ж, на ответное использование подозрительности нету.
«Любезная и дорогая Фиоза Семеновна! Раз сердце ваше в огне, потрудитесь вручителю сего подать ваше письменное согласие на ранде-ву в моей квартире в какие угодно времена»…
Михей Поликарпыч обитал позади флигелька, рядом с пимокатной. А как выходил сын из флигеля, – шваркали по щебню опорки, с-под угла показывалась хитрая и густая, как серый валенок, бороденка, и словно клок черной шерсти губы закатанные.
– Аль заказ опять? Везет тебе…
Хотел-было сунуть бумажку в карман: оказывается, в подштанниках вышел. Скомкал бумажку меж пальцев.
– Час который?
– Час, парень, девятай… Девятай, обязательно.
Осмотрел стройку, глыбы плотного алого кирпича. Ямы кисловато-пахнущей хлебом известки. Жирные телесного цвета сутунки – огромные гладкие рыбы у кирпичных яров-стен.
– Опять каменщиков нету? Прибавил ведь поденщину, какого лешака еще?..
Поликарпыч заложил руки на хребет, бороденку повел к плечу, ответил ругательно:
– Паскуда, а не каменщик. Рази в наше время такой каменьщик был?.. Етова народа прибавкой не сдержишь. Очень просто – паскуда, гнилушка. Отправились, сынок, на пристань к Иртышу. Пароход пришол – «Андрей Первозванный» человека с фронтов привез – всю правду рассказывает. Комиссар по фамильи.
– Комиссар не фамиль, а чин.
– Ну? Ловко! О-о, что значит царя-то нету. Какие чины-то придумали.
– Какой комиссар-то приехал, батя? Фамилью не сказывали?
– Вот и есть фамилья – комиссар. А, между прочих, сказывают – забастовку устроим. В знак любвей, это про комиссара-то. Валяй, говорю, раз уж на то пошло. И устроят, сынок. А, мобыть, грит, и на работу придем вечером. Как там – пароход.
Старик присел рядом на бревно и стал длинно, прерываясь кашлем, рассказывать о своих болезнях. Кирилл Михеич, не слушая его, смотрел на ползущие выше досчатого забора в сухое и зеленоватое небо емкие и звонкие стены постройки. На ворота опустилась сорока, колыхая хвостом, устало крикнула.
Кирилл Михеич прервал:
– Мальченка от фершала не приходил?
– Где мне видеть! Я в каморе все. А тебе его куды?
– Гони в шею, коли увидишь.
– Выгоню. Аль украл что?
Кирилл Михеич пнул ногой кирпич.
– И фершала гони, коли припрется. Прямо крой поленом – на мою голову. Шляются, нюхальщики!..
Старик хило вздохнул, повел по бревну руками. Соскабливая щепочкой смолу, пробормотал:
– Ладно… Ета можна.
Кирилл Михеич спросил торопливо:
– Краски, не знаешь, где купить? Коли еще воевать будут, не найдешь и в помине. Внутри под дуб надо, а крышу испанской зеленью…
Мимо постройки, улицей, низко раскидывая широкий шаг, прошли верблюды, нагруженные солью. Золотисто-розовая пыль плескалась как фай, пухло-жарко оседала у ограды.
Потом Кирилл Михеич был у архитектора Шмуро.
Архитектор – прямой и бритый (даже брови сбривал) – носил пробковый шлем, парусиновые штаны и читал Киплинга. Он любил рассказывать про Англию, хотя там и не был.
Архитектор, сдвинув шлем на затылок, шагал из угла в угол, курил трубку и говорил:
– Немцы – народ механический. Главная их цель – мировая гегемония, как на суше, так и на море. В англичанах же… тут – мысль!.. Разум! Наука! Сила…
И пока он вытряхивал табак, Кирилл Михеич спросил:
– Как насчет подрядов-то, Егор Максимыч? Церква-то неужто не мне дадут? Я ведь шестнадцать лет церкви строю…
Архитектор передвинул шлем на ухо и лихо сказал:
– Давайте мы с вами, Кирилл Михеич, в готическом стиле соорудим… Скажем, хоть хохлам в пример.
– Зачем же хохлам готический? Они молиться не будут… И погром устроют – церковь разрушат и нас могут избить. Теперь насчет драки – свободный самосуд.
Шмуро насунул шлем на брови, и соответственно этому голос его поредел:
– Такому народу надо ограниченную монархию… А если нам колокольню выстроить в готическом? Ни одной готической колокольни не строил. Одну колокольню?
– Колокольню попробовать можно. Скажем, в расчетах ошиблись.
Шмуро кинул шлем на кровать и сказал обрадованно:
– Тогда мы с вами кумыса выпьем. Чаным!
Киргиз принес четверть с кумысом.
– Слышали? – спросил Шмуро. – Комиссар Запус приехал.
– Много их. Так, насчет церквей-то, как? У меня сейчас и лес и кирпич запасен. Вы там…
– Можно, можно. Только вы политикой напрасно не интересуетесь. В Лондоне или даже в какой-нибудь Индии – просыпается сейчас джентльмен, и перед носом у него – газета. Одних объявлений – шестнадцать страниц…
– Настоящая торговля, – вздохнул Кирилл Михеич. – Жениться не думаете?
– Нет? А что?
– Так. К слову. Жениться человеку не мешает. Невесту здесь найти легко можно. Если на казачке женишься – лошадей в приданое дадут.
– Вы, кажется, на казачке женились? Много лошадей получили?
– В джут[1]1
Гололедица.
[Закрыть] все подохли. Гололедица… ну, и того… высохли. Пойду.
– Сидите. Я вам про Запуса расскажу, комиссара.
– Ну их к богу! Я насчет церквей и так… вот коли рабочие не идут на работу, как с ними? Закона такого нет?
– Рассчитать.
– Только? Кроме расчета – никаких свободных самосудов?..
– Нельзя.
На улицах между домами – опять золотистая пыль. Как вода на рассвете – легкая и светлая. Домишки деревянные, островерхие – зубоспинные и зеленоватые стерляди. У некоторых домов – палисадники. В деревянных опоясачках пыльные жаркие тополи, под тополями, в затине – кошки. Глаз у кошки золотой и легкий как пыль.
А за домами – Иртыш голубой, легкий и розовый. За Иртышом – душные нескончаемые степи. И над Иртышом – голубые степи, и жарким вечным бегом бежит солнце.
Встретился протоиерей Смирнов. Был он рослый, темноволосый и усы держал как у Вильгельма. А борода, как степь зимой, не росла, и он огорчался. Голос у него темный с ядреными домашними запахами, словно ряса, говорит:
– На постройку?
Благословился Кирилл Михеич, туго всунул голову в шляпу.
– Туда. К церкви.
Смирнов толкнул его легонько, – повыше локтя. И, спрятав внутри темный голос, непривычным шопотом сказал:
– Ступайте обратно. От греха. Я сам шел – посмотреть. Приятно, когда этак…
Он потряс ладонями, полепил воздух:
– …растет… Небо к земле приближается… А вернулся. Квартала не дошел. Плюнул. У святого места, где тишина должна, – птица и та млеет сборище…
– Каменщики?
Когда протоиерей злился – бил себя в лысый подбородок. Шлепнул он тремя пальцами, и опять тронул Кирилла Михеича выше локтя:
– Заворачивайте ко мне. Чаем с малиновым вареньем, дыни еще из Долона привезли, – угощу.
– На постройку пойду.
– Не советую. Со всего города собрались. Комиссар этот, что на пароходе. Запус. Непотребный и непочтительный крик. Очумели. Ворочайтесь.
– Пойду.
Шлепнул ладонью в подбородок. Пошел, тяжело вылезая ногами из темной рясы, – мимо палисадников, мимо островерхих домов – темный, потный, гулом чужим наполненный колокол. Протоиерей Евстафий Владимирович Смирнов, сорока пяти лет от роду.
На кирпичах, принадлежащих Кириллу Михеичу, на плотных и веселых стенах постройки, на выпачканных известкой лесах – красные, синие, голубые рубахи. Крыльца, сутулые спины, привыкшие к поклажам – кирпича, ругани, кулаков – натянули жилы цветные материи, – красные, синие, голубые, слушают.
И Кирилл Михеич слушает. Раз пришел…
На бывшей исправничьей лошади – говорящий. Звали ее в 1905 году Микадо, а как заключили мир с Японией – неудобно – стали кликать: Кадо. Теперь прозвали Императором. Лошадь добрая, Микадо так Микадо, Император так Император – ржет. Копытца у ней тоненькие, как у барышни, головка литая и зуб в тугой губе – крепкая…
И вот на бывшей исправничьей лошади – говорящий. Волос у него под золото, волной растрепанный на шапочку. А шапочка-пирожок – без козырька и наверху – алый каемчатый разрубец. На боку, как у казаков, – шашка в чеканном серебре.
Спросил кого-то Кирилл Михеич:
– Запус?
– Он…
Опять Кирилл Михеич:
– На какой, то-есть, предмет представляет себя?
И кто-то басом с кирпичей ухнул:
– Не мешай… Потом возразишь.
Стал ждать Кирилл Михеич, когда ему возразить можно.
Слова у Запуса были розовые, крепкие, как просмоленные веревки, и теплые. От слов потели и дымились ситцевые рубахи, ветер над головами шел едкий и медленный.
И Кириллу Михеичу почти также показалось, хотя и не понимал слов, не понимал звонких губ человека в зеленом киргизском седле.
– Товарищи!.. Требуйте отмены предательских договоров!.. Требуйте смены замаскированного слуги капиталистов – правительства Керенского!.. Берите власть в свои мозолистые руки!.. Долой войну… Берите власть…
И он, взметывая головой, точно вбивал подбородком – в чьи руки должна перейти власть. А потом корявые, исщемленные кислотами и землей, поднялись кверху руки – за властью…
Кирилл Михеич оглянулся. Кроме него, на постройке не было ни одного человека в сюртуке. Он снял шляпу, разгладил мокрый волос, вытер платком твердую кочковатую ладонь и одним глазом повел на Запуса.
Гришка Заботин, наборщик из типографии, держась синими пальцами за серебряные ножны, говорил что-то Запусу. И выпачканный краской, темный, как типографская литера, гришкин рот глядел на Кирилла Михеича. И Запус туда же.
Кирилл Михеич сунул платок в карман и, проговорив:
– Стрекулисты… тоже… Политики! отправился домой.
Но тут-то и стряслось.
За Казачьей площадью, где строится церковь, есть такой переулочек Непроезжий. Грязь в нем бывает в дождь желтая и тягучая, как мед, и глубин неизведанных. Того ради, не как в городе – проложен переулком тем деревянный мосток, по прозванью троттуар.
Публика бунтующая на площади галдит. По улицам ополченцы идут, распускательные марсельезные песни поют. А здесь спокойнехонько по дощечкам каблуками «скороходовских» ботинок отстукивай. Хоть тебе и жена изменяет, хоть и архитектор-англичанин надуть хочет – постукивай знай.
И вот топот за собой – мягкий по пыли, будто подушки кидают. На топот лошадиный что ж оборачиваться – киргиз он завсегда на лошади, едва брюхо в материю обернет. А киргиза здесь как пыли.
Однако обернулся. Глазом повел и остановился.
Вертит исправничья лошадь «Император» под гладкое свое брюхо желтые клубы. Копыта как арканы кидает.
А Запус из седла из-под шапочки – пильменчиком веселым глазом по Кириллу Михеичу.
Подъехал; влажные лошадиные ноздри у суконной груди подрядчика дышат – сукно дыбят. Только поднял голову, кашлянул, хотел он спросить, что мол, беспокоите, – наклонились тут черные кожаные плечи, шапочка откинулась на затылок. Из желтеньких волосиков на Кирилла Михеича язычок полвершка – и веки одна за другой подмигнули…
Свистнул, ударил ладонями враз по шее «Императора» и ускакал.
II
Соседом по двору Кирилла Михеича был старый дворянский дом. Строился он во времена дедовские, далеко до прихода Кирилла Михеича из пермских земель. И как сделал усадебный флигелек себе Кирилл Михеич на место киргизской мазанки, так и до этой новой кирпичной постройки – стоял сосед нем и слеп.
Пучились проросшие зеленью ставни. Били, жгли и тянули их алые и жаркие степные ветры, кувыркались плясами по крыше, визжали истошно и смешно в приземистые трубы, – не шевелился сосед.
А в этот день, когда под вечер на неподмазанных двухколесых арбах киргизы привезли кирпичи на постройку, – заметил Кирилл Михеич сундушный стук у соседа. И вечеровое солнце всеми тысячи зрачков озверилось в распахнутых ставнях.
Спросил работника Бикмуллу:
– Чего они? Ломают что ль?
Поддернул чимбары[2]2
Штаны.
[Закрыть] Бикмулла (перед хорошим ответом всегда штаны поддерни, тибитейкой качни), сказал:
– Апицер – бий – генирал большой приехал. Большой город, грит, совсем всех баран зарезал. Жрать нету. Апицер скоро большой город псех резить будет. Палле!..
В заборе щели как полена. Посмотрел Кирилл Михеич.
Подводы в ограде. Воза под брезентами – и гулкий с раскатцем сундушный стук, точно. На расхлябанные двери планерочки, скобки приколачивает плотник Горчишников (с постройки тоже). Скобки медные. Эх, не ворованные ли?
– Горчишников! – позвал Кирилл Михеич.
Вбил тот гвоздь, отошел на шаг, проверил – еще молотком стукнул и тогда – к хозяину.
– Здрасьте, Кирилл Михеич.
В щель на Горчишникова уставились скуластые пермские щеки, бородка на заграничный цвет – карандашиком и один вставной желтый зуб.
– Ты чего ж не работал?
– Так что артель. Революсия…
– Лодыри.
Еще за пять сажен проверил тот гвоздь. Поднял молоток, шагнул-было.
– Постой. Это кто ж приехал?
– Саженова. Генеральша. Из Москвы. Добра из Омска на десяти подводах – пароходы, сказывают, забастовали. У нас тут тоже толкуют – ежели, грит, правительство не уберут…
– Постой. Одна она?
– Дочь, два сына. Ранены. С фронтов. Ребята у вас не были? Насчет требований?
– Иди, иди…
В ограде горел у арб костер: киргизы варили сурпу. Сами они, покрытые овчинами, в отрепанных малахаях сидели у огня, кругом. За арбами в синей темноте перебегали оранжевые зеницы собак.
Кирилл Михеич, жена и сестра жены, Олимпиада, ужинали. Олимпиада с мужем жила во второй половине флигеля. Артемий Трубучев, муж ее, капитан приехал с южного фронта на побывку. Был он косоног, коротковолос и похож на киргиза. Почти все время побывки ездил в степи, охотился. И сейчас там был.
Кирилл Михеич молчал. Нарочито громко чавкая и капая на стол салом, ел много.
Фиоза Семеновна напудрилась, глядела мокро, виновато вздыхала и говорила:
– Артюша скоро на фронт поедет. И-и, сколь народу-то поизничтожили.
– Уничтожили! Еще в людях брякни. Возьми неуча.
– Ну, и пусть. Знаю, как в людях сказать. Вот, Артюша-то говорит: кабы царя-то не сбросили, давно бы мир был и немца побили. А теперь правителей-от много, каждому свою землю хочется. Воюют. Сергевна, чай давай!..
– Много он, твой Артюша, знает. Вопче-то. Комиссар вон с фронта приехал. Бабы, хвост готовь – кра-асавец.
Олимпиада, разливая, сказала:
– Не все.
Летали над белыми чашками, как смуглые весенние птицы, тонкие ее руки. Лицо у ней было узкое, цвета жидкого китайского чая и короткий лоб упрямо зарастал черным степным волосом.
– Генеральша приехала, Саженова, – проговорила поспешно Фиоза Семеновна. – Дом купила – не смотря. В Москве. Тебе, Михеич, надо бы насчет ремонту поговорить.
– Наше дело не записочки любовные писать. Знаем.
– …Нарядов дочери навезли – сундуки-то четверо еле несут. Надо, Лимпияда, сходить. Небось модны журналы есть.
– Обязательно-о!.. Мало на тебя, кралю, заглядываются. И-их, сугроб занавоженный…
Кирилл Михеич не допил чашку и ушел.
В коленку ткнулась твердым носом собака и, недоумевающе взвизгнув, отскочила.
Среди киргиз сидел Поликарпыч и рассказывал про нового комиссара. Киргиз удивило, что он такой молодой, с арбы кто-то крикнул: «Поди, царский сын». Еще – чеканенная серебром сабля. Они долго расспрашивали про саблю и решили итти завтра ее осмотреть.
– «Серебро – как зубы, зубы – молодость», – запел киргиз с арбы самокладку.
А другой стал рассказывать про генерала Артюшку. Какой он был маленький, а теперь взял в плен сто тысяч, три города и пять волостей, немцев в плен.
Кирилл Михеич, чуть шебурша щепами и щебнем, вышел за ворота.
Из ожившего дома, через треснувшие ставни тек на песок желтый и пахучий, как топленое масло, свет. Говорили стекла молодым и теплым.
Он прошелся мимо дома, постройки. Караульщик в бараньем тулупе попросил закурить. А закурив, стал жаловаться на бедность.
– Уйди ты к праху, – сказал Кирилл Михеич.
Через три дома – угол улицы.
Посетили гальки блестящие лунные лучи, – ушли за тучу. Тополя в палисадниках – разопрелые банные веники на молодухах… Белой грудью повисла опять луна. (Седая любовь – нескончаемая). Сонный извозчик – киргиз остановил лошадь и спросил безнадежно:
– Можить, нада?
– Давай, – сказал Кирилл Михеич.
– Куды?.. Но-о, ты-ы!..
Пощупал голову, – шляпу забыл. Нижней губой шевельнул усы. С непривычки сказать неловко, не идет:
– К этим… проституциям.
– Ни? – не понял киргиз. – Куды?
Кирилл Михеич уперся спиной в плетеную скрипучую стенку таратайки и проговорил ясно:
– К девкам…
– Можня!..
III
Все в этой комнате выпукло – белые надутые вечеровым ветром шторы; округленные диваны; вываливающиеся из пестрых материй груды мяс и беловато-розовая лампа «Молния», падающая с потолка.
Архитектор Шмуро в алой феске, голос повелительный, растяжистый:
– Азия!.. Вина-а!..
Азия в белом переднике, бритоголовая, глаз с поволокой. Азиатских земель – Ахмет Букмеджанов. Содержатель.
Кириллу Михеичу что? Грудь колесом, бородку – вровень стола – здесь человека ценить могут. Здесь – не разные там…
– Пива-а!.. – приказывает Шмуро. – Феску грозно на брови (разгул страстей).
Девки в азиатских телесах, глаза как цветки – розовые, синие и черные краски. Азиат тело любит крашеное, волос в мускусе.
Кирилл Михеич, пока не напился – про дело вспомнил. Пододвинул к архитектору сюртук. Повелительная глотка архитекторская – рвется:
– Пива, подрядчику Качанову!.. Азия!..
– Эта как же? – спросил Кирилл Михеич с раздражением.
– Что?
– В отношениях своих к происходящим, некоторым родом, событиям. Запуса видел – разбойник. Мутит… Протопоп жалуется. Порядочному люду на улице отсутствие.
– Чепуха. Пиво здесь хорошее, от крестьян привезли. Табаку не примешивают.
– Однако производится у меня в голове мысль. К чему являться Запусу в наши места?..
– Пей, Кирилл Михеич. Девку хочешь, девку отведем. На-а!..
Ухватил одну за локти – к самой бороде подвел. Даже в плечах заморозило. О чем говорил, забыл. Сунул девке в толстые мягкие пальцы стакан. Выпила. Ухмыльнулась.
Архитектор – колесом по комнате – пашу изображает. Гармонист с перевязанным ухом. Гармоника хрипит, в коридорах хрипы, за жидкими дверцами разговорчики – перешепотки.
– Каких мест будешь?
– Здешняя…
Кирилл Михеич – стакан пива. С плеча дрожь, на ногти – палец не чует.
– Зовут-то как?
– Фрося.
Давай сюда вина, пива. Для девок – конфет! Кирилл Михеич за все отвечает. Эх, архитектор, архитектор – гони семнадцать церквей, все пропьем. Сдвинули столы, составили. Баран жареный, тащи на стол барана.
– Лопай, трескай на мою голову!
Нету архитектора Шмуро, райским блаженством увлекся.
Все же появился и похвалил:
– Я, говорил, развернется! Подрядчик Качанов-та, еге!..
– Сила!
Дальше еще городские приехали: прапорщик Долонко, казачьего уездного круга председатель Боленький, учитель Отгерчи…
Плясали до боли в пятках, гармонист по ладам извивался. Толстый учитель Отгерчи пел бледненьким тенорком. Девки ходили от стола в коридор, гости за ними. Просили угощений.
Кирилл Михеич угощал.
Потом, на несчетном пивном ведре, скинул сюртук, засучил рукава и шагнул в коридор за девкой. У Фроси телеса, как воз сена – широки… Колечки по жилкам от тех телес.
А в коридоре, с улицы ворвалась девка в розовом. Стуча кулаками в тесовые стенки, заорала, переливаясь по деревенски:
– Де-евоньки-и… На пароход зовут, приехали!
Зазвенели дверки. Кирилла Михеича к стене. Шали на крутые плечи:
– Ма-атросики…
Отыскал Кирилл Михеич Фросю. Махнул кулаком:
– За все плачу! Оставайся! Хозяин!
– Разошелся, буржуй! Надо-о!.. И-иих!..
Азия – хитрая. Азия исчезла. И девки тоже.
И хитрый блюет на диване архитектор. На подстриженных усах – бараньи крошки. Блевотина зеленоватая. Оглядит Кирилла Михеича, фыркнет:
– Прозевал?.. Я, подрядчик Качанов… я тово… успел…
* * *
На другой день, брат Фиозы Семеновны, казак Леонтий привез из бору волчьи шкуры. Рассказывал, что много появилось волков, а порох дорожает. Сообщал – видел среди киргиз капитана Артемия Флегонтыча, обрился и в тибитейке. В голосе Леонтия была обида. Олимпиада стояла перед ним, о муже не спрашивала, а просила рассказать, какие у волков берлоги. Леонтий достал кисет из бродеи, закурил трубку и врал, что берлоги у волков каждый год разные. Чем старше волк, тем теплее…
Протоиерей Смирнов, в чесучевой рясе, пахнущей малиной, показывал планы семнадцати церквей Кириллу Михеичу и убеждал, хоть одну построить в византийском стиле. Шмуро – из-под пробкового шлема, значительно поводил глазами. Передав Кириллу Михеичу планы, протоиерей, понизив голос, сказал, что ночью на пароходе «Андрей Первозванный» комиссар Запус пиршество устроил. Привезли из разных непотребных мест блудниц, а на рассвете комиссар прыгал с парохода в воду и переплывал через Иртыш.
И все такая же золотисто-телесная рождалась и цвела пыль. Коровы, колыхая выменем, уходили в степь. На базар густо-пахнущие сена везли тугорогие волы. Одинокие веселоглазые топтали пески верблюды, и через Иртыш скрипучий пором перевозил на ученье казаков и лошадей.
Кирилл Михеич ругал на постройке десятника. Решил на семнадцать церквей десятников выписать из Долони – там народ широкогрудый и злой. Побывал в пимокатной мастерской: – кабы не досмотрел, проквасили шерсть. Сгонял за город на кирпичные заводы: лето это кирпич калился хорошо, урожайный год. Работнику Бикмулле повысил жалованье.
Ехал домой голодный, потный и довольный. Вожжей стирал с холки лошади пену. Лошадь косилась и хмыкала.
У ворот стоял с бумажкой плотник Горчишников. Босой, без шапки, зеленая рубаха в пыли и на груди красная лента.
– Робить надо, – сказал Кирилл Михеич весело.
А Горчишников подал бумажку:
Исполком Павлодарского Уездн. Совета Р., К., С., К. и К. Ден. извещает гражд. К. Качанова, что… уплотнить и вселить в две комнаты комиссара Чрезвычайного Отряда т. Василия Запуса.
Августа…
Поправил шляпу Кирилл Михеич, глянул вверх.
На воротах, под новой оглоблей прибит красный флаг.
Усмехнулся горько, щекой повел:
– Не могли… прямо-то повесить, покособенило.