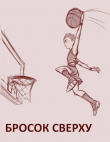Текст книги "Голубые пески"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
IV
Поликарпыч обошел всю ограду, постоял за воротами и, щупая кривыми пальцами ноющий хребет, вернулся к мастерской. Тут в тележке под'ехал к навесу Кирилл Михеич. Сюртук у него был выпачкан алой пылью кирпичей, на сапоге прилипла желтовато-синяя глина.
– За городом дождь был, а тут, как сказать, не вижу.
– Тут нету.
Поликарпыч распустил супонь. Лошадь вдумчиво вытянула шею, спуская хомут.
– Видал, Кирилл, поселковых? Они на завод поехали, стретим, грит, его там. Я про бабу, Фиезу, спрашивал…
– В Талице она гостила…
– И то слышал, гостила, говорят. Я про хозяйство, без бабы какое хозяйство?.. поди, так приехать должна скоро, письмо што ль ей?..
Кирилл Михеич повел щекой. Оправил на хомуте шлею и резко сказал:
– На пристань пойду, женску роту на фронт отправляют… В штанах, волосы обрили, а буфера-то что пушки.
Поликарпыч сплюнул:
– Солдаты и бритых честь-по-честью… Вояки! У нас вот в турецку войну семь лет баб не видали, а терпели. Брюхо – в коросте!..
– Воевать хочут, ни что-нибудь, яко-бы…
– Ну, воевать! Комиссар, Васелий тоже в уезде воюет. Грабители все пошли… Чай пить не будешь? Сынок!..
Поликарпыч укоризненно посмотрел на сутулую спину уходившего сына, скинул свой пиджак, вытряс его с шумом:
– Маета! Без бабы кака постель, поневоле хошь на чужих баб побежишь… Они, вишь, ко фронту за ребятишками поехали…
Он хлопнул себе по ляжке и, тряся пыльной бороденкой, рассмеялся:
– Поезжай, мне рази жалко!..
Кирилл Михеич, крепко расставляя ноги, шел мимо тесовых заборов к пристани. Раньше на заборах клеились (по углам) афишки двух кинематографов «Заря» и «Одеон», а теперь – как листья осенью всех цветов
«Голосуйте за трудовое казачество!»
«Да здравствует Учредительное Собрание!..»
«Выбирайте социалистов-революционеров!..»
И еще – Комитет Общественной Безопасности об'являл о приезде чрезвычайного следователя по делу Запуса. Следователь, тощий паренек с лохматыми черными бровями, Новицкий, призывал Кирилла Михеича. Расспросил о Запусе и, краснея, показал записки Фиозы, найденные на пароходе.
Это было неделю назад, а сегодня поселковые рассказали, как Фиоза уехала к Запусу. Казак Флегонт Пестов, дядя убитого Лифантия, грозил кулаком в землю у ног Кирилла Михеича:
– Ты щщо думаешь: за таки дела мы помилуем? Ане, думаешь, как нас осилят, не вырежут?.. Она, может, списки составила?..
Кирилл Михеич считал кирпичи, отмечая их в книжку, и молчал. Казаки кирпичи везли на постройку полусожженной Запусом церкви, – Кириллу Михеичу неловко было спросить о плате. Казаки стыдились и врали про Фиозу, что, уезжая, она три дня молилась, не вставая с колен.
– Околдовал, штобы его язвило!
У пристани – крепко притянутая стальными канатами – баржа. За ней буксирный пароходик – «Алкабек». По сходням взад и вперед толпились мещане. На берегу на огромных холмах экибастукской соли прыгали, скатываясь с визгом вниз, ребятишки. Салдаты, лузгая семячки, рядами (в пять-восемь человек) ходили вверху по яру. Один босой, в расстегнутой гимнастерке, подплясывая, цеплялся за ряды и дребезжаще кричал:
– Чубы крути, счас баб выбирать будем!..
Пахло от солдат острым казарменным духом. Из-за Иртыша несло осенними камышами; вода в реке немая и ровная. На носу парохода, совсем у борта, спал матрос-киргиз, крепко зажав в руке толстый, как жердь, канат.
«Упадет», – подумал Кирилл Михеич.
Здесь подошел Шмуро. Был он в светло-зеленом френче, усы слегка отпустил. Повыше локтя – трехцветный треугольник. Выпятив грудь, топнул ногой и, пожимая вялую ладонь Кирилла Михеича, сказал задумчиво:
– Добровольно умирать еду… Батальон смерти, в Омск. Через неделю. Только победив империалистические стремления Германии, Россия встанет на путь прогресса…
– Церкви, значит, строить не будете?..
– Вернусь, тогда построим.
Кирилл Михеич вздохнул.
– Дай Бог. На могиле-то о. Степана чудо свершилось, – сказывают, калика исцелилась. Пошла.
– Религиозные миазмы, а впрочем в Индии вон факиры на сорок дней в могиле без вреда закапываются… Восток! Капитана давно не видали?
– Артюшку?
– Уездным комиссаром назначен, из Омска. Казачий круг доверие выразил. Был у него сегодня – обрился, телеграмму читает: казаки на Сохтуй лавой…
– Куда?.. Брешут, поди. Ленивы они…
– Сохтуй, резиденция Запуса. Только разве фронтовики в казаках, – а то беспощадно… Заходите.
Шмуро быстро выпрямился и пошел к генеральше Саженовой. Обернулся, протянул палец к пуговицам френча:
– В уезде военное положение. Пароль и лозунг!.. Беспощадно…
Кирилл Михеич посмотрел на его высоко подтянутый ремень и вяло улыбнулся: Шмуро подражал Запусу.
Втягивая зад (потому что на него и о нем хохотали солдаты), прошла на баржу женская рота. Если смотреть кверху – видно Кириллу Михеичу, такие же, как и на яру, солдатские лица. Глаза, задавленные широкими щеками со скулами, похожими на яйца, лбы покрытые фуражками, степные загары. Рядом с девкой из заведенья хитрого азиата Бикмеджанова увидал Леночку Соснину, она в прошлом году окончила гимназию в Омске. Теперь у ней также приподнялись щеки, ушли под мясо глаза и тяжело, по-солдатски, мотались кисти рук.
Саженовы кинули на баржу цветы.
С тележки, часто кашляя и вытягивая челюсть, говорил прощальную речь Артюшка.
Кирилл Михеич речи его не слушал, а пошел, где нет народа. У конторы пристани, на завалинке сидели грузчики. Один из них, очищая розовато-желтую луковицу, говорил бойко:
– Приехал он на базар, тройка вся в пене. Шелкова рубаха, ливервер. Орет: «Не будь, грит, я Васька Запус, коли всех офицеров с казаками не перебью». Повернул тройку на всем маху и в степь опять…
– Вот отчайной!..
– Прямо в город!..
Извозчик, дремавший на козлах, проснулся, яростно стегнул лошадь и язвительно сказал Кириллу Михеичу:
– И для че врут, конь и тот злится… Шантрапа!.. Садитесь, довезу.
Кирилл Михеич взялся было за плетеную стенку, чтоб влезть. Грузчики вдруг захохотали. Кирилл Михеич опустил руку:
– Не надо.
Извозчик, точно поняв что, кивнул и, хлестнув крутившегося в воздухе овода жирным и толстым кнутом, опять задремал.
Расстегнув френч и свесив с дрожек кривые ноги, показался капитан Трубычев. Кирилл Михеич тоже расстегнул сюртук:
– Артюш!..
Трубычев убрал ноги и, шурша сеном, подвинулся:
– Садитесь, рядом… Домой!
Дрожки сильно трясло.
– Когда это пыль улягет?
– Да-а… – устало сказал Артюшка. – Как хозяйство идет? Подряды имеются? Мне о церквах каких-то говорили.
– Нету нонче никаких подрядов, например, бумага одна получается. Как сказать фунтаменты провели, есть, а народ воюет. Олимпиада здорова?..
– Скоро можно строить. Казачья лава пройдет, Запуса прогонят. Следователь сказывал, письмо Фиозы нашли в пароходе.
Кирилл Михеич пошарил в кармане, точно ища письма. Вдруг взмахнул рукой и схватил Артюшку за коленку:
– Ты мне, Артюш, записку, записку такую по всему уезду… чтоб пропускали везде: дескать, Кирилл Михеич Качанов по всему уезду может, понял? Я завтра отправлюсь.
– Записка, пропуск?
– Ну, пропуск. Мне-то что, мне только ехать.
– Записка выдается людям, связанным с гражданскими или военными организациями.
– Петуха знаешь?
– Какого петуха?
– Олимпиада петуху одному горло перекусила… А мне в уезд надо ехать, церкви строить!.. Давай записку.
– Петух-то при чем?
Веки Кирилла Михеича точно покрылись слюной. На лице выступила розовато-желтая кожа. Он дергал Артюшку за острое колено, и тому казалось, у него нарастает что-то на колене…
– Какой петух?..
– Не петух, а человека губят. Же-ену!.. Пущай я по всему уезду спокойно… церкви, скажу, осматривать. Я под законный суд привезу.
– Зачем ее тебе? Таких – к Бикмеджанову ступай, десяток на выбор. Кто ее потрогает?..
– Могу я осматривать свои постройки; я в губернию жаловаться поеду. Стой!
Он выпрыгнул из дрожек и, застегивая сюртук, побежал через площадь в переулок. Киргиз-кучер посмотрел на его ноги и шлепнул пренебрежительно губами:
– Азрак-азрак сдурел… Сопсем урус бегать ни умет. А-а!..
Вечером, архитектор Шмуро сидел перед Кириллом Михеичем в кабинете. Шоркая широкими ступнями по крашеному полу, он вразумительно говорил:
– Окончательно, на вашем месте я бы отказался. Я люблю говорить правду, ничего не боюсь, но головы мне своей жалко, сгодится… Хм… Так вот: я об'ясню – Трубычев вам не давал бумажку потому, что ревнует жену к Запусу, а Фиоза Семеновна при нем если, – не побежит же туда Олимпиада. Затем Олимпиада повлияла, сплетница и дура. Отпустил. Мне говорит: «Командирую с ним, не выпускайте из казачьей лавы». А что там палкой очерчено, здесь идут казаки, а здесь нет. Поедете?
– Поеду, – сказал Кирилл Михеич.
– Вам говорю: зря. Откажитесь. Я бы мог, конечно, несмотря на военную дисциплину – я защищать фронт еду, а не мужей, – мог бы отказаться… Он меня здесь очень легко со злости под пулю подведет…
Он вытер потные усы и, еще пошоркав ногами, сказал обреченным голосом:
– Поедете?..
– Поеду, – отвечал Кирилл Михеич и попросил отдать ему пропуск по уезду.
Шмуро вздохнул:
– Здесь на нас, на двоих… А впрочем, возьмите.
V
У тесовых ворот фермы на бревне сидел толстоногий мужик. Увидав Фиозу Семеновну, он царапнул ружьем по бревну и, тускло глядя ей в груди, сказал:
– Нельзя пускать, сказано. Вишь – проволочны загражденья лупят… Камфорт, язви их!.. Ступай в поселок лучше.
Лугом, вокруг фермы, трое парней вбивали в сырую землю колья. Босой матрос обматывал колья колючей проволокой.
Фиоза Семеновна ушла.
Горьче всего – тлел на ее заветревших (от осенних водяных ветров) пальцах мягкий желтый волос Запуса. Дальше – голубовато-желтые глаза и быстрые руки над ее телом… Горьче осенних листьев…
И шла она к ферме не за милостью – городские ботинки осели в грязь, надо ботинки; от жестких и бурых как жнивье ветров – шубу.
А по жнивью, пугая волков, одетый в крестьянский армяк и круглую татарскую шапку, скакал куда-то и не мог ускакать Васька Запус. Как татарские шапки на лугах – стога, скачут в осенних ветрах, треплют волосом и не могут ускакать. Лугами – окопы, мужичьи заставы. Из степей желтым огнем идет казачья лава.
Плакала Фиоза Семеновна.
Четвертый раз говорил ей толстоногий мужик Филька, – в ферму не велено пускать. Неделю не под'езжал к полисаднику Запус. Дни над стогами мокрые ветряные сети, птицы летят выше туч.
Сидеть бы в городе Павлодаре, смотреть Кирилл Михеича. Печи широкие корабли, хлеба белые; от печей и хлебов сытый пар.
Не надо!
* * *
Просфирня укоряла Иру: поселком говорят, не блюдет себя. Ира упрямо чертила подбородком. Остры девичьи груди, как подбородок. Фиоза Семеновна, проходя в горницу, подумала – «грех… надо в город» и спросила:
– Урожай какой нынче?
Просфирня скупо улыбнулась и ответила:
– Едва ли вы в город проедете… Заставы кругом, не выпустят. Пройдут казаки, тогда можно.
– Убьют!
– Ну, может и не убьют, может простят… Не пускает он вас? Другую, поди, подобрал – до баб яруч. Муж, поди, простит… Не девка… Это девке раз'езды как простить, а баба выдержит. Непременно выдержит.
Просфирня стала опять говорить дочери.
Мимо окон, наматывая на колесья теплую пахучую грязь, прошел обоз. Хлопая бичем и поддерживая сползавшие с плеч винтовки, скользнули за обозом пять мужиков.
Просфирня расставила руки, точно пряча кого под них:
– Добровольцы… Сколь их погибши. Что их манит, а? Дикой народ, бежит: с одной войны на другую, ни один гриб-то?..
Треснул перекатисто лугом пулемет. В деревне закричали пронзительно должно быть бабы. Просфирня кинулась к чашкам, к самовару. Ира сказала лениво:
– Учатся. Казаки после завтра придут. Испу-угались.
– Ты откуда знаешь?
– Пимных, Никола, сказывал.
Фиоза Семеновна обошла горницу. В простенке, между гераней, тусклое зеркало. Взяло оно кусок груди, руку в цветной пахучей кофте, лицу же в нем показаться страшно.
– Солдатское есть? – спросила тоскливо Фиоза Семеновна.
Просфирня, охая и для чего-то придерживаясь стены, вошла в горницу. Долго смотрела на желтый крашеный пол.
– Какое солдатское?
– Белье там, сапоги, шинель. У всех теперь солдатское есть.
– Об нас спрашиваете, Фиоза Семеновна?
И, вдруг хлопнув ладонь о ладонь, просфирня быстро зашарилась по углам:
– Есть, как же солдатскому не быть?.. от сына осталось… сичас солдатского найдем… как же… Ира, ищи!..
– Ищи, сама хочешь так. Что я тебе барахлом торговать?
Выкидывая на скамейку широкие, серого сукна, штаны, просфирня хитро ухмыльнулась:
– К мужу под солдатской амуницией пробраться хочешь?
– К мужу, – вяло ответила Фиоза Семеновна: – шинель коли найдется, куплю.
– Все найдется. Ты думаешь, солдат легче пропускают?
– Легче.
– Ну, дай бог. И то, скажешь, с германского фронта ушел: нонче много идет человека, как гриба в дождь.
Штаны пришлись в пору: ноги лежали в них большими солдатскими кусками. Ворот рубахи расширили, а шинель – узка, тело из-под нее выплывало бабьим. Отпороли хлястик, затянули живот мягким ремнем – вышло.
– Хоть на германску войну итти.
Фиоза Семеновна ощупала руки и, спустив рукава шинели до ногтей, тихо сказала:
– Режь.
– Чего еще?
– Волос режь, на-голо.
И, дрогнув пальцами, взвизгнула:
– Да, ну-у!..
И, так же тонко взвигнув, вдруг заплакала Ира.
Просфирня собрала лицо в строгость, перекрестилась и, махнув ножницами, строго сказала:
– Кирилл Михеичу поклонитесь, забыл нас. Подряды, сказывают, у него об'явились огромадные. Держжись!..
Приподняв смуглую прядь волос, просфирня проворно лязгнула ножницами. Прядь, вихляясь, как перо, скользнула к подолу платья. Просфирня притопнула ее ногой.
Провожали Фиозу Семеновну до ворот. Ноги у ней в большом и теплом сапоге непривычно тлели – словно вся земля нога. От шинели пахло сухими вениками, а голова будто обожженная – и жар, и легость.
Растворяя калитку, просфирня повторила:
– Кланяйтесь Кирилл Михеичу. Вещи ваши я сохраню.
– Не надо.
В кармане шинели пальцы нащупали твердые, как гальки, хлебные крошки, сломанную спичку и стальное перышко. Фиоза Семеновна торопливо достала перышко и передала просфирне. Тогда просфирня заплакала и, поджав губы (чтобы не выпачкать слюной), стала целоваться.
А за селом, где налево от деревянного моста, дорога свертывала к городу, Фиоза Семеновна, не взглянув туда, повернула к ферме.
Толстоногий мужик все еще сидел на бревнах, только как-будто был в другой шапке.
– Сирянок нету закурить? – спросил он.
Фиоза Семеновна молча прошла мимо.
В сарае, где раньше стояли сельско-хозяйственные машины, за столом, покрытым одеялом, сидел Запус. Подтянув колено к подбородку и часто стукая ребром ладони о стол, он выкрикивал со смехом:
– Кто еще не вписался?.. Кому голов не жалко, а-а?.. Головы, все? Последний день, а то без записи умирать придется, товарищщи!..
Небритое его лицо золотилось, а голос как-будто осип. Так, когда солома летит с воза, такой шорох в голосе.
Защищая локтями грудь, Фиоза Семеновна шла через толпу. В новой одежде, по-новому остро входили в тело кислые мужские запахи. А может быть, это потому: казалось, схватят сейчас и стиснут груди.
С каждым шагом – резче по столу ладонь Запуса:
– Кто еще?
Увидал рядом со своей ладонью рукав шинели Фиозы Семеновны. Щелкнул пальцем – секретарю, вытянул руки, спросил торопливо:
– Еще?.. Имя как? Еще один! Товарищи!.. Тише!
– К порядку, курва! – крикнул кто-то басом. – А ишшо Учредительно, гришь, ни надо…
Фиоза Семеновна опять схватила в кармане хлебные крошки, хотела откинуть с пальцев непомерно длинный рукав шинели и заплакала.
Запус мотнул головой, колено его ударило в чернильницу, а рука щупала козырек фуражки Фиозы Семеновны. Высокий матрос – секретарь, охватив стол руками, хохотал, а мужики шли к выходу. Запус отшвырнул фуражку и сказал секретарю:
– Фуражку новую выдать и… сапоги.
Хлопнул ладонью о стол и сказал:
– В нестроевую часть назначу! Приказ есть – женщинам нельзя… а, если нам блины испечешь, а?
Еще раз оглядел Фиозу Семеновну:
– Нет, в платье лучше. Собирай, Семен, бумаги, штемпеля, – блины печь. Постриглась!
VI
Под утро матрос, секретарь, Топошин кулаком в дверь разбудил Запуса. Сморкаясь и протирая глаза, сказал:
– Вечно выспаться не дают. Арестованных там привезли.
– Сколько?
– Двое. Из города ехали, говорят жену ищат. У кордона, на елани поймали. Оружья нет. Одного-то знаю – подрядчик, а другой, грит, архитектор. Церкви какие-то строят, ничего не поймешь. Какие теперь церкви? Насчет казачьей лавы бы их давнуть, знают куда хочешь. Возможные казачьи шпионы и вообще чикнуть их…
– Подумают, из-за жены. Допросить. В сарай. Зря нельзя.
Запус вернулся в комнату. Заголив одеяло и тонко дыша усталым телом, спала Фиоза Семеновна. Щеки у ней загорели и затвердели; крутым обвалом выходили пахучие бедра.
– Весело! – навертывая портянки, сказал Запус.
И опять, как вчера, резко стуча по столу ребром ладони, одной рукой завертывая папироску, спрашивал:
– Подрядчик Качанов? Архитектор Шмуро?
Шмуро не хотел вытягиваться, но вытянулся и по-солдатски быстро ответил:
– Так точно.
И тыкаясь в зубы отвердевшим языком, Шмуро (стараясь не употреблять иностранных слов) рассказывал о восстании в городе.
– Мобилизовали, – сказал он тихо, – я не при чем. Мне и руку прострелили, а какой я вояка?
Сюртук под мышками Кирилл Михеича лопнул, торчала грязная вата. Разряжая бородку пальцами, он отодвинул Шмуро и, устало глядя в рот Запуса, спросил:
– Жена моя у тебя? Фиеза?
Запус поднял ладонь и через нее взглянул на свет. Плыла розовая (в пальцах) кровь и большой палец пахнул женщиной. Он улыбнулся:
– А вы, Качанов, в восстаньи участвовали?
Кирилл Михеич упрямо повел головой:
– Здесь жена-то или нету?..
Шмуро тоскливо вытянулся и быстро заговорил:
– Артемий Трубычев назначен комендантом города. Организован из представителей казачьего круга Комитет Действия; про вас ходят самые противоречивые и необыкновенные слухи; мы же решили уйти в мирную жизнь, дабы…
– Нету, значит? – глядя в пол, сказал Кирилл Михеич.
Запус закурил папироску, погладил колено и указал конвойным:
– Можно увести. Казаки будут близко – расстреляем. Посадить их в сарай, к речке.
Солдат-конвойный зацепил в дверях полу шинели о гвоздь. Стукая винтовкой, с руганью отцепил сукно. Запус наблюдал его, а когда конвойный ушел, потянулся и зевнул:
– Я на сеновал, Семен, спать пойду. У меня баба там лежит, разбуди. Зовут ее Савицкая, она у нас добровольцем. Скажи – пусть оденется, возьмет винтовку и караулит.
– Мужа?
– Обоих. А этот караул ты сними.
Матрос Топошин сплюнул, вытер узкие губы и широко, точно нарочно, расставляя ноги, пошел:
– Ладно.
Обернулся, дернул по плечу рукой, точно срывая погон:
– Это для чего?
– Песенку знаешь: «милосердия двери отверзи ми»?..
– А потом?
– Маленький я в церкви прислужничал, попу кадило подавал. Вино любил пить церковное и в алтаре курил в форточку. Запомнил. Песенку.
– Ишь…
Матрос Топошин вышел в ограду, махнул пальцем верховым и, стукая пальцем в луку седла, сказал тихо:
– Туда к речке, в тополя валяйте. Как трое из сараев пойдут, бей на смерть.
Корявый мужиченко поддернул стремя и пискнул:
– Которого?
– Видать которы бегут, амбиция. Своих, что ли?
– Своих мы против.
В сарайчике на бочке сидели Шмуро и Кирилл Михеич. Скрестив ноги и часто вздрагивая ляжками, Шмуро крестился мелкими, как пуговка, крестиками. Губы у него высохли, не хватало слюны и в ушах несмолкаемо звенело:
– Господи помилу… господи помилу… господ поми…
Иногда потная рука ложилась близко от подрядчика и он отодвигался на краешек.
– Барахло-то наше поделют? – спросил Кирилл Михеич. – Все ведь теперь обще. А я белья набрал и для Фиезы шелково платье.
Шмуро стал покачиваться всем туловищем. Бочка затрещала. Кирилл Михеич тронул его за плечо:
– Слышь, англичанка! Сломашь.
Шмуро вскочил и, вихляя коленками, отбежал в угол. Здесь рухнул на какие-то доски и заерзал:
– Госпоми… госпоми… госпо…
В сарайчике солоновато пахло рыбой. Голубоватые холодные тени, как пауки. В пиджаке было холодно. Кирилл Михеич нашел какую-то рваную кошму и накрылся.
У дверей женский сонный голос спросил:
– Не сходить?..
Другой, тверже:
– Полезут, лупи штыком в морду. Буржуи, одно! Буфера-то чисто колеса, у-ух… нарастила! Мамонька, ишо дерется!
Сбросил, потом опять надернул кошму Кирилл Михеич. Робея, ногой подтоптал под себя слизкую глину сарайчика, – подошел к двери. С ружьем, в солдатской фуражке и шинели, она, Фиоза. Отвердели степным загаром щеки и вспухли приподнятые кверху веки.
Наклонившись, щупая пальцем щель, сказал Кирилл Михеич:
– Фиеза! Жена!..
Законным, извечным испугом вздрогнула она. Так и надо. Оттого и быть радости.
– Твое здесь дело, Фиеза?
Неумело отвела ногу в желтом солдатском сапоге; повернула ружье, как поворачивала ухватом, и неожиданно жалобно сказала:
– Сиди, Кирилл Михеич… сиди… убью! Не вылазь лучше.
И еще жалобнее:
– Владычица, богородица!.. Сиди лучше.
Ему ли не знать закона и богородицыных вздохов? На это есть другой, мужичий седой оклик:
– Фиеза, изобью! Отворяй, курва. Я из-за тебя всю степь до бора проехал; убьют, может, из-за тебя… Васька-то твой, может, с'ест меня, измотает живьем, а ты чем занимаешься!? Поселок Лебяжий попалили, ни скота, ни людей…
– Не лезь, Кирилл Михеич, не лезь лучше…
И, хряпая досками, предсмертно молился Шмуро:
– Господи поми… господи по… господи поми…
Потом тише, так, как говорил когда-нибудь в кровати о пермской любви, о теплых перинах, широких, как степь, хлебах, о сухой ласке, сухими мужичьими словами:
– Опять ведь все так, Фиезушка, я тебе все прощу… никто ничего не знат, ездила в поселок и – только. Ничего не водилась, спальню окрасим… Артюшка уехал, никого, всем домом наше хождение… Комиссар-то, думашь, тобой дорожит, так, мясо, потреться и – будет. Он и караул-то этот снял, тебя поставил – бежите, дескать; куда мне вас… Фиезушка!
Припадочным, тягучим криком надорвалась:
– Бежите-е?.. Врешь! Врешь!..
Штыком замок – на землю. Замок на земле, как тряпка. Хряснул неловко затвор. Кирилл Михеич в угол, черная смоляная дудка дрожит на сажень от груди.
– Фиезушка-а…
Обводя тело штыком, кричала:
– Пиши… пиши сейчас… подписку пиши… развод пиши… развожусь… Ты, сволочь!
Мягко стукнул приклад в Шмуро. Архитектор вскочил, сел на бочку и, запыхаясь, спросил:
– Вам что угодно?
На него тоже дуло. Под дулом вынул Шмуро блок-нот и, наматывая рассыпающиеся буквы, написал химическим карандашом:
«Развод. Я, нижеподписавшийся, крестьянин Пермской губернии, Красноуфимского уезда, села Морева, той же волости, Кирилл Михеич Качанов»…
* * *
В это время Васька Запус брился перед обломком зеркала. Секретарь, матрос Топошин, вытянув длинные ноги, плевками сгонял мух со стены. Мухи были вялые, осенние, и секретарю было скучно.
– Параллелограм… – сказал Запус: – ромб… равенство треугольников… Все на войне вышибло. Чемоданы тяжелей ваших вятских коров, Семен?
– Тяжелей.
– Пожалуй, тяжелей. Все придется сначала учить. Параллелограм… ромб… И насчет смерти: убивать имеем право или нет? И насчет жизни…
– Насчет жизни – ерунда.
– Пожалуй, ерунда.
Топошин пальцем оттянул задымленный табаком ус. В ноздрю понесло табаком. Матрос жирно, точно из ведра, сплюнул:
– Табаку бы где-нибудь хорошего достать.