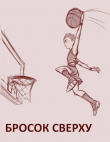Текст книги "Голубые пески"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
VII
На назьмах, подле белой уездной больницы, расстались.
Шмуро, Кирилл Михеич и протоиерей шли вместе.
В самом городе, как заворачивать из-за сельско-хозяйственной школы на Троицкую улицу – за углом в таратайке ждала их матушка Вера Николаевна. Лицо у ней как-то смялось, одна щека косо подрыгивала, а руки не могли удержать вожжей.
– Куда тебя? – спросил протоиерей: – таку рань…
И тут только заметили, что попадья в азяме, киргизском малахае и почему-то в валенках. Тряся вожжами по облучку, она взвизгнула, оглядываясь:
– Садись…
Протоиерей тоже оглянулся. У палисадника через загородку пегий теленок силился достать листья тополей. Розовую шею царапали плотные перекладинки и широкие глаза были недовольны.
– Ищут!.. – еще взвизгнула попадья, вдруг выдергивая из-под облучка киргизскую купу. – Надевай.
Протоиерей торопливо развернул купу. В пыль выпал малахай.
Шмуро дернул Кирилла Михеича за пиджак.
– Пошли… Наше здесь дело?.. Ну-у…
Протоиерей, продергивая в рукава руки, бормотал:
– Кто ищет-то? Бог с тобой…
– Залезай, – визжала попадья. – Хочешь, чтоб зарезали? Ждать будешь?
Она вытянула лошадь кнутом по морде. Лошадь, брыкая, меся пыль, понесла в проулок, а оттуда в степь.
Кирилл Михеич торопливо повернул к дому. Шмуро забежал вперед и, расставляя руки, сказал:
– Не пущу!..
– Ок'рстись, парень. К собственному дому не пустишь.
– Не пущу!..
Вся одежда Шмуро была отчего-то в пыли, на шлеме торчал навоз и солома. Бритые губы провалились, а глаза были как растрепанный веник.
– Не пущу… – задыхаясь и путаясь в слюне, бормотал он, еще шире раздвигая руки: – донесешь… Я, брат, вашего брата видал много… Провокацией заниматься?
Кирилл Михеич отодвинул его руку. Шмуро, взвизгнув, как попадья, схватил его за полу и, приближая бритые губы к носу Кирилла Михеича, брызнул со слюной:
– Задушу… на месте, вот… попробуй.
Здесь Кирилл Михеич поднес к его рту кулак и сказал наставительно:
– А это видел?
Шагнул. Шмуро выпустил полу и, охнув, побежал в проулок. Кирилл Михеич окликнул:
– Эй, обождь… (Он забыл его имя.) – Ладно, не пойду. Только у меня ведь жена беспокоится.
Шмуро долго тряс его руку, потом на кулаке оправил и вычистил шлем:
– Я, Кирилл Михеич, нервный. От переутомленья. Я могу человека убить. О жене не беспокойтесь. Мы ей записку и с киргизом. Они – вне подозрений.
– Кто?
– Да все… – Он косо улыбнулся на шлем. – Продавил. Где это?.. Ко мне тоже нельзя. Может меня ждут арестовать. Пойдемте, Кирилл Михеич, на площадь, к собору. Народ-то как будто туда идет…
Из переулков, из плетеных и облепленных глиной мазанок, босиком в ситцевых пестрых рубахах сбегались на улицу мещане. Останавливались на средине и долго смотрели, как бабы, подобрав юбки и насунув на брови платок, бежали к площади.
Мещане вскинули колья на плечи и плотной толпой, в клубах желтой и пахучей пыли, пошли на площадь.
– Зачем это? – спросил Шмуро.
Желтобородый и корявый мещанин остановился, лениво посмотрел на него и безучастно сказал:
– Спички нет ли?.. Закурить. А бигут-то большавиков бить, в церква, бают, пулемет нашли. Отымать приехали. И попа повесили… на воротах.
– Не бреши, – сказал Кирилл Михеич. Шмуро цикнул в шлем. Мещанин побежал догонять, одна штанина у него была короче, – и казалось, что он хром…
Шмуро значительно повел согнутой кистью руки:
– Видите?..
– Не повесили ведь? Сами видали.
– Ничего не значит. Повесят. Если б это культурная страна, а то Ро-осси-ия!..
В садике перед площадью какая-то старуха, рваная и с сумой через плечо, согнув колени, молилась кресту собора. С рук на траву текли сопли и слезы, а краюхи, выпавшие из сумы, бесстрашно клевали толстые лохмоногие голуби. Шмуро подскочил к ее лицу. Торопливо сказал:
– Не ори…
Старуха запричитала:
– В алтаре… усех батюшек перерезали, жиды проклятые! Христа им мало, Владычица!..
А за садиком, перед церковью, как в крестный ход, билась сапогами, переливая ситцами толпа. На площадке у закрытых огромным замком дверей церкви молились старуха и бабы. Одна билась подле замка. Взывал кто-то пронзительно:
– Не допустим, православные!.. Злодеев, иродов…
Подходили с кольями мужики: коротконогие, потные и яркие – в новых праздничных рубахах. Безучастно смотрели на ревущих баб – точно тех избивал кто… Ровной и ленивой полосой выстраивались вокруг церкви. Подымали колья на плечи как ружья… Молодежи не было – все бородатые впроседь. Мальчишки сбирали гальки в кучки.
Над крестами кружились и звонко падали в глухое, бледное и жаркое небо – голуби.
Шмуро ловил Кирилла Михеича в толпе, тянул его за рукав и звал:
– Идемте к Иртышу, в купальни хотя бы… Стрельба здесь начнется, вам ради чего рисковать? Идемте.
Кирилл Михеич все втискивался в толпу, раздвигал потные локти, пахнущие маслом бороды. Плотным мясом толкали в бока бабы; старухи царапали костями. Какой-то скользкий и тающий, отдающий похотью и тоской, комок давился и рождался – то в груди, то в голове…
– Отстань, – говорил он.
Никто его как-будто не узнавал, но никто и не удивлялся. И толпу пройти нельзя было, – только выходил на край, как поворачивался и опять он входил туда же.
– Идемте!..
– Отстань.
Потом Шмуро больше не звал его. Но, раздвигая тела, вдыхая воздух, пахнущий табаком и сырым, недопеченым хлебом, Кирилл Михеич повторял:
– Отстань… отвяжись…
Вдруг Кирилла Михеича метнуло в сторону, понесло глубоко глубоко бороздя сапогом песок и он вместе с другими хрипло закричал:
– Ладно… Правильно-о!..
А тот, кому кричал Кирилл Михеич, перегнувшись из таратайки и прижимая к груди киргизский малахай, как наперсный крест, резко взывал:
– Не допускайте, православные!.. Не допускайте в церковь… Господи!..
И он оборачивался к улыбающемуся красногвардейцу Горчишникову. А Горчишников держал револьвер у виска о. Степана и кричал в толпу:
– Пропусти! Застрелю.
На козлах сидела и правила матушка.
Толпа стонала, выла. Спина в спину Горчишникову стоял еще красногвардеец, бледный и без шапки. Револьвер у него в руке прыгал, а рукой он держался за облучек.
– Пу-ускай!.. – кричал в толпу Горчишников. – Пускай, а то убью попа.
Толпа, липко дыша, в слезах, чернобородая, пыльная, расступилась, завопила, грозя:
– По-одожди!
Тележка понеслась.
А дальше Кирилл Михеич тоже со всеми, запинаясь и падая, без шляпы бежал за тележкой к пристаням. Протоиерея по сходням провели на пароход, а матушку не пустили.
Лошадь подождала и, легонько мотая головой, пошла обратно. Толпились у сходен, у винтовок красногвардейцев – орали каменщикам, малярам, кровельщикам:
– Пу-усти…
А у тех теперь не лопатки – штыки. Лица поострели, подтянулись.
Махал сюртуком Кирилл Михеич, падая в пыль на колени:
– Ребята, отца Степана-то… Пу-усти…
– Здесь тебе не леса! Жди…
Работник Бикмулла сдвинул на ухо тибитейку, босиком травил канат.
Пароход отошел от пристани, гукнул тревожно, и вдруг на палубу выкатили пулеметы.
Толпа зашипела, треснула и полилась обратно с берега в улицы.
И только в переулке заметил Кирилл Михеич – потеряна шляпа; штанину разорвал, подтяжки лопнули, и один белый носок спустился на штиблет.
VIII
Тонкая, как паутина, липкая шерсть взлетала над струнами шерстобойки.
Кисло несло из угла, где бил Поликарпыч шерсть. И борода у него была, как паутина – голубая и серая.
Кирилл Михеич лежал на кровати и говорил:
– Ты в дом-то почаще наведывайся. Бабы.
– Аль уедешь?
– В бор-то. Лешава я там не видал. Раньше не мог, теперь поздно.
– Поздно? Пымают.
– Поймали же попа.
– Попа и я могу пымать. На то он и поп. Куды он убежит, дальше алтаря? Нет, ты вот меня поймай. А то – нарядил купу киргизку, а волосы из-под малахая длинней лошадинова хвоста… Убьют, ты как думаешь?
– Я почем знаю, – с раздражением ответил Кирилл Михеич.
Поликарпыч свалил шерсть в мешок и, намыливая руки, сказал:
– Надо полагать, кончут. Царство небесно, все там будем.
– Чирей тебе на язык.
Поликарпыч хмыкнул:
– Ладно. Жалко. А того не ценишь, что в Павлодаре мощи будут. Ни одного мученика по всей киргизской степе. Каки таки и места… И тебя в житьи упомянут.
Он хлопнул себя по ляжкам и засмеялся. Кирилл Михеич отвернулся к стене…
Поликарпыч спросил что-то, надел пиджак и ткнулся к маленькому в пыльной стене зеркалу.
– Пойду к бабам. Што правда, то правда – от таких баб куда побежишь. Сладше раю…
– Иди, ботало! Вот на старости лет…
Вспомнил Кирилл Михеич – давно книжку читал – «Красный корсар». Пленных там вешали на мачте. Подумал про о. Степана: «а мачта мала!». И никак не мог вложить в память ясно: выдержит мачта или нет. Красят их синей краской, мачты существуют для флага. Флаг, конечно, легче человека…
И еще вспомнил – пимокатню пермских земель. Там должно быть читал «Красного корсара». С тех времен книги видел и читал только конторские: с алыми и синими графками. Сверху жирно – «дебет, кредит». Все остальное – цифры, как поленья в бору – много…
Пристроечка в стену флигелька упирается. Так что с кровати слышно могучим шагом, гремя половицами, идет Фиоза Семеновна. А легче, то, должно быть, Олимпиада, или, может, отец.
Ржет лошадь: протяжно и тонко. Должно быть, не поили. Вечер по двору – синяя лисица. Медов и сладостен ветер – чай в такую погоду пить, а здесь по мастерским прячься. И от кого?.. В своем доме.
Лошадь жалко – не человек, кому пожалуется. Натянул сюртук Кирилл Михеич, приоткрыл лопнувшую зеленую дверь.
По двору – топот. К пригону. Насвистывая, ввел кто-то лошадь. Звякнуло железом. Сапоги заскрипели. Потом стременами, должно, тронули.
В щель пахнуло лошадиным потом, – и голос Запуса:
– Старик, спишь?
Вскочил Кирилл Михеич в кровати. Натянул кое-как одеяло. Дверь подалась, грохнулась на скамью тяжесть – седло.
– Спишь?
Свистнул. Зажег папироску. Сплюнул.
– Спи. Огонь напрасно не гасишь, пожар будет. Я погашу.
Дунул на лампу и ушел.
Еще за стеной шаги – расписанные серебряным звоном. Смех будто; самовар несут – Сергевна ногами часто перебирает.
И такой же нетленный вечер как всегда. И крыши – спящие голуби.
Телеги под навесом, пахнущие дегтем и бором. Земля, сонная и теплая, закрывает глаза.
А душа не закрывает век, ноет и мечется, как зверь на плывущей льдине.
Мелко, угребисто, перебирая руками, точно плывет – Поликарпыч.
– Хозяин прикатил. Видал?
– Видел.
– Хохочет. Тебя, грит, у парохода приметил… На коленях молился.
– Брешет, курва.
– Ты ему говори. Я, грит, ему кланяюсь, – ен и не видит. Освободители-и!.. Куды, грит, сейчас изволил отбыть?.. Фиоза-то…
– Ну?..
– Вместе с Олимпиадой, ржет… Я ее в бок толкаю, а она брюхом-то как вальком – так и лупит, так и лупит. Ловко, панихида, смеется. Поди так штаны лопнули.
Кирилл Михеич потер ладони – до сухой боли. Кольнуло в боку. Вздохнул глубже, присел на скамейку, рядом с седлом. От конского запаха будто стало легче.
– Тебе б пожалуй, парень – пойти в добровольную. Мало ли с кем не бывает, а тут за веру.
– Иди ты с ними вместе…
– Материться я тоже могу. Однако, грит, введены в город военные положенья, чтоб до девяти часов, а больше не сметь. Вроде как моблизация… призыв рекрутов. Ладно!.. Я ему говорю – отец-то Степан жив? Куды, грит, он денется. Очень прекрасно… Выпил я чай и отправился. Ступай и ты. Баба мне Фиеза-то: «пусть, грит, идет»… Пошел, что ли?..
– Не лезь! – крикнул Кирилл Михеич.
Поликарпыч посмотрел на захлопнувшуюся дверь. Поправил филенку и сказал:
– Капуста…
Стоял Кирилл Михеич, через палисадник глядел в окно:
Опять, как утром – самовар бежит, торопится – зверь медный. Плотно прильнув к стулу, – Фиоза Семеновна подлым вороватым глазом – по Запусу. И жарче самовара – в китайском шелке дышут груди. Рот как брусника на куличе…
Смеются.
У Олимпиады глазы – клыки. Фиоза смеется, – в ноги, – скатерть колышет, от смеха такого жилы как парное молоко вянут…
Вянет у Запуса острый и бойкий рот. Усики, как в наводнение, тонут в ином чем-то…
Харкнул Кирилл Михеич, отошел. Хотел-было уже в комнаты, но вспомнил генеральшу, хромых офицеров и Варвару. Пригладил волос, а чтоб короче, через забор.
На стук – громыхнуло ведро, треснула какая-то корчага и напуганный густой голос воззвал:
– Кто-о!..
Отодвинулся немного Кирилл Михеич – чтобы дверь отворять, не обеспокоить. Сказал неуверенно:
– Я, Кирилл Михеич.
– Кто-о?..
– Кирилл Михеич!.. Сосед!
Громыхнуло опять что-то. Звякнуло. Из синей и жесткой тьмы крикнули сразу несколько:
– Не знаем… кто там еще на ночь? Здесь раненые…
– Ранены-ые… – давнул в двери бас.
Собака тявкнула, будто скрипнуло колодцем… – Известкой понесло от постройки.
Дошел Кирилл Михеич до ворот, а там, прислонившись к столбу, – киргиз. Конь рядом. Чембырь прикреплен к поясу.
Киргиз обернулся и поздоровался:
– Аман-бы-сын?..
И немного пришепетывая, словно в размякших зубах, сказал по-русски:
– В пимокатной никого нет? Я видал – комиссар проехал.
Кирилл Михеич подошел и, дергая киргиза за пояс, проговорил вполголоса:
– Артюшка!.. Эта ищо что за дикорация?
– Не ори, – сказал Артюшка, быстро отцепляя чембырь: – коня надо на выстойку привязать. Нет, значит? Я пойду.
Он, подкидывая песок внутрь, косыми ногами, пошел. Кирилл Михеич обомленно тянул его за пояс к себе. Ремень был потный и склизкий как червь.
Вспомнил Шмуро в переулке и, стараясь, спокойно сказал:
– Обожди.
Артюшка выдернул ремень и, трепля потную челку лошади, одной к другой ноге сгребал песок.
– Я устал, Михеич. После скажешь.
– Урежут.
– Кто?
Кирилл Михеич подскочил к морде лошади. Так он глядел и говорил через морду. Лошадь толкала в плечо влажными и мягкими ноздрями.
– Седни восстанье было. Церковь отбивали, а потом, говорят, казаки идут. И будто ведешь их ты. Со всех станиц. Протоиерея арестовали.
– Знаю.
– Нельзя тебе, парень, показываться.
– Тоже знаю. У тебя овес есть? Я к старику пойду, бабе скажи – щей пусть принесет. Я есть хочу. А там, как хочешь.
Кирилл Михеич хлопнул себя по ляжкам и, быстро вращая кистью руки, закричал.
Лошадь дмыхнула ноздрей. Артюшка разнуздал ее и сунул под потник руку – «горячее ли мясо, можно ли снять седло»?
– Да что вы – утопить меня хотите? Сговорились вы, лешак вас истоми! Поп туды тянет, архитектор – туды… разорваться мне на тысячу кусков? Жизнь мне надоела, – идите вы все к чемеру!.. Только подряды попали, время самое лес плавить, Господи…
Крик его походил на жалобу.
Из палисадника, ленивый и желтый, как спелая дыня, выпал голос Фиозы Семеновны:
– Чего там ещо, Михеич?
– Видишь, – орешь, сказал Артюшка, идя под навес. – Скажи – сбрую привезли…
Жена переспросила. Кирилл Михеич крикнул озлобленно и громко:
– Сбрую привезли, язва бы вас драла!..
И еще ленивее, как вода через край, – выплеснула Фиоза Семеновна в комнате.
– Что волнуется, не поймешь. Чисто челдон.
Лица у Артюшки под пушистым малахаем не видно, – блеснули на луну зубы. За плечи спрятались пригоны, пахнущие распаренно-гниющим тесом и свежим сеном. Пимокатная.
Поликарпыч удивлялся, когда не надо. Должно быть, для чужих… Развешивая по скамье вонючие портянки, отодвинул и поздоровался спокойно:
– Приехал? Садись. Баба и то, поди, тоскует. Видал?
– Ись хочу, – сказал Артюшка.
– Добудим. Схожу в кухню.
Артюшка вдруг сказал устало:
– Не надо. Дай хлеба. Постели на земле…
Старик, видимо, довольный отрезал ломоть хлеба. Кирилл Михеич, положив жилистые руки на колени, упорно и хмуро глядел в землю. Артюшка ел хлеб, словно кусая баранину – передними зубами, быстро и почти не жевал.
Съев хлеб, Артюшка вытянулся по скамье, положив под голову малахай. Тибитейка спала на землю. Старик поднял ее одним пальцем и сказал недовольно:
– Зачем таку… Как пластырь. Образ христианский у тебя. Хфеска все-таки на картуз походит.
– Кого еще арестовали? – быстро спросил Артюшка.
Так же, словно зажимая слова меж колен, в землю отвечал Кирилл Михеич:
– Одного протоиерея, говорят. Больше не слышно.
– Разговаривали сегодня?
– С кем?
– С кем. Со всеми.
– Ты откуда знаешь?
Артюшка сердито, как плетью, махнул тибитейкой:
– Когда вы по-настоящему отвечать научитесь? Всей Росее надо семьдесят лет под-ряд в солдатах служить… Тянет, тянет как солодковый корень. Говорили, значит.
– Говорили.
– И ничего?
Кирилл Михеич почему-то вспомнил голубей над церковной крышей – будто большие сизые пшеничные зерна… Громко, словно топая ногой, сплюнул.
– Я так и знал. Я никогда на рогожу не надеюсь. Надо шпагат. Казаков не разооружили?
– А будут?
– Я должен знать? Вы что тут, – яйца парите? У баб титьки нюхаете?..
Старик рассмеялся:
– Ловко он!..
Шевеля длинными и грязно пахнущими пальцами ног, он добавил хвастливо:
– Кабы мое хозяйство, я б навинтил холку.
На дворе по щебню покатилось с металлическим синим звоном. Артюшка подобрал ноги и надвинул тибитейку на лоб.
– Идет кто-то… С вами и камень материться начнет. Огурцы соленые, а не люди.
За дверью по кошме кто-то царапнул. Поликарпыч с кровати шестом пхнул в дверь.
Вошел щурившийся Запус. Подтягивая к груди и без того высоко затянутый ремень, сказал по-молодому звонко и словно нацепляя слова.
– На огонь забежал, думаю, скучно старику. Почитать попробовал, а в голове будто трава растет… Вас – полная компания. Не помешал?
– Гостите, – сказал Кирилл Михеич.
Запус поглядел на него и, убирая смех, – надвигая неслушавшиеся брови на глаза, проговорил торопливо и весело:
– Здравствуйте, хозяин. Я вас не узнал – вы… будто… побрились?
Старик хлопнул себя по животу.
– Ишь… я то же говорю, а он не верит…
Запус, указывая подбородком на Артюшку, спросил:
– Это новый работник? Ваш-то к нам на пароход поступил.
– Новый, – ответил неохотно Кирилл Михеич.
Артюшка пригладил реденькие, по каемочке губ прилипшие усики и сказал:
– Пале!
– Он по-русски понимает?
– Мало-мало, – ответил Артюшка.
– Из аула давно?
– Пчера.
– Степной аул? Богатый? Джатачников много? А сам джатачник?
– Джатачник, – раздвигая брови, ответил Артюшка.
– Чудесно.
Запус, перебирая пальцы рук, часто и бойко мигая, огляделся, потом почему-то сел по-киргизски, поджав ноги на постланную постель Артюшки.
– Я с тобой еще говорить буду много, – сказал он. – А ты, старик, не сказки рассказывал?
– Нет. Не учил, парень.
Запус вытащил портсигар.
– Люблю сказки. У нас на пароходе кочегар Миронов – здорово рассказывает. Этому, старик, не научишься. А карт нету?.. Может в дурака сыграем, а?
– Карты, парень, есть. Не слупить ли нам в шестьдесят шесть?
Запус вскочил, переставил со стола чайники и чашки. Ковригу хлеба сунул на седло, сдул крошки, чайные выварки и выдвинул стол на средину.
– Пошли.
– Садитесь, – сказал он Кириллу Михеичу. Тот вздохнул и подвинул к столу табурет. Артюшка захохотал. Запус взглянул на него весело и быстро объяснил Кириллу Михеичу:
– Доволен. Инородцы очень любят картежную игру, – также пить водку. Я читал. Жалко водки нет, угостить бы…
Кириллу Михеичу не везло. В паре против них были Поликарпыч и Запус. Поликарпыч любил подглядывать, а Запус торопился и карты у него в руках порхали. А Кириллу Михеичу были они тяжелее кирпича и липки как известка. Злость бороздила руки Кирилла Михеича, а тело свисало с табурета мягкое и не свое, как перекисшая квашня…
«Шубу» за «шубой» надевали на них. Поликарпыч трепал серую бороденку пальцами, как щенок огрызок войлока, и словно подтявкивал:
– Крой их, буржуев!.. Открывай очки… крой!..
У Запуса желтой шелковинкой вшивались в быстрые поалевшие губы – усики. Как колоколец звенели в зубы слова:
– Валяй их, дедушка! Не поддавайсь…
А завтра день, может быть, еще хлопотней сегодняшнего. Запус донесет или возьмет сейчас встанет и, сказав: – «что за подозрительные люди», арестует. Ноздря ловила горький запах конского пота с седел; коптящая лампа похожа на большую папироску.
Влив жидкими зеленоватыми клубами, в конский и табачный дух, вечерние и сенные запахи, – появилась Олимпиада. А позади ее, сразу согрела косяки и боковины дверей – Фиоза Семеновна.
У стола Олимпиада вскрикнула:
– Ой!
Запус оттолкнул табурет и, держа в пальцах карты, сказал:
– Накололись?..
Поликарпыч закрыл ладонью его карты торопливо.
– Не кажи… Тут хлюсты, живо смухлюют.
Держа по ребрам круглые и смуглые руки, Олимпиада отвела глаза от тибитейки Артюшки.
– Нет, накурено. К вам, Василий Антоныч, пришли.
– Много?
– Трое.
Запус потянулся, вздохнул через усики и передал карты Олимпиаде:
– Доиграйте за меня. Я долго. Как пришли ко мне, так спать захотел… Опять заседание, нарочно с парохода сбежал. Думал – отдохну.
Покачав за пальцы руку, наклонил голову перед Фиозой Семеновной идол в синем шелке, золото в коралловых ушах, зрачок длинный и зеленый, как осока:
– Спокойной ночи.
* * *
А ночью этой же толчками метнулась под брови, в лоб и по мозгам винтящая и теплая кровь, – вскочил Кирилл Михеич на колени. Махнул пальцами, захватил под ногти мягкий рот Фиозы Семеновны и правым кулаком ударил ее в шею. Хыкнула она, передернула мясами, – тогда под ребра… И долго – зажимая, мокрой от слюны, рукой бабий вячный крик – бил кулаком, локтем и босыми твердыми мужицкими ступнями муж свою жену.