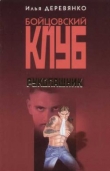Текст книги "Журбины"
Автор книги: Всеволод Кочетов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Сосны, со всех сторон обступившие Желтую яму, никогда не слыхивали таких победных кликов, какие гремели под ними в эти минуты решительного перелома битвы на озере. Обычно под береговыми соснами люди ходили на цыпочках и говорили шепотом. А тут даже дед Матвей, в ту пору еще хаживавший на рыбалку с Ильей Матвеевичем, – даже он кричал вслед карпам: «Наша берет! Что, выкусили?!» Последние слова относились уже не к карпам, а к «приморским обувщикам», которые огромнейшей своей сетью вытащили два-три десятка каких-то заблудших озерных недорослей и, посрамленные, вскоре уехали в город.
К Желтой яме по субботам сходились одни и те же удильщики. Они давным-давно друг друга знали – и по заводу, и по рыбалке. Они оставались тут на всю ночь, жгли в отдалении от берега костры, ужинали, завтракали. Было на озере нечто вроде клуба под открытым небом или однодневного дома отдыха, у которого ни стен, ни крыши, зато почти каждый отдыхающий – он же и затейник.
До Желтой ямы было километров шесть. Жуков и Горбунов шли медленно, пришли позднее основной массы «карпинистов», которые, закинув удочки, уже сидели у воды – такие тихие-тихие и недвижные, будто это были не люди, а камни, раскиданные вокруг озера. Только в отдалении, под соснами, где курился костерок – для разгона комаров, собралась небольшая группа человек в десять-двенадцать, – тоже, видимо, опоздавшие. Они яростно о чем-то спорили. Жуков с Горбуновым подошли. Внимания на них никто не обратил.
– Ничего смешного нету! – сердито говорил сухой, длинный старик.
– Александр Александрович Басманов, мастер, – шепнул Жукову Горбунов. Жуков кивнул головой. Он уже знал и Александра Александровича, и его начальника, Илью Матвеевича.
– Да, ничего смешного! – повторил Александр Александрович.
– А ты бы, дядя Саня, согласился вместо санатория сено, например, косить или картошку окучивать? – со смехом спросил средних лет человек в распахнутом кителе, под которым виднелась татуировка, покрывавшая грудь.
Горбунов догадался, о чем шла речь.
– Был у нас случай, – зашептал он почти в самое ухо Жукову. – Один инженер поехал на курорт, да не доехал, слез по дороге в рыбачьем колхозе и там провел весь отпуск.
– Болтовню болтаешь! – еще злее ответил Александр Александрович. – Такие поступки по расписанию не делаются. Они происходят от душевного расположения.
– «Душа», «душевное расположение»… Да ты, дядя Саня, идеалист, оказывается, – продолжал обладатель татуировки. – Главное все-таки не душа, а разум. Душа, как говорится, – мистика.
– И полушки не дам за голый разум! От голого разума одно зло идет… если душа его не подправляет. Ты мне ответь: разве мог бы душевный человек чумных блох выдумать? Нет у него, сук-киного сына, никакой души, только разум… и не нужен мне такой разум, будь он неладен!..
– Хватит, хватит, – вмешался Илья Матвеевич. – Доспоритесь, время прозеваем. – Он заметил Жукова, поздоровался с ним, предложил идти вместе искать местечко.
Пошли на другую сторону озера. Илья Матвеевич вел расходившегося старика под руку, тот руку у него вырывал.
Закинув удочку, Жуков вспоминал детство, ставок под Бахмутом, со стороны внимательно следил за начальником и мастером стапельного участка. Оба не спеша размотали удочки, не спеша их закинули. Меж сосен сгущался предзакатный лиловый сумрак, и в темной раме леса завечеревшее озеро казалось сказочным окном в какой-то светлый, ясный и голубой мир, – в воде отражалось небо, почти не тронутое вечерними тенями. В отраженной этой голубизне стояли веерами пестрые поплавки.
Жуков услышал, как Илья Матвеевич вполголоса сказал:
– А ты не прав, Саня. Разум все-таки лучше глупости, даже самой доброй-раздоброй. От разума – движение, от глупости…
– Ни лешего ты, Илья, не понял. Разве я за глупость стою? Тьфу тебя!.. До чего ты наловчился каждое слово наизнанку вывертывать!
– Зря кипятишься, Саня, – ответил Илья Матвеевич. – Не такой уж я бестолковый, кое-что понял. Надо уметь главное отделять от второстепенного. Разум – всегда есть разум. Не бывает он ни злой, ни добрый. Те же блохи возьми… Ученые, которые открыли бацилл да микробов, – разве от злобы или от доброты они их открывали? Оттого, что разум того достиг! А чтобы расплодить микробов да нашпиговать ими блох – никакого разума и не требуется. Опять тебе говорю – различай: разум-то разум, а кому, главное, он служит? Все, что он вырабатывает, и на зло повернуть можно, и на добро, – смотря в чьи руки выработанное разумом попадет.
Жуков услышал раздраженный плевок в воду. Александр Александрович злился.
Солнце ушло, лиловый сумрак с берегов расползся по всему озеру, вода из голубой стала темно-синей, и в ней, рядом с поплавками, так же настороженно, как поплавки, замерли первые звезды. Они дрогнули, закачались от плевка.
Жуков постепенно терял нить беседы двух друзей. Его увлекла настороженная слежка за поплавками, он позабывал о своих годах, ему казалось, что вновь он на берегу ставка, там, в родном Донбассе: вот встанет, побежит домой, неся матери десяток крохотных карасиков.
– Илюша! – с удивлением услышал он тревожный голос. – Где же четвертая удочка? Я четыре ставил.
– А вон она, вон… Левее… Видишь, плывет? – Илья Матвеевич указывал рукой на озеро, туда, где метрах в пятнадцати от берега, почти торчком, как перископ, сам собой двигался толстый конец бамбукового удилища. Но спокойствие Ильи Матвеевича длилось не более секунды. В следующую секунду и он и Александр Александрович закричали:
– Селиванов!.. Селиванов!..
Уже не первый год было известно, в каких случаях «карпинисты» зовут монтера воздуходувки Селиванова. Поэтому, прежде чем появился сам Селиванов с вытатуированными якорями и спасательными кругами на груди, к месту происшествия сбежалось десятка полтора удильщиков:
– Видать, здоров! Прет, как подлодка…
– Сплоховал, дядя Саня. Эх ты!
– Селиваське подвезло…
Селиванов пришел, таща на спине резиновую лодку. Стукнув носком ботинка по упругой резине, он проверил, хорошо ли лодка надута, спустил ее на воду и на одном, коротком, будто поварешка, весле поплыл туда, где мелькало, то подскакивая, то погружаясь, удилище Александра Александровича.
Было уже темно, на берегу больше догадывались, чем видели, что среди озера делает Селиванов, но почти каждый считал нужным подать ему какой-либо совет. Кричали, и эхо из конца в конец носило крики над водой: «Ай-ай – ай-ай… ить-ить – ить-ить».
Вернулся Селиванов минут через сорок и выбросил из лодки на берег толстую, как полено, и тяжелую, измученную рыбину. Было в ней сантиметров восемьдесят длины и килограммов десять весу. Таких карпов Александр Александрович никогда еще не лавливал. Он опустился рядом с рыбиной на корточки и не мог наглядеться; дергал за плавники, подымал ногтем жаберные крышки; вздрагивал, готовый упасть на нее, когда рыбина делала движение ленивым хвостом, – боялся, не ушла бы в воду.
Волновались, переживали событие и все остальные, кто только был на берегу. Один Селиванов оставался спокойным, будто событие его-то и не касалось. Что ему волноваться, когда многолетний неписаный закон Желтой ямы гласил: «Спасенная снасть – владельцу; добыча, снятая со снасти, – тому, кто достал снасть». Каждую субботу Селиванов уходит на озеро без всяких удочек, только с лодкой, и каждое воскресенье он возвращается домой с рыбой. Под утро, когда утомленные рыболовы клюют носами в коленки, карпы утаскивают у них не одну удочку. Что же Селиванову волноваться: ловил не он, а получит все равно он, – закон никогда еще не нарушался.
Но в этот раз поднялась целая буря.
– Такую рыбину брать не имеешь права! – Кузнец Рыжов встал перед Селивановым и развернул богатырскую грудь.
– Не то мы тебя самого туда отправим! – кричал расходившийся, обычно очень тихий, вахтер дядя Коля Горохов.
– Отдать это Селиваське?.. Не вздумай, Александр Александрович! – грозил чемпион по карпам слесарь Бабашкин. – Плохо тебе будет, честно говорю…
Александр Александрович молча сматывал удочки. Никогда в жизни не совершил он поступка, подсказанного ему только «голым разумом», ненавистным разумом без души. И разве мог он взять своего редкостного карпа у Селиванова, хотя разум требовал сделать именно так?
Жуков наскоро посовещался с Горбуновым.
– Товарищи! – сказал он, удерживая за рукав Александра Александровича. – Совершенно безобразный вы установили тут порядок. И напрасно мастер Басманов думает, что этот порядок справедлив, и так безропотно отдает свою добычу человеку, который на нее никакого права не имеет. Помочь товарищу в беде и требовать платы… Куда же это годится! Не по-коммунистически получается, а по-капиталистически. Предлагаю такое безобразие отменить. Со следующей субботы тут будет резиновая лодка общего пользования. Завком обещает приобрести. Так, товарищ Горбунов?
– Будет, ребята, лодка, – подтвердил Горбунов. – Что же вы раньше не требовали? Развели тут частнокапиталистический сектор!
Жуков удочек уже не закидывал. Он сидел у костра, к нему подходили на перекурку, разговоры не прекращались почти до самого утра.
Что касается Александра Александровича, то старика с великим трудом уговорили забрать своего карпа, и то лишь благодаря тому, что все удильщики проголосовали за отмену установленной Селивановым монополии.
5
Катя вышла из Дома печати – так назывался двухэтажный книжный магазин в центре города. В букинистическом отделе она купила книгу о декабристах, автором которой был известный советский историк. В прошлом году историк приезжал на Ладу и читал публичную лекцию в зале филармонии. Сидя в третьем ряду, Катя ловила каждое слово лектора, она убеждала себя в том, что по окончании подойдет к нему, поговорит с ним, попросит у него совета, над чем и как ей работать, чтобы не разбрасываться по всем эпохам и странам. Но по мере приближения лекции к концу убеждение ее стало вдруг ослабевать, и Катя с грустью призналась себе, что струсила, что разговаривать она не будет, что у нее для этого не хватит мужества. Она ограничилась запиской, в которой просила историка назвать все книги, какие он написал.
Перед лектором на столике лежала груда записок. Катя боялась, что ее записка затеряется среди них, что лектор ей не ответит. Но он ответил, и Катя торопливо записала в блокноте десятка полтора названий. В течение года она терпеливо и упорно собирала эти книги в магазинах. Не хватало вот только работы о декабристах. Как хорошо, что она догадалась оставить в Доме печати заявку. Вчера букинистический отдел прислал ей открытку: книга есть.
Катя зашла в городской парк и села на укромную скамеечку, скрытую кустами жасмина.
Вечерело, под деревьями сгущались тени, читать было трудно. Катя напрягала зрение, но оторваться от книги не могла. Она так увлеклась, что даже не заметила, как кто-то сел на соседнюю скамейку, и только знакомый голос заставил ее поднять голову. Возле нее сидели Лидия Ивановна Журбина и заведующий заводским клубом Вениамин Семенович.
Заложив ногу за ногу, Вениамин Семенович покачивал кончиком ботинка, на лице у него было выражение строгое и вместе с тем мечтательное. Он говорил:
– В наше время на мелочи размениваться нельзя. И я вас прекрасно понимаю, Лидия Ивановна, я полностью разделяю ваше стремление к жизни широкой, содержательной. Узкий специалист подобен флюсу, – сказано когда-то Козьмой Прутковым. Вы живете в окружении хотя и очень уважаемых, но чрезвычайно узких специалистов. И отсюда ваша неудовлетворенность жизнью. Что ж, флюс должен прорваться в таком случае.
Лида обмахнула лицо кончиком косы, ответила серьезно и озабоченно:
– Знать бы, как это делается.
Она машинально взглянула в сторону Кати, узнала ее и тотчас умолкла. Катя поздоровалась.
– Катюша! – сказала Лида. – Ты что здесь? – Она была смущена и поспешно искала выхода из неловкого положения. Катя, как поговаривают, невеста Алексея, все ему расскажет, в семье узнают, и может получиться очень скверно. – Иди-ка сюда, иди к нам! – позвала Лида. – Вы не знакомы? Это Катя Травникова, а это Вениамин Семенович.
Вениамин Семенович поднялся навстречу Кате, крепко пожал руку:
– Кажется, не встречались.
– А я вас знаю, – ответила Катя, присаживаясь на скамейку. – В клубе видела.
Вениамин Семенович улыбнулся и непринужденно, точно они с Катей старые друзья, взял книгу у нее из рук.
– Знакомый автор, знакомый. Общались с ним. Бывало, вот так же, как мы сейчас с вами, с ним сиживали. У меня его дарственная надпись есть.
– Да что вы! – воскликнула Катя.
– Как раз именно эту книгу он мне и подарил.
Катя с восхищением и завистью смотрела на Вениамина Семеновича, будто перед ней сидел сам знаменитый историк. Лида тем временем раздумывала, как же все-таки объяснить Кате то, что она оказалась с заведующим клубом в городском саду. Решила ни в какие объяснения не пускаться, сделать вид, что встреча случайна и ничего особенного в ней нет.
– Катя – будущий историк, – сказала она. – И, кажется, моя будущая родственница.
Катя смутилась. Зачем это говорить, никому не интересно, и кто это выдумал? Стыд какой! Катя поспешно заговорила о Рылееве, Бестужеве, о России начала девятнадцатого века. Вениамин Семенович внимательно слушал, разглядывал Катино лицо, глаза, руки. Потом заговорил сам, и говорил так интересно, что Катя вполне убедилась в его дружбе с автором книги о декабристах. Вениамин Семенович знал эту книгу, по-видимому, не хуже, чем сам автор. Он говорил и говорил, и Катины познания в истории по сравнению с его познаниями показались ей ничтожными.
Тени под деревьями стали еще гуще. Лида сказала, что пора домой, и, когда все поднялись, успела шепнуть Кате:
– Совсем сегодня загулялась. Бегала по магазинам да вот еще Вениамина Семеновича встретила. Сказал: провожу вас. Правда, интересный человек?
– Очень, – также шепотом ответила Катя.
Сойдя с троллейбуса возле завода, она хотела попрощаться и бежать домой, но получилось как-то странно. Вениамин Семенович попрощался с Лидой и пошел вдруг с ней, с Катей. Он задумчиво молчал, шагая рядом. Молчать было очень трудно, и Катя не выдержала.
– Вы, наверно, тоже историк? – спросила она.
– Историк? – Вениамин Семенович как бы очнулся от забытья. – Нет, я представитель вымирающей категории людей. Я романтик. Вот вы интересовались, знаком ли я с автором этой книги. А спросите, с кем я не знаком! С кем я не встречался! Мне приходилось бывать у Алексея Максимовича Горького, у Алексея Николаевича Толстого, встречался я и с Маяковским…
Он продолжал называть людей, одни имена которых приводили Катю в восторг.
– Однажды Алексей Николаевич Толстой… это было до войны, в Детском Селе… черкая на полях моего рассказа…
Катя была потрясена: какой удивительный человек работает на их заводе! Разве подумаешь, глядя на него со стороны? Никто, наверно, и не знает его как следует. Ну да, он же сам сказал, что только с ней так откровенен. Почему бы это? Не считает ли он ее глупенькой девчонкой, которой можно говорить что угодно, все равно она не поймет? А может быть, она ему понравилась своей серьезностью и он ей доверяет?
Они уже дошли до Катиного дома, но Катя не спешила подать руку Вениамину Семеновичу, – ей не хотелось домой, ей хотелось еще с ним говорить, слушать его, расспрашивать.
На прощанье Вениамин Семенович сказал:
– Будет грустно, заходите ко мне в клуб. Покажу свои книги, что-нибудь почитаю. Только условие: если будет грустно. Для веселья я плохой товарищ. Я уже старый, и не об увеселениях мне думать, Катюша.
Он снял очки, глаза его от этого сощурились, сделались добрыми, печальными. Кате стало очень жалко Вениамина Семеновича.
6
Директор Иван Степанович только что вернулся из Москвы и привез новое задание правительства. Наконец-то все слухи, все разговоры в курилках перестали быть слухами и разговорами!..
В обеденный перерыв рабочие толпились в цеховых конторках, окружали парторгов, мастеров, ловили на ходу инженеров. Был атакован и Илья Матвеевич.
– К директору вызывали?
– Вызывали.
– Рассказывай, товарищ начальник! – требовали бригадиры, заполнив голубую конторку на пирсе. Стальная, она гудела от голосов.
– Чего вы хотите, ребята? – отбивался Илья Матвеевич. – Индивидуального каждому разъяснения? Дело немыслимое. Народу у нас тысячи. На митинге все будет сказано. Главное – потерпеть. Осталось четыре часа.
Илья Матвеевич утирал потное лицо платком: в конторке становилось жарко; хитро усмехался.
– Упрямый ты человек! – с досадой и злостью сказал старый клепальщик с желтыми, как охра, вислыми усами. – Правительство задание дает народу, а он в молчанку играет. Ну погоди! В партком пойду!
Звякнув железной дверью, он вышел из конторки. В партийный комитет идти не понадобилось. На пирсе в толпе стоял Александр Александрович и, терпеливо объясняя по нескольку раз одно и то же – каждому вновь подошедшему сначала, – пересказывал все, что час назад узнал от Ильи Матвеевича.
После гудка несколько тысяч кораблестроителей собрались в корпусном цехе. На железную площадку винтовой лестницы взошли директор Иван Степанович, парторг ЦК Жуков, председатель завкома Горбунов, ведущие инженеры, среди них и Антон Журбин.
Не сразу улегся шум в гулком цехе. Ивану Степановичу пришлось довольно долго постоять в молчании, держась за поручень.
– Дорогие товарищи! – заговорил он. – На тихой нашей Ладе начинаются громкие дела. Родине нужен большой, отличный флот. И нам с вами в решении этой всенародной задачи предстоит принять гораздо более значительное участие, чем было до сих пор. В самые ближайшие годы мы обязаны утроить выпуск кораблей. Утроить!
Зыбкая железная лестница дрогнула от аплодисментов, – так дрожала она, когда близ нее работал воздушный молот в сто тонн.
Иван Степанович рассказывал о перестройке и реконструкции цехов, о новой технологии, о новых методах труда, без чего такую задачу не решить.
После него выступил Антон.
– Правильно говорит Иван Степанович! – сказал он не очень громко, не надрывая горла, но в цехе была акустика, которой могли бы позавидовать лучшие концертные залы, и Антона услышали даже самые дальние. – Совершенно правильно. В наше время, чтобы выиграть сражение, надо насытить войска техникой, надо выработать тактику в полном соответствии с местностью, данными разведки и поставленной задачей, надо достичь тесного взаимодействия родов оружия и наладить четкое управление боем. Как это перевести на наш рабочий язык?
Антона слушали внимательно. Каких-нибудь десять лет назад Антоха Журбин бегал по строительным лесам с гаечным ключом в руке, играл в заводской футбольной команде правым нападающим, печатал смешные стишки в многотиражке и в клубном драмколлективе здо́рово изображал малосознательных пареньков, которых надо было воспитывать на протяжении всей пьесы. И вот как переменилось дело за эти недолгие годы! Как ловко человек говорит – до каждого доходит! И как не дойти сравнению с боем до людей, среди которых многие – давно ли? – носили погоны то ли рядовых, то ли сержантов, а то и капитанов, майоров, подполковников.
– На наш рабочий язык это переводится очень просто, – продолжал Антон. – Максимальная механизация производства – раз. Его организация – два. И три – самая что ни на есть разносторонняя подготовка войск к бою. Имеется в виду техническая учеба. Я был мальчишкой во времена авральщины, но я авральщину помню. Выполняли план? Выполняли. Но как? Случалось, без выходных работали. Случалось, по двенадцать, по пятнадцать часов не покидали рабочее место. Можно таким способом увеличить выпуск кораблей? Можно. Процентов на десять, допустим, даже на пятьдесят. Но нам не эти проценты нужны. Нам надо тройное увеличение программы. И никакими сверхурочными, никакой мускульной силой этого увеличения не достигнуть. Те стройки на Волге, в Крыму, на Украине, которые народ называет стройками коммунизма, – разве они осуществимы мускульной силой в сроки, установленные правительством?
Антон передохнул. Председатель завкома Горбунов воспользовался короткой паузой, отыскал глазами Илью Матвеевича в толпе и поманил его к себе наверх.
– Мы выходим на дорогу к коммунизму, – говорил Антон, и, пока он это говорил, Илья Матвеевич взбирался по лестнице, подталкивая перед собой грузного краснолицего человека в белом кителе и в морской фуражке с белым верхом – многим на заводе известного капитана дальнего плавания Соловьева Павла Ивановича, пароход которого стоял на ремонте в заводском доке.
– Мы открываем замечательную эпоху, – слышал над собой голос сына Илья Матвеевич, – эпоху, когда рабочий превратится в техника, в инженера и будет управлять совершенными механизмами. Он уже ими управляет. Машинист шагающего экскаватора один выполняет работу тысяч землекопов. Точно так же, с такой же производительностью труда, мы должны строить корабли!
Антон закончил под аплодисменты, под крики: «Правильно! Молодец, Журбин!» – отступил от поручня и столкнулся с отцом, которому Горбунов предоставил слово.
– Корабли нам нужны, нечего и говорить. – Илья Матвеевич кашлянул, подумал с полминуты и подозвал к себе поближе Соловьева. Капитан стоял рядом с ним, сосредоточенно и деловито дымя трубкой. – Вот Павел Иванович… – Илья Матвеевич посмотрел на Соловьева. Тот слегка кивнул головой. – Он тридцать лет плавает по морям и океанам. Он что говорит? Не хватает нам флота на сегодняшний день. – Соловьев снова кивнул. – У нас, у советских людей, задача ведь какая? Не только о себе думать. К нам народы тянутся, что дети к отцу с матерью. На нас глядят, от нас помощи ждут. Вот, допустим, развивается наше сельское хозяйство, невиданные урожаи земля дает, а ученые и колхозники обещают еще больших урожаев, – хлеба-то одного сколько намечается! Разве его съешь? Да мы его другим народам повезем! Мы не пушки повезем, не бомбы, а хлеб, дорогие товарищи, хлеб!
Соловьев наклонился к Илье Матвеевичу, вынул трубку изо рта, что-то шепнул на ухо и снова задымил.
– Павел Иванович говорит: уже возим, – объявил Илья Матвеевич. – Кормим, говорит, народы. И лес возим, и машины возим. А кораблей мало. Не то что мало, – не хватает, в общем, согласно развороту дружбы. Друзей-то сколько у нас! Тут тебе и польский народ, и чехословацкий, и румынский, и венгерский, и болгарский. Глядишь, и еще прибавится. Обо всех забота, обо всех дума… Может быть, я не в свое дело лезу. Может быть, про это министрам иностранных дел да внешней торговли толковать положено…
Илья Матвеевич оглянулся на Жукова. Снизу было видно, как Жуков сделал движение рукой: то́, то́, дескать, продолжай. И Илья Матвеевич продолжал:
– Получается, следовательно, нужен флот первейший в мире. И конечно, не только по количеству, а и по качеству. Мы должны строить его не только быстро, но и прочно. Умеем строить прочно? Умеем. Павел Иванович не даст соврать… Двадцать три года плавает он на своей «Чайке». Велика ли посудинка… пяти тысяч тонн водоизмещения нет. Невелика, а в скольких штормах побывала, в скольких океанах – и в Атлантическом, и в Тихом, и в Индийском. О морях уж молчу. И вот спрашивается, может Павел Иванович пожаловаться на «Чайку»?
Соловьев развел руками: какие, мол, жалобы!
– Сами видите, что человек говорит: не может. – Илья Матвеевич вполне был удовлетворен этим жестом. – А еще спрашивается: кто строил «Чайку»? Мы, товарищи, строили ее, мы. Первенец нашего завода. Долго, конечно, строили, месяцев тридцать. Но ведь четверть века с той поры прошло. И мы, и техника переменились. Громадины за такой срок теперь строим. И все равно это для нас нестерпимо долгие сроки. Будем-ка сокращать их, как партия требует. Но не за счет качества, снова говорю. Помните, после войны к нам в гости на завод приезжали из американского профсоюза судостроителей? Кто-то – запамятовал… вроде Александр Александрович Басманов – спросил их: правда ли, что на верфях «Кайзера и компании» транспорты типа «Либерти» за шесть недель строятся? Что американец ответил? Правда, говорит, есть такое дело. Но мы, говорит, плыть через океан предпочли на судне с более длительным сроком постройки. Попрочней которое. Вот вам и обратная сторона медали! Нам такая медаль не подходит!
Илья Матвеевич стукнул при этих словах кулаком по железному поручню. Примерно то же сделал Соловьев, и оба одновременно покинули ораторское место.
Когда они вновь протиснулись в толпу клепальщиков, сборщиков, автогенщиков, такелажников, слесарей, аплодисменты еще гремели в цехе. Потный Соловьев обмахивался фуражкой. У него был такой вид, будто не Илья Матвеевич, а он сам произнес речь о большом флоте страны. И это было недалеко от истины, потому что старый моряк мысленно повторял ее за Ильей Матвеевичем слово в слово.
Митинг окончился. Рабочие расходились группами, одни по Морскому проспекту – к воротам, другие – в цехи. Загудел гудок на вечернюю смену, грохнул в корпусном цехе молот, засвистел паровозик, завизжала пила на лесном складе.
И в заводских шумах, и в тишине поселков люди весь вечер обсуждали новость, привезенную директором из Москвы.