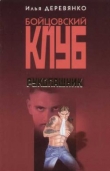Текст книги "Журбины"
Автор книги: Всеволод Кочетов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Илья Матвеевич водил Зину под днище корабля, установленного на кильблоках и клетках из пахучих сосновых брусьев, которые слезились прозрачной смолой. Он подымался вместе с ней на верхнюю палубу, спускался в железные глубины трюмов, машинных отделений и в тесные коридоры гребных валов. Все это было знакомо и вместе с тем ново, – ново потому, что окончена институтская практика, институтская опека, начиналась самостоятельная работа. Самостоятельная! Зина расспрашивала обо всем, что только видели ее глаза. Илья Матвеевич отвечал обстоятельно и без обидной снисходительности. Он с интересом поглядывал на странную девушку, которая решила строить корабли. Некоторые ее вопросы просто удивляли старого корабельщика. «Стрекозиха» кое в чем разбиралась.
– Вот ведь штука, – заговорил он, останавливаясь, чтобы закурить. В голосе его слышалась досада. – Мы работаем, работаем, накапливаем опыт, где-то его, этот опыт, соберут в кучу, преподнесут ребятишкам в готовеньком виде – и на́ тебе! За пять-шесть лет науки получается специалист не хуже нас, бородачей, по четверть, по полвека проведших на стапелях.
– Что́ вы, Илья Матвеевич! – горячо запротестовала Зина. – «Не хуже»! В сто тысяч раз хуже! Мне казалось – приду сюда, и сразу у меня получится, как надо, как в институте учили. А вот походила с вами – страшновато становится. До чего же много знать надо. Клепать могу, чеканить могу, варить швы – тоже, а все строительство, в целом, не охватывается.
– Охватится, – подбодрил Илья Матвеевич. – Когда меня начальником поставили – было это, не соврать бы, лет пятнадцать-шестнадцать назад, – я тоже испугался: клепать могу, чеканить могу…
Зина рассмеялась:
– Пятнадцать лет! Ну и утешили! Столько ждать.
– А как же иначе! Иначе не выйдет. Каждому лестно: соскочить со школьной скамейки да и стать сразу большим мастером или ученым. Не получается так в жизни, товарищ инженер. Человек созреть должен. А на это годы нужны, годы…
Илью Матвеевича кто-то окликнул, он ушел; Зина осталась одна на палубе.
Ветер разнес тучи, Лада сверкала под солнцем, дымка поднималась над бухтой и над окрестными лесами. По горячей палубе прыгали воробьи. Зина смотрела на них и думала. До чего же горек этот неумолимый закон жизни: нужны годы! Не первый раз она слышала о нем. Еще меланхоличный Сеня Карпов говорил, что спешить студенту некуда. Все равно зрелости человек достигает только к тридцати, к сорока годам. «Мы ершимся и петушимся, – философствовал Сеня, – а жизнь-то, науку, технику, прогресс двигают они, которым не меньше тридцати и сорока». – «Что же остается нам, которым нет тридцати?» – негодовала Зина. «Любовь и учеба, – уныло заключал Сеня. – Учеба и любовь».
То же самое, не поминая, правда, любви, сказал и Илья Матвеевич. Человек созреть должен. Долгая, скучная песня, и никакая любовь ее не скрасит.
Воробьи улетели. Илья Матвеевич не возвращался. Может быть, он забыл о Зине? Зина сама отправилась его разыскивать. Она шла по лесам вдоль борта и дошла до клепальщиков, которые клепали обшивку в носовой части корабля. Засмотрелась на то, как ловко и быстро орудовал своим молотком один из бригадиров.
Зина видела его в профиль. Он был в синей спортивной майке, с обнаженными мускулистыми руками, по которым уже прошелся первый весенний загар. Чтобы не мешать ему, Зина поднялась на следующий ярус подмостей, откуда были видны и сам бригадир, и его подручный, и горновщицы, которые находились внутри корпуса корабля.
Обычно бригада клепальщиков состоит из бригадира, одного подручного и одной горновщицы. Тут Зина увидела двух горновщиц и сразу поняла – почему их столько. Подручный едва поспевал хватать у них раскаленные стержни и вколачивать их ручником в отверстия, просверленные в листах обшивки. Бригадир, как только перед ним вспыхивал малиновый глазок заклепки, мгновенно приставлял к нему обжимку молотка – слышалась сначала глухая, затем, по мере остывания металла, звонкая пулеметная дробь, а в соседнем отверстии уже загорался новый жаркий глазок.
Быстрота работы захватила Зину. Она не могла оторвать взгляда от рук бригадира. Каждое их движение было настолько точно рассчитано, будто руки и молоток составляли единое целое. Перед Зиной как бы текла стремительная лента конвейера. Пожилые горновщицы по очереди выхватывали щипцами из горнов заклепки, ударом по чугунному бруску сбивали с них окалину и шлак, передавали подручному, подручный взмахивал ручником, приставлял к закладным головкам заклепок поддержку, бригадир стучал и стучал молотком, и на соединении двух листов обшивки все удлинялся шахматный шов.
У бригадира не было времени смахнуть с густых бровей каштановую прядь волос. Она мелко дрожала в такт дробному бою молотка.
Ему же не тридцать и не сорок. Ему не больше, чем ей, Зине, но разве он не опытный мастер?
Зине хотелось поговорить с бригадиром, просто необходимо было с ним поговорить. Но никогда, казалось, не остановит он ленту сумасшедшего конвейера.
Зина решила все-таки дождаться перерыва. Не могут же они без отдыха работать все восемь часов!
И она дождалась. Бригадир резко выключил молоток. Нагревальщицы тотчас принялись чистить горны, подручный с ключом в руке выбрался на наружные подмостья и стал отвинчивать гайки сборочных болтов; бригадир, откинув со лба назойливую прядь, сделал несколько гимнастических движений, широко разводя руки и распрямляя грудь. Он увидел Зину, спускавшуюся к нему, и смутился как мальчишка, который хочет казаться взрослым, но попадается на какой-нибудь очень мальчишеской выходке.
Они узнали друг друга.
– Здравствуйте! – обрадованно сказала Зина, подходя, и подала руку.
– Ну как, нашли отдел кадров? – спросил Алексей, все еще смущаясь.
– Найти-то нашла, да толку мало. Работы не дают.
– Чего это они? Сами объявления везде развесили: нужны люди, – а канителят. У вас какая специальность?
Зине было приятно, что он разговаривает с ней так, как, наверно, стал бы разговаривать со своими горновщицами или с той девушкой, машинистом крана, которая выглядывает из стеклянной будочки на ажурной башне. Она подумала, что, пожалуй, не стоит говорить: «инженер» – вдруг разговор потеряет непринужденность, – и ответила:
– Вот, например, могу клепать.
– Это бросьте! – Алексей усмехнулся. – Я вправду спрашиваю.
– А я вправду и говорю. – Она подняла молоток с подмостей, осмотрела его: система знакомая. – Боитесь – что-нибудь испорчу?
– Руки себе испортите. А больше – что же?
– Ну, тогда пусть разогревают!
Зина не сомневалась в своем умении клепать. Она смело нажала курок, но, когда молоток затрепетал, забился в ее руках, как большая тяжелая рыбина, – растерялась. Конец стержня заклепки пополз куда-то в сторону; будто масло, он размазывался по листу, и вместо аккуратной замыкающей головки получилась отвратительная лепешка.
– Что такое, в чем дело? – Зина поспешно выключила воздух и, перепуганная, взволнованная, оглянулась на Алексея. – Я не виновата, виноват ваш молоток… Фу, ерунда какая!
– При чем тут молоток? – начал было Алексей, но понял, что и в самом деле не девушка, пожалуй, повинна в неудаче, а именно молоток, а еще точнее – он сам, Алексей. – Верно, – сказал он и протянул руку, чтобы дернуть себя за галстук; галстука не было. – Верно. Не предупредил. Молоток у меня переустроенный. Кое-что я тут изменил в конструкции.
– Вы мне не говорите «кое-что»! – запальчиво перебила Зина, раздосадованная неудачей. – Говорите определенно – что!
Она снова нажала на курок – и вторая заклепка пошла в брак. За второй – третья.
– Не беда, – утешал Алексей, – срубим.
Четвертую, пятую, десятую он расклепал сам в своем стремительном темпе.
Зина не отходила от него ни на шаг. Самолюбие ее было сильно уязвлено.
Так их, почти прижавшихся плечом к плечу, и застал Илья Матвеевич.
– С рабочим классом знакомитесь? – сказал он, когда Алексей выключил воздух. – Правильно, товарищ инженер, с этого и начинать надо.
При слове «инженер» Алексей удивленно и, как Зине показалось, неприязненно взглянул на нее. Глаза у него были хмурые. Зина почувствовала себя виноватой перед ним. Ее шутку по поводу специальности он расценил, наверно, как обман, как средство втереться к нему в доверие. Она не терпела недомолвок и недоумений, поэтому тут же попыталась объяснить Алексею, как и для чего возник этот, пустяковый в сущности, обман, но Алексей, постучав в стальной лист, уже подал знак бригаде, и слов стало не слышно за трескотней молотка.
Илья Матвеевич повел Зину в конторку, знакомиться с Александром Александровичем, о котором он сказал: «Знаменитый мастер!»
На пирсе Зина удержала его за рукав.
– Илья Матвеевич, я, кажется, обидела вашего бригадира. Вы не заметили?
– Какого бригадира?
– Ну вот, с которым мы сейчас клепали.
– Это же Алешка! Мой сын! С чего ему обижаться? Молод – зелен.
После вечернего гудка Зина, радостная, возбужденная, влетела в кабинет директора:
– Все, Иван Степанович! Завод осмотрен, еще раз подумано – буду работать на стапельном участке. И только там!
Начался разговор, который привел Зину в эту похожую на коридор, мрачную, неуютную комнату с длинным столом. Иван Степанович говорил долго, серьезно и убедительно. Он говорил о том, что молодой, энергичный, инициативный инженер заводу нужен, но не на стапелях, где специалистов вполне достаточно, а в бюро технической информации, которому руководители завода придают чрезвычайно важное значение, особенно теперь, в новых условиях.
– Я говорю это вам, Зинаида Павловна, как старший товарищ. Я прошу вас так поднять и поставить техническую информацию, чтобы в ваших руках сосредоточились все новинки кораблестроения, и не только судосборки, а и литейного дела, кузнечного, холодной обработки металлов, большой и малой механизации. Скобелев, буду откровенен, пока не обеспечивает такой работы. Бюро информации нуждается в сильном катализаторе. Этим катализатором, я уверен, явитесь вы. Недостаток вашего опыта восполнится избытком вашей энергии.
Каждое его слово было для Зины словом панихиды по ее несбывшимся мечтам. И вместе с тем, они, эти слова, льстили самолюбию: с нею разговаривали как с подлинным инженером, которому поручали ответственную задачу и на которого надеялись. Она еще мотала протестующе головой, хотя уже чувствовала, что не устоит перед напором доводов Ивана Степановича и пойдет в бюро к Скобелеву – не навсегда, конечно, на время, но все же пойдет.
Даже и на время нелегко расставаться с мечтой. Зина сидела возле длинного стола, разглядывала шкафы и щиты с инструментами, старалась сковырнуть неподатливый клей с коленкоровой обложки альбома и почти не слышала того, что говорил Скобелев, который, заложив руки за спину, расхаживал по комнате.
– Я всегда удивлялся и удивляюсь, – говорил он скучно и назидательно, – тем извилистым путям, по которым судьба ведет человека. Вот вы, Зинаида Павловна Иванова, гордо заявили мне, Евсею Константиновичу Скобелеву, что у вас никакой потребности в моем обществе нет. Это было вчера. Сегодня же все переменилось. Вам не только придется терпеть мое общество, но и выполнять мои приказания. Вы моя подчиненная, я – ваш начальник. Вам это понятно, надеюсь?
Зина медленно подняла голову и посмотрела на Скобелева долгим изучающим взглядом. Чтобы не видеть ее удивленных глаз, Скобелев сел за стол и принялся рыться в ящиках.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Поезд медленно вползал в ажурный тоннель железнодорожного моста. Чемоданы давно были уложены, шляпы надеты, пассажиры стояли возле окон. Река горела внизу, озаренная вечерним солнцем. По ее сверкающей воде, наперерез поезду, шел буксир и тянул две осадистые баржи с кирпичом. Обгоняя поезд, к противоположному берегу мчался белый катер.
– Ну, вот и наш городишко! – сказал Антон, кивком указывая на дальний берег.
Спутник Антона быстро повернул голову, хохолок над его лбом, седой и задорный, как у Суворова, дрогнул, лицо приняло строгое выражение. За рекой открывалась панорама большого города. Белые здания, кроны деревьев, заводские дымы… Новая, незнакомая жизнь. Сколько раз за пятьдесят лет он, этот немолодой уже человек, въезжал вот в такие незнакомые города! Вспомнился вид Сталинграда с Волги, Ростова с южного берега Дона, Киева с низменной левобережной поймы, Новосибирска через Обь… Много, много было городов, но каждый раз, завидев из окна вагона или с пароходной палубы такую панораму в седых дымах, Жуков чувствовал волнение. Он никогда но был экскурсантом, всегда в новый город он ехал работать и всегда – по заданию партии.
– Михаил Васильевич!. – окликнул Жуков, оборачиваясь к распахнутой двери купе. – Приехали!
– Уже?! – ответил худощавый человек с лицом бронзовым, как у рыбака, поспешно запихивая в портфель папки с бумагами. – Сейчас выйду.
Над этими папками, разбирая, рассматривая эти бумаги, Антон Журбин, парторг ЦК Жуков и профессор Белов провели весь путь от Москвы до Лады – почти двое суток. В других купе играли в карты, в домино, пели песни, даже отпраздновали день рождения черноглазой девушки-студентки, ехавшей домой на летние каникулы, а в купе номер четыре только листали бумаги и рассматривали чертежи.
Жуков встретился с Беловым и Журбиным в кабинете министра, приехал в министерство прямо из Центрального Комитета партии. В ушах его еще звучали слова секретаря ЦК: «Надеюсь, вы понимаете, какая ответственность ложится на коллектив завода?» Министр почти повторил слова секретаря ЦК. Он сказал: «Познакомьтесь, товарищи… Вам предстоит помочь заводу выполнить чрезвычайно серьезное задание. Ответственнейшее задание. Вы, конечно, сами понимаете это…»
Они выехали на Ладу вместе, всю дорогу профессор Белов и Антон рассказывали Жукову о планах реконструкции завода, лишь изредка отрываясь от бумаг, чтобы посмотреть в окна. За окнами грохотали встречные товарные эшелоны; составами из красных вагонов и платформ были заняты пути всех станций и полустанков. На вагонах, на контейнерах то мелом, то черной краской было выведено: «Волго-Дон», «Куйбышевгидрострой», «Каховка»… Старые названия недавно зазвучали по-новому. Волгу и Дон отделяла теперь друг от друга не горячая степь, а только короткая черточка. Точнее, она их соединяла. За этой черточкой уже угадывались трасса будущего канала, простор будущего Цимлянского моря и огромный труд огромной армии строителей, для которых железнодорожные эшелоны везли лес, массивные ящики с машинными частями, северный гранит, цемент.
Долго всматривался Жуков в надпись «Каховка». Он помнил Каховку такою, как воспета она в песнях, – в горячем звоне пуль. Поезд остановился рядом с товарным составом, и Жуков окликнул молодого парня, который, сняв рубашку, загорал на платформе, груженной досками.
– В Каховку, товарищ?
– В Каховку, – охотно ответил парень.
– Издалека?
– Из Архангельска. Послали сопровождать продукцию. Это нам вроде премии за работу. Четверых выбрали, а просились… весь завод. В завкоме говорят: как же, пошли вас, вы там и останетесь. Дела такие.
– Как тут не вспомнишь Кирова! – сказал Жуков, проводив взглядом эшелон с досками. – «Хочется жить и жить».
– Вы насчет чего это? – спросил удивленный Белов, входя в купе с бутылкой нарзана в руках. – Какую-нибудь колхозную электростанцию в окне увидели? Аллею вдоль дороги?.. Паровоз новой серии?.. Хорошо, что я не лирик, иначе… Не знаю, что́ было бы иначе. Наверно, я непрерывно болел бы ангинами, гриппами, воспалениями легких… Потому что, скажу вам откровенно, лирику в наше время трудно оторваться от вагонного окна. Последние два года мне пришлось много путешествовать – с севера на юг, с юга на север, на восток, на запад… Потрясает! Да, потрясает. На твоих глазах меняется, знаете ли, все – от ландшафта до человека.
– Ну вот, – рассмеялся Жуков, – только что утверждали: не лирик! А заговорили, как настоящий поэт.
– Никаких поэтов! – Белов резким взмахом спросил очки на диван. На переносье выступила красная полоска, глаза прищурились. – Никаких лириков! Я, как меня называют мои товарищи, черствый сухарь. Любой рифме я предпочту цифру. Да вот, пожалуйста!.. – Белов вновь надел очки, остро посмотрел по очереди на Жукова и на Антона. – Вы утром слышали, по радио передавали песнопение? «Левый берег, берег правый соревнуются на славу…» Что вы из этого поняли? А это же о Сталинграде. О Сталинграде! И рядом с такой словесностью – вот вам! – Он развернул газету, ногтем, как ножом, полоснул по заголовку статьи: «Сегодня на Волге».
Это была не статья, а запись беседы с начальником строительства Сталинградского гидроузла; состояла она сплошь из цифр. Но Белов принялся читать эти цифры, что называется, с выражением; он со вкусом их комментировал, азартно восклицал: «Ну что это, по-вашему, – кубометры, километры? Или человек, работающий там, на правом и левом берегах?»
– Нашу эпоху никакими рифмами не передашь! – сказал он, закончив чтение статьи. – Это эпоха поэзии цифр, эпоха поэзии масштаба. Разрешу себе привести еще один пример. У меня в портфеле – вот она! – хранится газетная вырезка. Главное статистическое управление сообщает о том, как выполнен народнохозяйственный план прошлого года. Рассмотрим – как?
Белов называл цифры и принимался рассуждать о том, какими путями советская черная металлургия, советское автокраностроение, советская лесная промышленность достигли этих показателей, что́ скрывается за этими цифрами. Он говорил о конвейерах, о трелевочных тракторах, о рационализаторских предложениях рабочих, о соревновании бригад, о содружестве производственников с учеными, о могучей волне творчества, вдохновения, которая, разрастаясь, захватывает страну от границы к границе.
– Убили вы меня, Михаил Васильевич, – сказал Антон не то в шутку, не то всерьез. – Я, грешный, тоже, случается, стихи сочиняю.
– Да что вы, Антон Ильич! – Белов смотрел на Антона не только с удивлением, но, пожалуй, еще и с некоторым испугом.
– Верно. Хотите, прочитаю стишок-другой?
Антон прочел коротенькие стихотвореньица о зимнем дне на стапелях, о клепальщике, молоток которого сравнивался с пулеметом, о старом мастере, который ушел на пенсию, но каждый день является посидеть на лавочке возле заводской проходной. Стихи были простые, и все в них было знакомо Белову; не только знакомо – близко.
– Ну, знаете, Антон Ильич! – развел он руками. – Это же почти цифры!
Жуков громко засмеялся. Белов тотчас понял причину его смеха и, смущенный, поспешил пояснить:
– Не в смысле сухости – нет!.. Ни в коем случае. В смысле точности, в смысле поэзии…
Все эти споры остались позади, впереди был новый для Жукова город; под мостом, через который шел поезд, текла новая река. Антон указал рукой вдаль:
– Завод. Видите три трубы?.. Самая окраина, почти у залива.
Трубы медлительно дымили, вокруг них сплетались в серые кружева фермы подъемных кранов, мачты кораблей и прожекторные башни.
2
В тот день, когда Тоне выдали табель, в котором было написано: «Журбина Антонина по постановлению школьного совета переводится в десятый класс», ей исполнилось семнадцать лет.
– Ну что, большая стала? – грубовато сказал Алексей. Он возвращался с работы и встретил сестру возле калитки. – Замуж скоро выскочишь…
– Пока не найду такого, как ты, не выскочу! – Тоня хотела его обнять, но Алексей отстранился.
– Шаблон, значит, нашла – всех своих женихов по мне мерить?
– Конечно. Ты самый лучший, ты самый умный, ты самый красивый!
– Вот дурашливая! – усмехнулся Алексей. – Ну получай, если так… – Он протянул ей сверток, который держал под мышкой.
– Что тут, Алеша?
– Посмотришь.
Тоня, подпрыгивая, побежала к скамейке. Алексей присел с ней рядом, искоса поглядывая, как она торопливо развертывает бумагу.
В семье Журбиных все жили дружно, семья считалась одной из наиболее крепких в Старом поселке. Но и в ней, в этой крепкой семье, относились друг к другу неодинаково, и даже Агафья Карповна, любящая мать, любила своих детей по-разному. До войны самые нежные материнские чувства она отдавала первенцу Виктору и Алексею. После того как Антон вернулся с фронта с тяжелыми ранами, эти чувства Агафьи Карповны распространились и на него. Любила она, конечно, и Костю с Тоней, – пожалуй, не меньше любила, – но все же не так, как Виктора, Алексея и Антона. И никогда не могла бы объяснить, почему не так. Может быть, потому, что Костя рос дерзким, своевольным пареньком, на него в школьные годы жаловались учителя, жаловались соседи; Агафья Карповна терпела из-за Кости много неприятностей. А Тоня с ее мальчишеским характером сама не очень льнула к матери, скрытничала перед ней, поверяла свои тайны только Алексею да еще отцу, Илье Матвеевичу.
С Алексеем у Тони сложились особые отношения. Когда Тоня была маленькой, Алексей мог заниматься с ней целыми днями. Он возил ее на себе верхом, скакал с ней через веревочку, играл в камешки и в «школу мячиков», чертил «классы» с «котлом» и «адом». Десяти лет Тоня с помощью Алексея научилась бегать на коньках и на лыжах, пятнадцати лет – стрелять из отцовского дробовика, ставить переметы и жерлицы, крутиться на турнике и прыгать через «козла».
И только к этому времени Алексей перестал стесняться своих дружеских отношений с сестрой. Прежде он играл с ней в глубокой тайне от взрослых и особенно от приятелей-мальчишек. «Классы» чертили за дровяным сараем, игра в камешки происходила в зарослях бузины и малины. Стоило появиться вблизи постороннему – Алексей тотчас из равноправного Тониного партнера превращался в ее сурового старшего брата. Делал, словом, такой вид, будто там, за сараем или в малиннике, он очутился только для того, чтобы по поручению матери присмотреть за сопливой девчонкой.
А Тоня, напротив, никогда не скрывала своих чувств к брату, он был для нее самым высоким авторитетом на свете, – пожалуй, более высоким, чем отец, Илья Матвеевич.
На внешние знаки внимания к сестре братец был не слишком щедр. Впервые так случилось, что он снизошел до подарка ко дню ее рождения.
– Алеша, милый! Да ты дурачок! – Тоня развернула сверток и так стремительно бросилась брату на шею, что на этот раз он не успел отстраниться. Он только по мальчишеской привычке отер ладонью щеку там, где ее коснулись Тонины губы.
С этого дня в Тониной жизни начались перемены. Поставив подарок Алексея – красивую большую коробку, обтянутую голубым шелком, – на комод, перед круглым зеркалом в раме из деревянных, черных от времени роз и листьев, Тоня почувствовала себя взрослой. Такие же коробки с флаконами духов и пестрыми пудреницами – но, конечно же, конечно, менее красивые! – были и у Лиды, и у Дуняшки. Тоня вырастала в собственных глазах.
– Антонина Ильинична Журбина! – сказала она своему отражению в зеркале. – Вы вступаете в жизнь. Будьте счастливы, Антонина Ильинична.
– Что верно, то верно. Будь, внучка, счастлива.
Тоня повернулась на каблуках. Позади нее стоял дед Матвей, тихо подошедший в валенках. Смущенная, она уткнулась лицом в его куртку, от грубой ткани которой пахло железом, смолой, суриком – кораблями. Дед Матвей поцеловал Тоню в голову, погладил по плечам:
– Много его, счастья-то, прошло мимо людей, не каждому оно доставалось.
Дедова солдатская койка стояла в углу за платяным шкафом. Откинув угол одеяла из разноцветных лоскутьев, он опустился перед нею на колено и выдвинул из подкроватной тьмы зеленый сундучок с гремучей, из железного прута, скобой на крышке.
Сундучок этот был очень старый, он сопровождал деда Матвея во всех его морских походах по дальним странам, и тот, кто его открывал, на внутренней стороне крышки видел жуткую картину в красках, которая называлась «Последний день Помпеи». Вырезав когда-то картину из журнала «Нива», дед приклеил ее хлебным клейстером – и то, с чем не справился разбушевавшийся вулкан, довершили прожорливые корабельные тараканы. Они отгрызли руки полуобнаженным помпеянкам, мечущимся в багровых отсветах под градом камней и дождем пепла, жадно въелись в торсы и бедра жилистых мужей. От тараканьего вмешательства страшная картина стала просто ужасающей.
Никто в семье не дотрагивался до этого заветного сундучка. Только Алексей, когда Тоне было лет пять-шесть, подзовет иной раз ее к дедовой постели, вытащит сундучок, распахнет крышку и крикнет: «Ага!..» Тоня пугалась и ревела.
Дед порылся в сундучке, согнутой спиной заслоняя его содержимое от Тониных глаз, вытащил квадратную корзиночку, сплетенную не то из тонкой соломы, не то из каких-то желтых волокон, подержал ее молча в руках и подал Тоне. В корзиночке, свернутое кольцом, лежало ожерелье из голубых и розовых раковин. Прошло чуть ли не полвека с того дня, когда Матвей Журбин купил его на базаре в Порт-Саиде, но тонкие, нежные краски, рожденные в глубинах южных морей, не потускнели.
Царапая кожу жесткими, как напильники, пальцами, дед Матвей сам надел на Тонину шею ожерелье и защелкнул медный замочек.
– Совсем цыганка! – воскликнула Тоня, взглянув на себя в зеркало. Она обняла деда и шепнула ему на ухо: – Это бабушкино?
Дед Матвей присел на постель, поставив большие свои непослушные ноги рядом с закрытым сундуком – последним вместилищем того, что осталось у него на земле от его королевны, – пожевал губами и не ответил.
Начиналось лето, дни стояли теплые, солнечные – гулять бы да гулять; но повзрослевшая Тоня не знала, куда девать свободное время. Подруги разъехались – кто к тете в деревню, кто к замужней сестре в Москву; несколько девочек отправились в туристский поход по Военно-Грузинской дороге. Рыбачить не хотелось, да и не с кем было: Алексей день работает, а вечером до самой ночи пропадает со своей Катюшкой. Эта Катюшка!.. Тоня всей душой ревновала к ней Алексея. Разве не обидно, не горько: вот была, была такая хорошая дружба, вдруг появилась беленькая чертежница – и всей дружбе конец. Как будто у Алеши и сестры уже не стало. Несправедливо, глупо, бессмысленно! Не отнимешь, конечно, она хорошенькая, Катюшка, и даже коричневое пятнышко на щеке ее не портит; но что из того – хорошенькая! Нельзя же из-за каждой хорошенькой девчонки голову терять.
Тоня ревновала, скучала, слонялась, по выражению Агафьи Карповны, как неприкаянная, по дому, вокруг дома, над Веряжкой; иногда ходила через дюны к бухте, где на песчаный берег день и ночь шли и шли, откатываясь, тяжелые зеленые волны. Под их шум хорошо было мечтать. Но в это лето и мечталось-то совсем не так, как бывало прежде.
Однажды Тоня собралась в город. Она любила город с его музеями, театрами, магазинами. Она могла ходить по городским улицам часами, до тех пор пока не отказывали ноги.
Было воскресенье, и в троллейбусе ехало много знакомых. На одном из передних сидений, расправив широкую юбку, по-хозяйски расположилась Наталья Карповна – Тонина тетка, которую лет двадцать назад Агафья Карповна с согласия Ильи Матвеевича выписала со своей родины, из Иванова. Наталья Карповна была полная, белокурая, любила сладкие наливки и очень трогательно, высоким голосом пела грустные песни. Овдовев в войну, она пошла на завод, долго выбирала себе профессию, выбрала наконец профессию крановщицы, работала на самом мощном, на портальном, кране.
Наталья Карповна разговаривала с какой-то девушкой, на которую Тоня вначале не обратила внимания. Видела только теткину аккуратную прическу, ее гладкую шею, розовое плечо, с которого сползла снежной белизны блузка, и удивлялась, почему тетка – такая еще молодая и красивая – не выходит замуж.
В троллейбусе все шумно разговаривали, смеялись, спорили, и тетка смеялась, то и дело склоняясь к самому уху соседки. Вдруг на одной из остановок в троллейбус вскочил Алексей. Тоня хотела его окликнуть, но он быстро прошел вперед и сел позади тетки Натальи. И только тогда Тоня узнала девушку, с которой разговаривала тетка. Это была она – Катюшка.
Катюшка не заметила Алексея. Алексей сидел позади и неотрывно на нее смотрел. «Какая гадость, какая гадость! – думала Тоня. – Как ему не стыдно!»
Но Алеше, видимо, нисколько не было стыдно. Когда троллейбус остановился в центре города, он сошел следом за Катюшкой, догнал ее, и они пошли рядом.
Тоня вышла расстроенная и отправилась в магазины; ничего не покупала, только рассматривала, потому что у Ильи Матвеевича с Агафьей Карповной было суровое правило: до тех пор, пока дети не вышли на самостоятельную дорогу, все, что детям надо, купят родители. А чего не купят, того, следовательно, им и не надо.
После магазинов Тоня зашла в городской сад посидеть в прохладе возле фонтана с круглым бассейном из гранита. И пока сидела, раскрошила голубям захваченную из дома булочку. Голуби суетились возле самых ее ног. Они были доверчивые и простодушные; булочки им мало досталось, все расхватали воробьи. Тоня злилась на воробьев, шикала, но ее шиканье пугало не воробьев, а голубей. Взлетая, они поднимали крыльями ветер.
Под полосатым тентом летнего кафе Тоня взобралась на вращающийся табурет у высокой стойки и попросила своего любимого, земляничного, мороженого.
– А ведь мы с вами знакомы, – услышала она тихий голос.
Рядом с ней сидел и тоже ел мороженое Игорь Червенков.
Конечно, Тоня была с ним знакома. Два года назад на областной математической олимпиаде школьников она заняла только шестое место, а Игорь – первое. Тогда все пожимали плечами и говорили: «Ничего удивительного, если папаша у него знаменитый профессор».
– Вы по-прежнему увлекаетесь математикой? – Игорь отодвинул блюдечко с мороженым и повернулся к Тоне.
– Даже и не знаю, – ответила Тоня. – В седьмом классе, когда была олимпиада, я по математике получала одни пятерки. А сейчас… сейчас и тройки есть. А вы?
– Я школу окончил.
– Теперь в институт?
– Да… да, – сказал он не совсем твердо и склонил черноволосую голову с белым и ровным, как нитка, пробором.
Остаток дня они провели вместе. Выяснилась странная подробность биографии Игоря: он не захотел идти ни в какой институт, поступил на днях к ним на завод в разметочную и уже познакомился и с дедушкой Матвеем, и с Дуняшкой, и об Алексее читал на доске Почета.
– Как это можно! – возмущалась Тоня. – Получить среднее образование и не учиться дальше… С вашими способностями!..
– В этом все и дело, что я не знаю своих способностей. И выбора никакого еще не сделал. Математика? Стать ученым схоластом?
– Почему схоластом? Разве ваш папа схоласт? О нем говорят, что он светило, и его труды очень ценят.
– Ну, папа, папа! Вот так все меня попрекают папой. При чем тут папа! – Игорь сердился, смотрел на Тоню черными глубокими глазами, которые под высоким большим лбом казались еще глубже. – У отца свой путь, у меня свой. Вы читали когда-нибудь о древнем Китае?