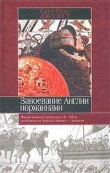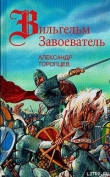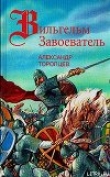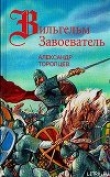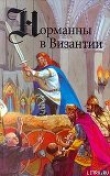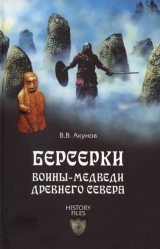
Текст книги "Берсерки. Воины-медведи Древнего Севера"
Автор книги: Вольфганг Акунов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
ДРУГИЕ УПОМИНАНИЯ О «ВОИНАХ-ЗВЕРЯХ»
Самое раннее упоминание о берсерках встречалось в скандинавском поэтическом произведении IX в., известном под названием Haraldskaegi, – стихотворении, написанном скальдом Торбьерном Хорнклови и прославляющем победу норвежского короля Харальда Прекрасноволосого (годы правления 870–930). Скальды часто становились придворными поэтами скандинавских королей, они сочиняли длинные хвалебные песни о своих покровителях в размере малахатт. Говорили, что берсерки составляли часть армии Харальда в ряде его военных кампаний и что их считали «наводящими страх бойцами». В саге они названы последователями скандинавского бога войны Тюра (хотя позднейшие записи говорят о них как о последователях Одина, верховного бога скандинавов) и сказано, что они сражались на стороне Харальда Прекрасноволосого против союзных войск данов (датчан) и других народов в битве при Хаврсфьорде, где учинили великое побоище. Сказание об этой битве, сохранившееся стараниями скандинавского поэта Снорри Стурлуссона (1179–1241), долго вызывало сомнения относительно своей фактической точности – как и той роли, которую сыграли в сражении берсерки. Некоторые считают его просто поэтическим преувеличением, созданным самим Снорри.
Берсерки фигурируют также в «Саге о Хрольфе Краки» (известном и как Рольф Кренги). Краки (Краке) был легендарным датским королем, который появляется в ряде анто-скандинавских летописей и народных сказок Восточной Англии, где некоторое время существовали королевства данов. Здесь берсерки описаны просто как банда изгоев, одетых в волчьи и медвежьи шкуры, которые неистовствуют в соседних землях, грабя, сжигая селения и мародерствуя. В старинном исландском произведении XIII в. «Сага о Ньяле» (также известном как «Сожжение Ньяля» – одном из старейших полностью сохранившихся исландских письменных документов) плененного берсерка используют, чтобы «испытать» два костра – один разожжен язычниками, а другой – христианами. Христианский костер полностью поглощает язычника-изгоя, таким образом доказывая силу и превосходство новой религии.
Самым знаменитым берсерком был исландский фермер– бонд и воин Эгиль Скаллагримссон, который стал одним из величайших негодяев – антигероев исландской литературы. Его деяния описаны в «Саге об Эгиде», опять-таки переработанной и записанной поэтом Снорри Стурлуссоном, который одно время считался классиком северной литературы. Эгиль происходил из длинной родовой линии сомнительных персонажей: его дед Ульв (Ульф) был также известен под именем Квельдульв, что означает «вечерний волк», и приобрел скандальную известность как маг и оборотень, принимавший по своему желанию облик волка. Отец Эгиля, Скаллагрим Кведульвсон, также был наводящим ужас берсерком, и когда на него находили приступы неконтролируемой ярости, он, по слухам, убил множество людей. Будучи берсерком, Эгиль якобы обладал рядом сверхъестественных качеств, включая дар исцеления – он действительно произвел несколько чудес исцеления. Он также был великим поэтом скальдической школы, написавшим, по легенде, свое первое стихотворение еще в раннем детстве. Став воином, он сражался за Харальда Прекрасноволосого, норвежского короля, в составе его «ударной дружины», когда король объединял Норвегию под своей единоличной властью и изгонял датских поселенцев. Говорили, что Эгиль попеременно носил волчью и медвежью шкуры, а когда сражался, то зубами перегрызал противникам яремные вены. Неудивительно, что его так боялись!
Несмотря на то что Гаральд (Харальд) Прекрасноволосый охотно включал берсерков в свои войска, пребывание их в составе норвежских дружин порой становилось проблемой – особенно когда дело касалось дисциплины. Несколько старинных ирландских документов – отчетов о битве при Клонтарфе, неподалеку от Дублина, в 1014 г. (конфликт, во время которого викингская Ирландия бросила вызов своей кельтской «сестре», которой правил король Бриан Бору) – повествуют о берсерках, бесконтрольно хозяйничающих и в ирландских, и в норманнских поселениях, нанося огромный урон как чужим, так и своим. Да и дома, в Норвегии, хлопот с ними было не меньше, поскольку дружины берсерков нападали на собственные деревни (а точнее говоря, хутора или крестьянские дворы-фермы, т. н. «гарды» – ср. с древнерусским словом «град», или «город»), возвращаясь домой с войны (видимо, по-прежнему одолеваемые «боевой яростью»). В 1015 г. норвежский ярл (местный правитель) Эйрик Хакенарсон запретил берсеркам жить на территории страны, приказав преследовать их и судить. К началу 1100-х гг. ватаги (организованные банды) воинов-берсерков, которые прежде были составной частью армий скандинавских королей, практически перестали существовать.
На родине не только берсерков, но и викингов вообще недолюбливали. Ведь так называли тех людей, которые не желали жить в племени и подчиняться его законам. Слово «викинг» в описываемую эпоху носило оскорбительный оттенок, вроде современного «пират», «бандит» или «разбойник». Когда юноша покидал семью и уходил в дружину викингов, его оплакивали как погибшего. Действительно, уцелеть в далеких походах и постоянных боях было нелегко. Чтобы не бояться смерти, викинги, по мнению многих, наедались перед битвой опьяняющими мухоморами. Неукротимые в своем опьянении, они сминали любого врага: и арабов, и франков, и кельтов. Особенно ценили они берсерков – «подобных медведю», то есть людей, способных перед боем доходить до невменяемого состояния и с огромной силой крушить врага. После припадков ярости берсерки впадали в глубокую депрессию, вплоть до следующего нервного срыва. В нормальных условиях берсерков не терпели. Их заставляли покидать села и удаляться в горные пещеры, к которым остерегались ходить. Но в отрядах викингов берсерки находили себе достойное применение.
Зато с викингами охотно творили общие дела скандинавские аристократы. Честные норвежцы предпочитали сидеть на берегах шхер и ловить селедку. Честные шведы – пахать землю. Поэтому в военных начинаниях аристократам всегда было удобнее взаимодействовать с командами этих сорвиголов. Иноземные владыки охотно нанимали викингов на службу. Они сражались и за интересы ромейских (византийских) императоров, и английских королей, и русских князей.
Не исключено, что само слово «Русь» имеет скандинавское происхождение. Некоторые историки придерживаются мнения, что князь Рюрик, приглашенный править новгородцами, происходил из местности Рослаген, находящейся к югу от современного Стокгольма. Еще в VI–VII вв. скандинавы исследовали течение Западной Двины, а затем от ее верховьев дошли до среднерусского междуречья, то есть района Верхней Волги и Оки. Нанеся поражение мадьярской орде, они, по мнению выдающегося историка Георгия Владимировича Вернадского, захватили город Верхний Салтов. Оттуда они пошли вниз по течению Донца и Дона, в конце концов добравшись до Азовского и Северокавказского регионов. В первой половине IХ в. в низовьях Кубани организовалось русско-шведское государство – Русский каганат («каганом» даже в гораздо позднее время именовал древнерусского князя Киевского Ярослава Мудрого глава Русской православной церкви митрополит Киевский Илларион в своем «Слове о законе и благодати»), занимавшееся главным образом торговлей мехами. Численность его населения достигала 100 тысяч человек, но со временем оно пришло в упадок. Причиной тому стало перекрытие донецко-донского речного пути хазарами. Но скандинавы к тому времени проторили дорогу «из варяг в греки» по Днепру и стали ко всеобщей выгоде торговать с Восточной Римской, или Ромейской (Византийской) империей.
Скандинавские саги рассказывают о четырех норвежских конунгах – членах королевских родов, длительное время живших при дворах русских князей. Олава Трюгвассона (сына Трюгви) выкупил из рабства его дядя по матери Сигурд, приехавший в Эстландию (Эстонию) собирать дань с эстов для русского князя, и привез ко двору Владимира Красное Солнышко. Олав Харальдссон бежал из Норвегии от своих политических противников к князю Ярославу Мудрому и княгине Ингигерд. Магнус Олавссон был оставлен в шестилетием возрасте князю Ярославу его отцом, Олавом Харальдссоном, вернувшимся в Норвегию и погибшим там в 1030 г. Гаральд (Харальд) Сигурдарсон бежал из Норвегии после поражения Олава Харальдссона, Русь заменила ему на время дом и явилась отправным пунктом для всех его дальнейших странствий. На Русь он отсылал все награбленные в Африке и Восточной Римской империи (Греции, Византии) богатства.
Появление на Руси Олава Трюгвассона было предсказано заранее. Согласно скандинавским сагам, мать князя Владимира была великой пророчицей. Однажды Владимир спросил ее, не видит или не знает она какой-либо угрозы или урона, нависших над его государством, или приближения какого-либо немирья, опасности или покушения на его владения. Она ответила: «Не вижу я ничего такого, сын мой, что я знала бы, могло принести вред тебе или твоему государству, а равно и такого, что спугнуло бы твое счастье. И все же вижу я видение великое и прекрасное. Родился в это время сын конунга в Нореге (Норвегии), и в этом году он будет воспитываться здесь, в этой стране, и он станет знаменитым мужем и славным хевдингом, и не причинит никакого вреда твоему государству, напротив, он многое даст вам».
В двенадцатилетнем возрасте Олав спросил князя, нет ли каких-нибудь городов или округов, которые были бы отняты у него язычниками, присвоившими себе его владения и честь. Князь ответил на вопрос положительно. Юный Олав сказал: «Дай мне тогда какой-нибудь отряд в распоряжение и корабли, и посмотрим, смогу ли я назад вернуть то государство, которое потеряно, потому что я очень хочу воевать и биться с теми, которые вас обесчестили; хочу я положиться в этом на ваше счастье и свою собственную удачу. И будет либо так, что я их убью, либо что они побегут от моей силы». Владимир дал ему войско и корабли, и юный Трюгвассон начал череду своих воинских подвигов. Повелось, что каждое лето он вел войны и совершал разного рода подвиги, а в зимнее время был при дворе у князя. Возвращаясь после одного из походов с небывалой добычей, Олав приказал сшить для кораблей паруса из драгоценной материи. Саги даже утверждают, что Крещение Руси во многом состоялось благодаря влиянию Олава на князя и княгиню. Олав часто призывал их отказаться от идолопоклонства и повторял: «Я никогда не перестану проповедовать вам истинную веру и слово Божие, чтобы вы могли дать плоды для истинного Бога».
Другой Олав – Харальдссон (Гаральдсон) – в молодости много сражался в землях финнов, в Дании, Франции и Испании. Позже, изгнав из Норвегии шведских и датских ярлов, он стал единовластным правителем своей страны. Правил он 15 лет, но был потеснен на престоле Кнутом Великим. Харальдссон бежал на Русь. Ярослав хорошо принял его, предложив остаться и взять столько земли, сколько будет нужно, чтобы содержать свое войско.
После смерти норвежская церковь причислила Олава Харальдссона к лику святых. Некоторые чудеса Олав явил на Руси. Саги повествуют, что у сына одной знатной вдовы образовалась опухоль в горле и мучила его столь сильно, что мальчик не мог глотать пищу, и его считали смертельно больным. Княгиня Ингигерд – жена Ярослава Мудрого – посоветовала ей пойти к конунгу Олаву. Тот не сразу, но согласился помочь. Он провел руками по горлу мальчика и долго ощупывал опухоль, до тех пор, пока мальчик не открыл рот. Тогда конунг взял хлеб и отломил несколько кусочков, разместил из крестом у себя на ладони, затем положил в рот мальчику, и тот проглотил. И с этого момента прошла вся боль в горле. Через несколько дней мальчик был полностью здоров.
После смерти конунга в Новгороде существовала норманнская церковь Святого Олава. Однажды в городе случился такой пожар, что, казалось, ему грозит полное уничтожение. Жители города в страхе толпами стекались к священнику Стефану, служившему в церкви Блаженного Олава. Они надеялись в крайней нужде воспользоваться помощью блаженного мученика. Священнослужитель немедля пошел навстречу их пожеланиям, взял в руки образ и выставил его против огня. Пожар не стал распространяться дальше. Город был спасен.
Саги также рассказывают о романтической любви Ингигерд и Олава Харальдссона. Именно для того чтобы замириться с супругой после ссоры, князь Ярослав согласился взять на воспитание Магнуса – одного из сыновей Олава. При дворе Ярослава было много скандинавских наемников. Согласно договору, князь велел построить для этих варягов «каменный дом и хорошо убрать драгоценной тканью. И было дано им все, что надо, из самых лучших припасов». Одним из предводителей наемников был викинг Эймунд, который тоже стал героем саг. О самом Ярославе саги говорят, что «Ярицлейв-конунг не слыл щедрым, но был хорошим и властным правителем». Эймунд же весь состоит из одних достоинств. В «Пряди об Эймунде» все победы достаются князю лишь благодаря энергии и находчивости его скандинавского наемника. Что ж, таков закон этого литературного жанра. Реальные и вымышленные недостатки господина используются для подчеркивания достоинств главного героя. Совершенно иной образ Ярослава, решительного, активного, целеустремленного и изобретательного в проведении своей политической линии правителя Руси, рисуют древнерусские летописи и другие саги, когда он не связан с ситуативными стереотипами.
О БЕРСЕРКАХ ДРЕВНЕГО МИРА
Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…
Гомер. Илиада
Весьма любопытным в плане стремления проследить истоки «звериной» боевой магии и культа «воинов-верей», уходящих в самую глубь истории военного искусства и истории религии, представляется эссе филолога В. А. Косарева «Гнев Геракла» [12]12
Косарев В. А.Гнев Геракла. Классическая филология на современном этапе. Сб. научных, трудов. М., 1996. С. 92—100.
[Закрыть], посвященное сюжетному анализу античного мифа о бешенстве Геракла. Цель эссе – пояснить потаенный смысл мифа, сосредоточившись на истолковании такого непременного свойства эпического героя, как гнев, ярость, бешенство, неистовство (в том числе – боевое), соотносимые с понятиями не только «отрицательного», но и, условно говоря, «положительного» ряда – идеала доблести эпического героя и боевого неистовства древнего германца.
Проследить это явление можно, по мнению Косарева, обратившись, прежде всего, к самому мифу о безумии Геракла. В античном изобразительном искусстве мифоэпический сюжет бешенства, обуявшего Геракла, встречается крайне редко. Именно поэтому он попадает в поле зрения историка искусств как уникальный и требует более подробного рассмотрения.
Таково изображение на краснофигурной вазе, апулийском кратере № 1684 из Мадридского музея археологии, датируемой серединой IV в. до Р. Х. Роспись на вазе принадлежит кисти Асстея. Художник изобразил Геракла в полном боевом снаряжении, готовящимся бросить в огонь собственного сына, с балкона на него смотрят Мания, Иолай и Алкмена, рядом с Гераклом его жена Мегара. Тот же сюжет Еврипид использовал в трагедии «Геракл». Какова же мифоэпическая основа этих произведений?
Аполлодор в своей «Мифологической библиотеке» (П, 4,2) пересказывает миф об охватившем Геракла безумии следующим образом: «После сражения с минийцами случилось так, что Геракл был ввергнут ревнивой Герой в безумие и кинул в огонь собственных детей, которых ему родила Мегара, вместе с двумя сыновьями Ификла. Осудив себя за это на изгнание, он был очищен от скверны Теспием. После этого он прибыл в Дельфы и стал спрашивать у бога, где ему поселиться. Пифия впервые назвала тогда Геракла его именем и повелела ему поселиться в Тиринфе, служить в течение двенадцати лет Эврисфею и совершить десять подвигов, которые ему будут предписаны. Таким образом, сказала она, совершив эти подвиги, он станет бессмертным».
Есть, однако, причины, позволяющие, как считает Косарев, подвергнуть критике мотив вражды Геры к Гераклу. Во-первых, именно после своего безумия Геракл стал способен к подвигам, обещающим бессмертие; во-вторых, безумие для мифологического сознания далеко не всегда являлось безусловно отрицательным качеством. Причины возникновения этого мотива, видимо, могли быть следующие: подобные проявления буйства скорее свойственны «необузданному» варвару, и потому Гера не могла желать Гераклу блага, когда насылала на него безумие, следовательно, Гера с Гераклом – непримиримые враги.
Литературная форма произведения может значительно изменить миф, лежащий в его основе. Любое новое объяснение одного эпизода влечет за собой изменение всего рассказа в целом. Субъективность литературной формы может быть снята сравнением сюжета и персонажа со сходными в мифах другого, родственного народа. Таким народом могут быть германцы, ряд литературных произведений которых сохраняет интересующие нас и необходимые для истолкования античного мифа мотивы.
Примером такого сопоставления может послужить известное сочинение Публия Корнелия Тацита «О происхождении германцев и местоположении Германии» (порой именуемое сокращенно «О происхождении германцев» или просто «Германия»). Описывая религиозные верования германцев, Тацит сравнивал их с греко-римскими мифами и пользовался именами римских богов. Упоминал он и Геркулеса (как римляне называли Геракла). Считается, что при этом он имел в виду либо Зигфрида – Сигурда, либо Донара – Тунара – Тора. Оба мнения вполне справедливы, так как Геракл-Геркулес в самом деле имеет черты, свойственные и тому, и другому.
Сопоставления мотива позволяют уяснить источники высокого боевого духа Геракла. Они связаны с мотивом оборотничества, важным для мифоэпического сюжета борьбы с чудовищами (как в человеческом, так и в нечеловеческом облике), присутствующим в сказаниях о Геракле, Зигфриде, Беовульфе («Пчелином Волке», т. е. Медведе), Торе. Трактовка этих образов часто имеет сходные черты. Так, жизнь Геракла при некотором обобщении можно было бы описать следующими словами из исландской «Саги о Гисли, сыне Кислого»: «Жил человек по имени Бьерн (буквально: «медведь») Белый [13]13
Хвитабьерн (Хвитабьорн), т. е. «Белый Медведь».
[Закрыть]. Он был берсеркр. Он разъезжал по стране и вызывал на поединок всякого, кто ему не подчинялся». Жизнь такого «медведя» – постоянная битва; им движет гнев. Гераклом также руководит гнев, ярким проявлением которого и является бешенство («менос») героя. Эта сила впоследствии, в литературе Античности, и станет символом безумия, умопомрачения, утраты рассудка.
Таким образом, с течением времени, в процессе эволюции мифа точка отсчета поменялась: с одной стороны, гнев воспринимался более всего как эффективное боевое средство (бойцовское качество), необходимое для победы над противником на поле боя, с другой же стороны, следствием его становилось отрицание рассудка, что для литературной традиции с идеалом эпического героя не совпадает. Но на раннем этапе существования мифа «гнев» входит в понятие идеала эпического героя. Это хорошо видно на примере гомеровского эпоса. Сама доблесть «хорошего», «лучшего», как правило, «буйная», «неукротимая», «неистовая». У Ахилла-Ахиллеса, самого доблестного из ахейских героев, – ужасающая, страшная «склонность», «способность» впадать в эпический гнев (свойственная, кстати говоря, уже в эпоху Античности величайшему полководцу эллинского мира – гегемону всей Греции, царю Македонии, а затем и «всей Азии» Александру Великому, способному в припадке буйного, бешеного гнева не только обречь на истребление всех жителей неприятельского города, но и убить лучшего друга; кстати говоря, именно из-за этой склонности к бешенству Александра Македонского сравнивали с Ахиллом, которому он подражал, как современники, так и историки последующих эпох). Эпический гнев героя сопутствует едва ли не любому его деянию, а потому «склонность», «способность» Ахилла, по существу, всеобъемлюща. Гнев, ярость – свидетельство сил эпического героя. Гнев Ахилла, явившийся в своей значительности тем композиционным стержнем, на котором держится вся поэма, не утихает ни на минуту.
Сходные качества, как наиболее связанные с понятием воинской доблести, ценили в бойцах и германцы. Манера воевать по-германски в более поздних, средневековых источниках описывалась, например, следующим образом: «…его (Одина) воины бросались в бой без кольчуги, ярились, как бешеные собаки или волки, кусали свои щиты, и были сильными, как медведи или быки. Они убивали людей, и ни огонь, ни железо не причиняли им вреда. Такие войны назывались берсеркрами» («Сага об Инглингах», VI). Доблесть германского воина заключалась в свирепой отваге и безудержной воинской силе. Германский способ и германская манера ведения боя были противоположны «механическому», слаженному, как машина, римскому рационально-геометрическому строю и соответствовали скорее описанному многократно Гомером ряду поединков сильнейших передовых бойцов. Римляне придерживались, прежде всего, согласованности военного строя, дисциплины. В противоположность им германцы развивали мистическое wut или odhr – священное, божественное неистовство. Кто пал его жертвой, тот был одержим богом. Тут нащупывается явная точка соприкосновения с древними греками.
Германские корни wut; odhr обозначают как боевую ярость, так и одержимость, божественную энергию, свойственную не только воину, но и поэту, сказителю, скопу (древнегерманскому дружинному певцу-скопу соответствовал более поздний скальд эпохи викингов, аналогичный кельтскому барду, а также древнегреческим аэдам и рапсодам). К этим корням восходит имя одного из главных богов воинственного германского пантеона: «Водан, что значит «ярость», правит войнами и вселяет в людей храбрость перед лицом врагов». Существует версия, что Водан является скрытым виновником смерти своего сына Бальдра (Бальдура). Свиту Одина составляли волки и вороны. Воины, наиболее выдающиеся своим «вут» (wut), именовались «берсерк(р)» (berserkr), «ульфхедин» (ulfhedinn) и «бьорнульф» (bjoemulf). С таким «воином-зверем» может быть сопоставлен и «лев» Геракл.
Согласно мифу, в результате обуявшего его бешенства, Алкид (от αλκή) – доблесть) получил новое имя Геракл, что значит «прославленный Герой». Между Герой и Гераклом, таким образом, также существовала связь, характер которой до сих пор не совсем понятен.
Очевидно, в основе ее может лежать следующее. Гера – отнюдь не миролюбивая богиня. Греческое слово «Гера» – «защитник, охранитель», отсюда «герое», или, по-русски: «герой». Культ Геры был связан, прежде всего, с местами обитания наиболее воинственных греческих племен, проживавших в Аргосе и Спарте. Гнев – одна из главных черт характера богини Геры. По количеству упоминаний обуявшего ее гнева, описанного в различных терминах в «Илиаде», Гера опережает всех других богинь и богов. Она гневается тринадцать раз, Зевс – десять, Афина – шесть, Аполлон – пять (один раз гневаются его спутницы-музы), Арес – восемь, Артемида – четыре, Посейдон – два. На Зевса, «отца богов и людей», не смеет гневаться никто, кроме Геры (Гомер «Илиада», XXIV, 55; VIII, 46; XV, 104; I, 24). От Геры произошла распря и брань между богами (Гомер «Илиада», XXI, 513). Бог брани (войны) и ярости Арес – родной сын Геры, с которой он, по выражению Рошера, разделяет ее ярость (менос). Или в русском переводе Н. И. Гнедича:
Только тебе и приятны вражда, да раздоры, да битвы.
Матери духу тебя, необузданный, вечно строптивый,
Геры, которую сам я с трудом укрощаю словами
(Гомер «Илиада», V, 892).
Богиня Гера может выступать и как первоисточник, творец эпического гнева – лучшего качества древнего воина, то есть Гера является богиней, сходной по этой функции с германским Одином. Интересно и то, что, в отличие от «Илиады» (целиком посвященной теме Троянской войны) упоминаний гнева Геры в другой поэме Гомера – «Одиссее» (посвященной, несмотря на наличие и в ней батальных сцен, приключениям Одиссея на его многотрудном пути домой на остров Итаку) нет вообще.
Кроме параллели Геракла с Герой как подательницей качеств эпического идеала, существуют указания и на их родственные связи. В Беотии сохранился миф о том, что Гера выкармливала Геракла во младенчестве (Павсаний, «Описание Эллады», IX, 25, 2). Геру отождествляют с римской Юноной, супругой Юпитера (обе восходят к одной грекоиталийской богине). В Италии известны несколько сюжетов, показывающих связь Юноны с Геркулесом (римский вариант имени Геракла). Сюжет отдачи Юпитером Юноны в жены Геркулесу, встречается дважды, Гера и Геркулес вместе борются с дикими животными оленем и кабаном. Так мотив связи переплетается с мотивом помощи в трудной ситуации.
Если мы примем такую трактовку, то, по мнению Косарева, вариант вражды между Герой и Гераклом отпадает, по крайней мере, с точки зрения изначального идеала эпического героя. Безумие Геракла является превосходной степенью того гнева, или бешенства, которым не «покарала», а, напротив, «одарила» его Гера. Ведь гнев – основная черта характера этой богини, и сама Гера как бы воплощается в сверхчеловеческом гневе героя, Геракл становится ее ипостасью, а гнев оказывается даром. Дар этот имеет ценность, вполне соответствующую идеалу эпического героя. Вызывает сомнение, могла ли Гера наградить Геракла каким-либо другим качеством, кроме гнева. Этот дар мог получить и Александр-Парис, если бы захотел, и, присудив Гере «яблоко раздора», стал бы владыкой Вселенной (Гомер «Илиада», XXIV, 25–30; Еврипид «Андромаха», 274–308).
Вполне вероятно, что сопутствующим свойством такого дара была и неуязвимость героя. Подобная связь широко представлена в скандинавском материале. Норманнскому берсерку обычно не нужны ни доспехи, ни щиты, железо его не берет, он даже не заботится об отражении вражеского удара. Разновидностью этого воззрения является и общее для многих европейских народов представление, что оборотня можно убить не железным или каким бы то ни было иным металлическим оружием, а только осиновым колом (мотив губительной для вервольфа-вурдалака серебряной пули появился значительно позднее, но и он нисколько не отменяет представление об эффективности осинового кола). Неуязвимы Сигмунд, Сигурд, Синфьотли, неистовый – т. е. бешеный – Роланд в одноименной поэме Лодовико Ариосто («Орландо Фуриозо») и другие.
Наиболее подверженный приступам необузданного гнева-меноса герой «Илиады» – Ахилл – обладает неуязвимостью, полученной им от матери-богини еще в детстве. Если считать яростную доблесть героя залогом неуязвимости, то помощь Геры Гераклу (дар бешенства) вполне соответствует нежной заботе Фетиды об Ахилле. Именно неистовое безумие Геракла открывает ему возможность для совершения знаменитых подвигов.
В чистом виде мотив неуязвимости Геракла не встречается, но некоторые следы его отражаются в эпосе опосредованно. Геракл убил двух львов, а шкура одного из них (Немейского льва) делала своего носителя неуязвимой (Аполлодор «Мифологическая библиотека», II, 5, 1). Львиная шкура – один из главных атрибутов Геракла. Когда Геракл держал адского пса Кербера, дракон на хвосте последнего не мог укусить Геракла, неуязвимого для ядовитых зубов чудовищного зверя. Умирает Геракл не от оружия, и даже не от яда, хотя яд и доставляет ему ужасные мучения, но добровольно взойдя на костер. Связь огня и неуязвимости, видимо, не случайна – огонь выжигал все смертное (Аполлодор, там же, III, 13, 6). Мать Ахилла – морская богиня Фетида – держала своего сына-младенца в огне, чтобы сделать его неуязвимым и бессмертным. Богиня плодородия Деметра закаляла в огне Демофонта (Гомер «Гимны», V). Видимо, здесь перед нами следы обряда инициации, связанного с нашим материалом.
Звериная шкура, которую носит Геракл, – атрибут не случайный. Шкура дикого зверя как облачение героя часто указывает на высокую, сверхчеловеческую его доблесть. Так царю Адрасту было предсказано, что лев (в другом варианте – медведь) и кабан станут его зятьями. Это и произошло, поскольку герои Полиник и Тидей носили, соответственно, шкуры льва (в другом варианте – медведя) и кабана. Оба героя явно превосходили яростью других людей. Именно по степени их ярости Адраст и устанавливает их благородство (Стаций «Фиваида», I, 397).
Германский материал обильно представляет нам подобные элементы архаичного тотемизма. В «Саге о Гисли, сыне Кислого» главному герою видится сон, предупреждающий его о грозящей опасности. Вот один из эпизодов сна: «Вперед бросился один из них со страшным воем, и я будто разрубил его пополам. И почудилось мне, будто голова у него волчья». Этот эпизод подразумевает берсерка, с его особой манерой воевать, манерой, основывающейся на иррациональной, всесокрушающей ярости. В этой ярости человек выходил из себя, утрачивал человеческий облик. В «божественном неистовстве» (wut) он становился лютым зверем, тем самым зверем, шкуру которого он носит, которого почитает как тотем. Воплощается зверь в человека после прохождения ритуального обряда посвящения (инициации). Схватка со зверем, в результате которой поверженный противник поедается и воплощается в победоносном герое, – один из видов ритуальной воинской инициации.
Знаком прошедшего воинскую инициацию является шкура убитого зверя или другие его части тела (зубы, лапы с когтями). Подобную инициацию проходил Геракл, когда душил льва. Полузверь кентавр Хирон вскармливал Ахилла внутренностями диких животных (Аполлодор, III, 13, 6). Для приобретения сил, нужных для убийства Сигурда, Готторму давали внутренности волка и ворона (животные-спутники Одина) («Старшая Эдда». Отрывок песни о Сигурде, 4).
Что касается слова «берсерк(р)», то большинство исследователей, как указывалось выше, трактуют его как «медвежья шкура», «некто, превратившийся в медведя». Близнец и соратник слова «берсерк» (berserkr) – «ульфхедин» (ulfhedinn) – слово, точно соответствующее славянскому волколаку. Реже встречается «бьорнульв» («медведеволк» или «волкомедведь»).
Оборотням приписывают жажду человеческой крови. Вероятно, этот след обычая поедания поверженного противника-первопредка (зверь-тотем) либо врага. Так, «воин-кабан» Тидей, по Стацию, съел мозг ранившего его воина (Стаций «Фиваида», VIII, 760).
Геракл обладает главным атрибутом оборотня-берсеркра, а именно – звериной (в его случае – львиной) шкурой (чтобы перестать быть оборотнем, надо сжечь шкуру – «Сага о Вельсунгах», Сигмунд с сыном надевают волчьи шкуры), а также звериным неистовством первопредка. Кстати говоря, в «Илиаде» у Гомера и в других мифах Троянского и Фиванского цикла описываются и другие «воины-звери», носящие в знак присущего им боевого неистовства шкуры диких зверей. Микенский царь и предводитель всего осаждающего Трою ахейского войска, «пастырь народов» Агамемнон облачен в львиную шкуру (подобно Гераклу – «архетипу» греческого героя-воителя), его брат царь Спарты Менелай – в шкуру пардуса (пантеры, или леопарда) – кстати, в леопардовую шкуру облачен и его враг и похититель супруги Менелая Елены Прекрасной, виновник Троянской войны – царевич Александр (Парис), сын царя Трои – «копьеносца» Приама. Троянский лазутчик Долон, убитый ахейским героем Диомедом (не побоявшимся ранить своим копьем саму богиню Афродиту и грозного бога войны Ареса!) облачен в волчью шкуру (настоящий «варульв-ульфхедин»!). Отец Диомеда – герой Тидей – облачен в шкуру дикого кабана (настоящий «свинфюлькинг»-«свинфилькинг»!). Сын фиванского царя Эдипа герой Полиник, предводитель «похода семерых против Фив» – в львиную (как «отец и образец всех героев» Геракл) или медвежью шкуру (чем не «берсерк»)! Зверь-первопредок, убитый при инициации, имеет многочисленные функции помощника и воспитателя воинов. Одно из самых популярных животных, выступающих в роли воспитателя, – конь. Конь сопровождает воина и при жизни, и после смерти. Кости и изображения коней, предметы упряжи постоянно находят в погребениях Европы и Азии. Кони некоторых героев имеют божественное происхождение. Конь Геракла Арейон рожден богиней плодородия Деметрой (Павсаний «Описание Эллады», VIII, 25, 4), кони сына Дардана Эрихфония родились от северного ветра Борея, сына Эола (Гомер «Илиада», XX, 219–229). Гарпия Подарга родила бессмертных коней, подаренных Ахиллу («Илиада», XVI, 148–151). Скакун Одина Слейпнир рожден богом огня Локи, обернувшимся кобылой (Снорри Стурлуссон «Младшая Эдда». Видение Гюльви). Кентавр Хирон воспитывает Ясона, Тесея, братьев-Диоскуров (Кастора и Полидевка), Геракла, Ахилла. Когда же воспитанник подрастает, воспитатель нередко гибнет от его руки. Кентавры Хирон и Фол умирают, раненые стрелой Геракла (Аполлодор. Там же, II, 5,4). Их смерть напоминает ритуальное убийство тотема-первопредка.