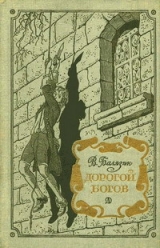
Текст книги "Дорогой богов"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
В конверте оказалось сразу два письма. Одно из них было написано полномочным представителем Соединенных Штатов во Франции доктором Франклином, второе – графом Морисом Беньовским.
Франклин сообщал о том, как после больших трудов ему наконец удалось разыскать мистера Беньовского и переслать письмо, посланное из-за океана «мистером Устьюшаниновым». Столь длительную задержку Франклин объяснял тем, что во время войны между Англией и США почтовые связи были очень затруднены. Беньовский же, почти ничего не сообщив о своих нынешних обстоятельствах, извещал Ваню о твердом намерении в самое ближайшее время прибыть в Соединенные Штаты.
«Подожди меня немного, Иване, мой бесценный друг, – писал он. – Я не могу написать здесь, с какою целью решил переплыть океан, однако заверяю тебя, что предприятие, мною замышленное, не оставит равнодушным и тебя. Судьба свела нас воедино не для того, чтобы мы покинули друг друга в час, когда исполнение наших давних мечтаний близко как никогда».
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,
в которой пятеро мужчин не могут согласиться друг с другом по ряду вопросов, касающихся добра и зла, справедливости и морали
В самом конце 1783 года в Нью-Йорке, в таверне толстяка Жерара, собралось пять молодых мужчин. Все они были одеты в штатское платье, но опытный хозяин таверны сразу же угадал, что перед ним военные. Он узнал самого высокого из них – прославленного генерала Лафайета, но, узнав, не подал вида, хотя стал прислуживать посетителям с необыкновенным рвением.
Старик Жерар понял, что пятеро джентльменов собрались, чтобы проводить одного из своих товарищей. Вскоре он угадал, кого именно провожают эти солдаты, одетые в партикулярное платье. Уезжавший в Европу был невысок ростом, худощав, большеглаз и длиннонос. Двое из провожавших называли его по имени Анри, двое других – мсье Сен-Симон.
По чистому французскому выговору Жерар понял, что, кроме Лафайета и Сен-Симона, еще один из них – француз, Он был строен, широк в плечах, белокур и ясноглаз. Французы называли его Луи-Александр, двое других, чью национальность Жерар установить затруднился, называли его мсье Бертье.
Посетители заказали самое лучшее вино, но пили мало. Их разговор был необычен для прощающихся друг с другом солдат. Они не говорили об отшумевших битвах и не вспоминали старых товарищей. Они говорили о будущем, о справедливости, о боге и о человечестве. Разговор в основном вели двое: Сен-Симон и иностранец постарше – мистер Костюшко.
Кабачок был небольшой и, кроме этих пяти посетителей, в нем никого не было. Поэтому старый Жерар хорошо слышал все, о чем говорили расстающиеся товарищи.
Первым поднял тост генерал Лафайет.
– Друзья, – сказал генерал, – мы провожаем сегодня лейтенанта Анри, носившего во Франции титул графа де Сен-Симона. Годы, проведенные на земле Америки, лишили Францию одного из ее пэров, но эти же годы подарили Франции нового гражданина – Анри Сен-Симона. Я думаю, что отныне, где бы мы ни жили и что бы мы ни делали, мы останемся республиканцами. На нас, переживших американскую революцию, лежит особая ответственность перед человечеством. Первыми после Кромвеля мы зажгли пламя восстания и победили. Но наше отличие от Кромвеля состоит в том, что мы не пролили напрасно ни одной капли благородной крови. Во главе нашей революции оказались правильно мыслящие люди, а нашим вождем был Джордж Вашингтон – джентльмен по происхождению и духу.
Мы решительно взялись за оружие и доказали, что не позволим никому посягнуть на наши привилегии и права. При Этом мы с самого начала дали понять, что наше движение хотя и допускает к участию в нем представителей низов, но никогда не пойдет по угодному им пути.
Наша большая заслуга – и я боюсь показаться нескромным – состоит в том, что, опираясь в отдельные моменты на мелких фермеров и наемных городских работников, мы старались не допускать их к руководству революцией и тем спасли сотни человеческих жизней, ибо нет зверя кровожаднее, чем чернь, овладевшая властью.
Должен признать, что монархии Европы являют сегодня далеко не самый лучший образец правления. Если монархи не приблизят к себе людей честных и мыслящих, то вся Европа станет республиканской. Но короли не сделают этого – они слишком самонадеянны и спесивы. И когда в Старом Свете короны одна за другой станут падать с их голов, тогда к власти придем мы – благородные республиканцы, никогда не кланявшиеся монархам и никогда не заигрывавшие с чернью.
Мы установим справедливость, основанную на наших принципах. И в обществе, созданном нами, каждый получит то, на что он имеет право. А если против наших установлений подымется чернь, мы будем по отношению к ней более беспощадны, чем самые жестокие монархи.
Я желаю вам, Анри де Сен-Симон, возвратившись в Европу, хорошо подготовить себя для будущего и в грядущей революции, если она произойдет, занять подобающее вам место.
Лафайет чуть приподнял бокал и сделал два маленьких глотка. Сен-Симон грустно улыбнулся. Он сидел на резном деревянном стуле, сильно откинувшись на спинку, и медленно поворачивал в руках узкий высокий бокал, налитый до половины вином. Сен-Симон заговорил задумчиво и неторопливо. Голос у него был тихий, чуть хрипловатый. Казалось, он испытывает смущение, отвечая Лафайету.
– Менее всего, друзья мои, мне хочется быть неискренним с вами. И, кроме того, мне не хочется огорчать вас. Но если я окажусь перед выбором – сказать ли горькую правду, которая придется вам не по сердцу, или солгать, дабы сохранить былое согласие, – я выберу первое.
Я возвращаюсь в Европу, смятенный духом. Я не могу назвать себя революционером и республиканцем, хотя, видит бог, я ненавижу тиранию не меньше, чем любой из вас. Годы, проведенные в Америке, убедили меня в пагубности монархии, и в этом смысле пэр Франции, граф де Сен-Симон, погиб. Но эти же годы не сделали из бывшего графа и республиканца.
Военная и политическая победа американских буржуа не принесла народу этой страны того, на что я надеялся и о чем мечтал, отправляясь сюда сражаться. Я понял, что главное – не строй, какой устанавливается в результате победы более сильного над более слабым. Главное – это человек, его духовный мир, его этика и его идеалы. Вслед за Жан-Жаком я могу воскликнуть: «Человек! Не ищи причины зла! Ты – эта причина!» И вслед за Цицероном, я могу заявить: все неопределенно, туманно и мимолетно, одна добродетель не может быть сокрушена никаким насилием. Наконец, привлекая к себе в союзники еще одного властителя дум, я обращусь к кёнигсбергскому отшельнику. Старик Кант говаривал, что мы должны считать обязательными для нас не божьи заповеди, а то, что мы считаем внутренне обязательным для нас.
Я считаю, что всякий человек должен руководствоваться некоторыми непреложными принципами. У меня не было возможности создать какое-то новое этическое учение, я не свел Эти принципы даже в какую-нибудь систему, но сегодня то, во что я верю, выглядит примерно так:
Первое – мы должны иметь мужество верить в разум и пользоваться им. Мы должны развивать наш разум нравственно. Лютер заметил как-то: «Мы не можем помешать птицам пролетать над нашею головою, но мы властны не дать им свить у нас на голове гнезда. Точно так же мы не можем помешать дурным мыслям мелькать у нас в голове, но мы властны запретить им свить там гнездо, чтобы высиживать и выводить там злые поступки».
Во-вторых, веря в разум человека, мы должны всегда иметь на своей стороне лучшие свойства его души – порядочность и честность. Ибо план сатаны заключается в том, чтобы с помощью тысячи доводов и угроз разлучить людей с их совестью. Я верю, что сделать людей счастливыми можно только после того, как они станут нравственными и мудрыми.
В-третьих, всегда прибавляй, всегда подвигайся, никогда не стой, не возвращайся назад и не сворачивай. Всегда будь недоволен тем, что ты есть. И если ты скажешь: «С меня довольно», ты погиб. И в этом вечном движении вперед прежде всего – я снова говорю вам это – мы должны развивать свой разум, развивать без какого бы то ни было ограничения, ибо передовые движения порождаются передовыми идеями. Напротив, враги разума, обороняясь, всегда окружают себя завесой невежества, уподобляясь каракатицам, которые в минуты опасности создают вокруг себя завесу из чернил.
И если жажда богатства не собьет меня с пути служения истине, то я отдам мою жизнь науке. Я хочу дать человечеству учение, которое сделало бы людей счастливыми, и в связи с этим я хотел бы напомнить вам слова незабвенного Сенеки: «Мудрость – предмет великий и обширный, она требует всего свободного времени, которое может быть посвящено ей. С каким бы количеством вопросов ты ни успел справиться, тебе все-таки придется промучиться над множеством вопросов, подлежащих исследованию и решению». Я знаю, что это так, и все же надеюсь, что сумею справиться с наиболее важными. За это я и прошу поднять ваши бокалы, господа!
Все не спеша приподняли бокалы.
Бертье, тщательно подбирая слова, заговорил короткими, рублеными фразами:
– Я солдат, Анри. Я испытал счастье быть офицером победоносной армии. К тому же армии, которая боролась за правое дело. Если бы я сказался на месте Корнуэллиса, я пустил бы себе пулю в лоб. Рано или поздно я тоже окажусь в Европе и, наверное, предложу свою шпагу королю Франции. Ты не оставил мне места в той схеме, которую нарисовал здесь, Анри. Что делать нам, солдатам? Брать в руки плуг? Учить деревенских детей грамоте? Но профессия солдата так же стара, как и профессии учителя и крестьянина. И так же почетна. Все дело в том, Анри, солдатом или офицером какой армии я буду. Ведь пока существуют республики и империи, будут существовать и армии. И может быть, именно армии будут сбрасывать королей с тронов и насаждать справедливость. Твоя схема, Анри, настолько же хороша, насколько и беспомощна. В ней нет места солдатам, и ее некому будет защищать. Я тоже читал незабвенного Сенеку, но, послушав тебя, Анри, мне на память пришли его другие слова: «Ученые больше думают о разговорах, нежели о жизни. Их чрезмерное мудрствование порождает зло и может быть весьма опасным для истины».
Резкость Бертье нарушила дружественный тон завязавшейся за столом беседы.
– Друзья, – вмешался Костюшко, – вы не так далеки друг от друга в своих воззрениях, как это может показаться сначала. Мсье Сен-Симон высказал верные и благородные мысли о предназначении человека и о роли разума в истории человечества. Мсье Бертье коснулся, как я понял, другой стороны этого же вопроса. Он доказал нам, что государство, основанное на разуме и морали, обязано уметь защищаться. Только союз солдат и философов может оказаться жизнестойким и прочным. Поэтому выпьем за союз солдат и философов, за мысль, подкрепленную силой, и за силу, направленную верной и благородной мыслью!
Слова Костюшко были встречены общим одобрением.
Все оживились и повеселели.
Лафайет, чуть покраснев от выпитого вина, спросил с легкой иронией:
– И где же, гражданин Анри, вы собираетесь приложить к делу вашу будущую теорию? В Англии? Во Франции? В России?
Сен-Симон смешался. И вновь его выручил Костюшко:
– Мы практически применим теорию мсье Сен-Симона, как только освободим мою родину, Польшу, от апокалипсической блудницы Екатерины!
Бертье, желая загладить свою недавнюю резкость, улыбнувшись, добавил:
– И в этом случае, господа, начнут солдаты, а философы придут следом за ними.
Лафайет, старший среди собравшихся, обратил внимание на то, что из сидящих за столом молчит только Ваня,
– Я помню, как вы произнесли неплохой спич в присутствии самого главнокомандующего, – проговорил он, обращаясь к Устюжанинову.
– У русских есть поговорка: «Слово – серебро, молчание – золото», – ответил Ваня. – Я здесь самый младший и по званию и по возрасту. И я получу больше, если послушаю любого из вас, нежели если буду говорить что-либо. Кроме того, я убежден, что знаю очень немного, и потому могу заблуждаться по поводу предметов, которые вам всем кажутся очевидными. Тем более, что Жан-Жак, которого здесь уже упоминали, кажется, высказал однажды мысль, что незнание не делает зла; пагубно только заблуждение. Заблуждаются же люди не потому, что знают, а потому, что воображают себя знающими. Я же, джентльмены, хотел бы сказать, что сильно сомневаюсь в возможности верно предугадать будущее. Сегодня народ Америки шагнул далеко вперед, но разве можно утверждать, что завтра какой-нибудь другой народ не сможет шагнуть еще дальше и провозгласить еще более великие идеи и принципы?
Сен-Симон улыбнулся:
– Я вижу, что здесь не я один принадлежу к славному ордену философов. Мой новый друг не столь категоричен, как я, и не настолько самонадеян, но видит бог, скромность не единственное его достоинство. Я хочу выпить за дружбу задиристого галльского петуха с уверенным в себе русским медведем! – И он, потянувшись через стол, чокнулся с Ваней.
Через час, когда настала пора расходиться по домам, Лафайет спросил Ваню:
– А вы не собираетесь последовать примеру легких на подъем волонтеров-французов?
– Собираюсь, сэр, – ответил Ваня. – Только сначала я должен дождаться одного старого друга. Два месяца назад я получил от него письмо и со дня на день ожидаю его прибытия сюда.
Выйдя из дверей таверны Жерара на пустую темную набережную, они крепко пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны, не зная, что в последний раз были все вместе.
ГЛАВА ПЯТАЯ,
в которой сталкиваются две вечно враждебные друг другу силы – алчность и бескорыстие, и алчность одерживает верх, несмотря на то, что против нее ополчаются все пророки и поэты белого света
Беньовский плакал. Плакал по-детски, не стесняясь слез, громко всхлипывая и уткнувшись лицом в плечо Вани. Он обхватил Ваню обеими руками, и Ване руки Беньовского показались маленькими и цепкими. Ваня стоял не шелохнувшись. Он испугался слез учителя и с удивлением заметил, что не радость переполнила его сердце при этой встрече, а жалость.
Ваня сначала не узнал Беньовского. Он ожидал увидеть былого Мориса Августа в небесно-голубом камзоле, расшитом серебряными звездами, с золотой шпагой на боку, с орденами Святого Людовика и Белого орла на груди, в парижском парике и сверкающих ботфортах. А вместо этого навстречу ему по грязному деревянному трапу суетливо сбежал, сильно хромая, просто одетый, коротко стриженный мужчина без шпаги и парика. Он быстро обвел глазами небольшую кучку зевак, собравшихся на пристани Нью-Йорка, и не узнал среди них Ваню. И когда Ваня широко шагнул навстречу ему, Беньовский, по-бабьи охнув, приложил сначала обе руки к сердцу, а затем ткнулся носом в плечо и, крепко обхватив его руками, заплакал, сотрясаясь всем своим маленьким телом.
О, встречи старых друзей! Долгожданные или совсем неожиданные, вы совершаете чудо, возвращая участников в те дни, когда они были вместе и когда жизнь их чаще всего была холодной, голодной, трудной, опасной и все же чертовски хорошей. И чем труднее она была, тем крепче оказывалась их дружба и яснее воспоминания, пронесенные сквозь годы.
О, встречи старых друзей, когда останавливается сердце и глаза находят новые шрамы и новую седину! И все же еще более отмечают они черты старые, незабытые, которые не подвластны времени: жесты, улыбку, взгляд, казалось бы, позабытые словечки и воскресающие на глазах привычки.
О, встречи старых друзей, подтверждающие, что ничто не вечно под луной, но подтверждающие так же и то, что ничто не исчезает бесследно…
Беньовский оторвался от Ваниного плеча, чуть сконфуженно улыбнулся и достал из кармана своего коричневого грубошерстного камзола сильно надушенный платок. Улыбка его была такой же, как и раньше, и платок был тонким и белоснежным, как и встарь, и даже духи были те же самые, что и прежде.
Он сильно постарел и осунулся, голова его стала наполовину седой, но движения оставались по-прежнему быстрыми и энергичными.
Беньовский встряхнул головой, отошел на шаг в сторону и, наклонив голову к плечу, ласково улыбаясь, подглядел на Ваню.
– Ну, здравствуй, Иване, здравствуй, сынок, – сказал он и, быстро шагнув вперед, еще раз обнял Ваню.
– Здравствуй, учитель! – ответил Ваня, и так сдавил Беньовского в объятиях, что тот даже охнул.
– Ну вот и привел господь свидеться, – сказал Беньовский по-русски и засмеялся. И добавил тоже по-русски: – Делу время, потехе час. Я прикажу начинать разгрузку корабля, а сегодня попозже вечером жду тебя у меня в каюте.
Стол был накрыт с превеликою роскошью: старое бургундское, пулярки, паштет по-страсбургски, устрицы и омары, как будто только что были поданы каким-нибудь парижским ресторатором. Новые свечи ровно и ярко горели в тяжелых серебряных шандалах.
Ваня узнал старый компас, старый секстан и сундук, в котором когда-то хранились золото и заветный бархатный конверт. Как только Ваня посмотрел на сундук, Беньовский перехватил его взгляд и, повернув ключ, откинул крышку.
– Здесь нет золота, Иване. Его заменяют бумаги, бумаги и бумаги: векселя, поручительства, облигации и еще добрая сотня банкирских ухищрений, заменяющая дублоны и луидоры.
Беньовский захлопнул крышку, со звоном повернул ключ и, протянув руку к столу, сказал:
– Садись, Иване. Нас ждут более приятные дела, чем обсуждение курса ценных бумаг на лондонской бирже.
Они проговорили всю ночь. Ваня рассказал Беньовскому обо всем, что произошло с ним после того, как отплыл он из Портсмута. Беньовский поведал ему, как он прожил последние семь лет. После отъезда Вани он еще около года оставался в доме Гиацинта Магеллана – заканчивал мемуары о своих приключениях.
– Ах, эти мемуары, – смеясь, проговорил Беньовский, – они интересны, но истина часто приносилась мною в жертву Занимательности. Если ты прочтешь их, – сказал Беньовский, – то усомнишься, обо мне ли идет в них речь.
– А почему ты поступил таким образом?
– Я всегда был мечтателем и. работая над книгой, разрешал себе фантазии, милые моему сердцу. Я не написал, например, о моей учебе в семинарии, ибо стыжусь того, что когда-то принадлежал к сословию, которое всю последующую жизнь презирал. Между прочим, Гиацинт оказался преславным стариком. Прощаясь, он подарил мне два рукописных фолианта – один о странствиях некоего польского князя, другой – об удивительных приключениях одного русского – не то кондотьера, не то – пилигрима.
Я вожу их с собою, в память о нашем гостеприимном хозяине, с прочими дорогими мне реликвиями. – Беньовский махнул рукой: – Ну, довольно. Хорошо, что после долгих скитаний и разлуки мы снова вместе. Как только я получил твое письмо, я вспомнил Мадагаскар, а раздумья о твоей судьбе, Ваня, и о том, что ты оказался в Америке, породили в моей голове план, где отводилось место и Америке и Мадагаскару. Я понял, что победившая американская революция предоставляет нам с тобой новые великие возможности.
Из его рассказа Ваня понял, что для начала Беньовский решил быстро сколотить в Америке состояние, достаточное для осуществления одного дерзкого замысла: создать в Бостоне или Филадельфии торговую компанию по освоению Мадагаскара. Американским толстосумам он хотел посулить несметные богатства от эксплуатации острова и его жителей и тем самым получить деньги, необходимые для начала предприятия. Но у этого плана была вторая сторона, о которой не знал никто, и Ваня был первым человеком, которого Беньовский посвятил в свои самые сокровенные планы; он решил вернуться не для того, чтобы торговать во славу денежных мешков Америки. Он ехал на Мадагаскар, чтобы снова стать ампансакабе Великого острова.
Беньовский так рьяно принялся за дело, что даже Ваня, помнивший учителя в годы молодости, не узнавал его.
Уже через три недели после приезда Беньовского в газетах Нью-Йорка, Бостона и Филадельфии появились объявления о том, что «Объединенная компания по торговле с Мадагаскаром» объявляет набор служащих, штурманов и матросов. Ваня почти не видел Беньовского, хотя жил на одном с ним корабле в соседней каюте. Беньовский вставал с рассветом и ложился глубокой ночью. Целые дни он разъезжал по городу, заключая контракты, получая авансы (чаще всего довольно скудные) и раздавая обещания (всегда необыкновенно щедрые). Ваня был приставлен следить за погрузкой бесчисленных ящиков, бочек, тюков, которые, как по волшебству, с раннего утра появлялись на пристани возле зафрахтованного Компанией брига «Интрепид» [22]22
"Интрепид» («Intгерid», англ.) – «Бесстрашный».
[Закрыть]. По тому, с какой скоростью обделывал Беньовский дела, как быстро находил он путь к сердцам и, что еще важнее, к кошелькам недоверчивых американских торговцев, Ваня понял, что годы, проведенные учителем в Англии, не прошли даром. Даже недавняя встреча с учителем теперь представлялась Ване не такой, как вначале. Он понял, что Беньовский еще в Англии продумал все с первых шагов и до последних. Его коричневый грубошерстный сюртук не был случайностью, и то, что он выбежал на берег без парика, тоже не было случайным.
Беньовский знал, что простоволосый негоциант в скромном сюртуке произведет значительно лучшее впечатление, чем щеголь с золотой шпагой и в лакированных ботфортах.
Он не ошибся. Его принимали за своего, благодаря проявленному им знанию законов коммерции, рекомендательным письмам (среди которых было и письмо-поручительство Франклина) и той славе удачливого и бесстрашного конквистадора, которая сопутствовала ему и в Америке.
Вскоре после того, как объявления о наборе моряков и служащих появились в газетах, к Беньовскому стали приходить люди, желавшие, по их уверениям, верой и правдой послужить Компании. Но Беньовский, хорошо знавший, что такое надежный экипаж и верные соратники, очень осторожно отбирал своих будущих подчиненных. Из-за занятости делами по организации Компании и снаряжению судна, он не мог уделять время комплектованию экипажа и очень обрадовался, когда к нему обратился с предложением услуг некий штурман по фамилии Джонсон, происходивший из старинной дворянской семьи, и, судя по рекомендациям, отличный моряк. (Это был тот самый Джонсон, который познакомил Ваню с историей Петра Скорбящего. ) Среди пестрой публики, осаждавшей Беньовского с утра до вечера, которая, надеясь на крупные барыши, готова была отправиться хоть в преисподнюю, Джонсон выглядел настоящим джентльменом. Еще более Беньовский утвердился в этом, когда оказалось, что Ваня, встретивший его во время, перехода через океан, тоже отозвался о нем, как о несомненно честном человеке.
Тогда Беньовский назначил Джонсона капитаном корабля и предложил ему заняться комплектованием экипажа. Джонсон знал официальную версию задуманного Беньовским путешествия и совершенно не догадывался о его истинной цели. Поэтому он подбирал экипаж, руководствуясь только чисто практическими соображениями. Ему было безразлично, на чьей стороне воевал его будущий матрос в минувшей войне. Джонсону было важно, чтобы матрос хорошо знал свое дело и не путал киль с клотиком, а ют с баком. Он был честным малым, этот Джонсон. Однако получилось так, что на корабле оказались почти одни бывшие лоялисты. Да и понятно: после разгрома королевской армии многим из них несладко жилось на некогда обетованной земле Новой Англии, и многие из них готовы были бежать хоть на край света, только чтобы не видеть самодовольные рожи новых хозяев страны, отобравших у побежденных все лучшее из того, что им некогда принадлежало. Другое дело, когда они вернутся обратно с Мадагаскара и в их кошельках будет звенеть золото, тогда они не только уравняются с полноправными гражданами этих Соединенных Штатов, но сами, может быть, станут не последними людьми в своих графствах.
Через четыре месяца подготовка к плаванию была закончена.
6 марта 1784 года «Интрепид» поднял паруса и пошел на юго-восток к зеленым водам Саргассова моря.
Беньовский сильно устал из-за непрерывных четырехмесячных сборов и первые две недели после отплытия почти все время проводил у себя в каюте. Он много спал и еще больше читал. Время от времени он заходил в соседнюю каюту к Ване и иногда просто молча сидел на сундучке с книгами, а иногда рассказывал о том, чем будут они заниматься на Мадагаскаре, если их предприятие увенчается успехом.
Погода была на редкость хорошей, дул ровный попутный ветер, и через шесть недель «Интрепид» достиг островов Зеленого Мыса и, пополнив запасы воды и продовольствия, устремился дальше на юг.
В конце апреля, добравшись до Кейптауна, моряки еще раз обновили запасы воды, муки, солонины и фруктов. В начале мая «Интрепид» вышел из Капштадта и, обогнув Африку с юга, пошел на северо-восток, к Мадагаскару,
Вечером Беньовский позвал Ваню к себе в каюту.
– Я думаю нам следует рассказать команде о истинной цели экспедиции. Но когда это сделать и как повести с ними разговор, вот важный вопрос, Иване.
– Я бы сначала поговорил с Джонсоном, – ответил Ваня. – Он лучше нас знает экипаж. Среди матросов есть люди, которых он знал еще до этого плавания. К тому же он человек порядочный и, мне кажется, во многом разделяет наши убеждения. Если он посчитает, что мы можем рассказать о наших планах экипажу, мы сделаем это.
Войдя в каюту Беньовского, Джонсон остановился у самой двери, держа шляпу в правой руке и положив левую на эфес шпаги,
– Слушаю, сэр, – неторопливо, глуховатым голосом проговорил Джонсон. Его лицо оставалось совершенно бесстрастным, ни тени интереса не было заметно в холодных серо-зеленых глазах.
– Садитесь, капитан. – Беньовский, обворожительно улыбаясь, взял Джонсона за локоть и подвел к креслу. – Я хотел бы спросить вашего совета по очень важному делу, – начал он, внимательно следя за выражением лица капитана. – Я решил придать нашей экспедиции несколько иной характер. Обстоятельства вынуждают меня поставить на первый план вопросы политические, отставив в сторону дела коммерции. – Беньовский замолчал, глядя прямо в глаза Джонсона.
Капитан молчал. Когда его молчание могло быть истолковано как безучастность, он сухо проговорил:
– Я слушаю вас, сэр, хотя, признаться, не совсем понимаю, о чем идет речь.
И Беньовский начал рассказывать капитану о своем первом путешествии на Мадагаскар, о Совете вождей, о его праве снова стать ампансакабе острова, о том, как изменится жизнь малагасов, если ему удастся достичь целей, которые он вновь поставил перед собой,
Джонсон молчал.
Беньовский говорил о страданиях тысяч малагасов, его верных друзей и добровольных подданных, о гнете и лишениях, которые терпят эти добрые, умные и сердечные люди.
Он говорил об алчности, коварстве и тысячах гнусностей, творимых белыми колонизаторами на его прекрасном острове.
Джонсон молчал.
Он говорил о том, что школы, построенные им, опустели, что дороги, проложенные им, зарастают, что вместо врачей на остров едут католические миссионеры, а вместо избранных народом уполномоченных дедами вершат продажные и жестокие чиновники и офицеры.
Он говорил о том, что земля малагасов отобрана у народа сворой хищников-чужеземцев. Он клялся, что вернет ее тем, кому она принадлежала по праву рождения. Он приводил слова Мармонтеля о том, что земля есть торжественный дар, который природа преподнесла человеку. Рождение каждого есть право на владение ею. И право это так же естественно, как право ребенка на грудь своей матери.
Он говорил, что право это попрано чужеземцами – ленивыми сластолюбцами, забывшими божьи и человеческие заповеди. Все эти люди, говорил Беньовский, рабы своих грязных страстей и, следовательно, самые низкие из рабов. Мы придем туда и изгоним их с острова. И возвратим малагасов на тот путь, с которого увели их неправедные пастыри.
– Мы принесем малагасам свет истины, и истина сделает их свободными! – воскликнул Беньовский и пристукнул по столу маленьким крепким кулаком.
В каюте было тихо-тихо. Слышно было, как поскрипывают снасти и плещется вода, ударяя в борта брига.
– Я сильно сомневаюсь, сэр, чтобы наши парни увлеклись вашими идеями, – ответил Джонсон. – Отправляясь в море, они надеялись получать за свою работу деньги и потребуют от вас выполнения взятых обязательств. Я думаю, что нам не за что будет осуждать их, сэр, если они потребуют от вас дать им то, на что они имеют безусловное право.
– А вы сами, Джонсон, вы сами тоже будете настаивать на выполнении контракта? – покраснев, спросил Беньовский и впился глазами в лицо капитана.
– Я родился на юге Соединенных Штатов, сэр, – ответил Джонсон. – У моего отца было восемьсот негров-невольников. Я не отпустил их на волю, как это сделал со своими рабами мистер Джефферсон. Боюсь, что ваше предложение не покажется мне привлекательным.
– Но ведь вы, как я помню, думали совсем по-иному! – с горячностью воскликнул Ваня.
Джонсон холодно посмотрел на него.
– Как я помню, мы говорили с вами о неравном положении, в которое одни англичане поставили других англичан. Малагасы же, как мне кажется, не относятся к белой расе, в то время как руководящие ими французы – наши собратья по крови и духу. Я буду считать себя опозоренным навеки, если подыму оружие против белого человека, защищая чуждые мне химеры, даже если эти химеры кажутся достойными внимания таким благородным людям, как вы, сэр, и мистер Беньовский.
Морис Август поднялся:
– Я отстраняю вас от командования кораблем, Джонсон.
Джонсон презрительно улыбнулся.
– Разрешите мне сообщить об этом экипажу брига, сэр, или вы предпочтете это сделать сами?
– Я предпочту это сделать сам! – со сдержанным бешенством ответил Беньовский.
– Только не советую при этом читать проповеди и вспоминать Мармонтеля и евангелиста Иоанна, сэр, – по-прежнему бесстрастно проговорил Джонсон и тихо прикрыл дверь каюты.
Беньовский говорил так, как будто от его слов зависела судьба мира. Он выплеснул из своей души все лучшее, что накопилось там за годы сражений, страданий и странствований. Он говорил о человечестве и нашем долге перед ним, о евангельских истинах, завещанных нам богом и попранных нами самими. Он не внял совету Джонсона и вспомнил слова пророка Иеремии: «Изумительное и ужасное совершается на Земле: пророки пророчествуют ложь и неправедные господствуют при помощи их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?»
Он не внял совету Джонсона и обрушил на головы своих слушателей мольбы, проклятия и призывы поэтов, мыслителей и пророков. Толпа, собравшаяся на юте, выслушала его не перебивая. Когда он кончил, вперед вышел боцман, здоровенный краснорожий детина, пользовавшийся у экипажа непререкаемым авторитетом за справедливость, огромную физическую силу и несокрушимую мужицкую рассудительность.
– Вы красно говорили, сэр, – сказал боцман. – Мы не против, чтобы вы и ваши дружки, если они у вас найдутся, вызволяли местных черномазых, учили их грамоте и строили им больницы. Только мы здесь ни при чем. Вы выдайте нам все, о чем договаривались, а мы высадим вас честь по чести и товар, какой вы взяли с собой, оставим на берегу. Как говорится, товар ваш, а деньги наши. Так я говорю ребята? – спросил боцман и посмотрел на толпу.







