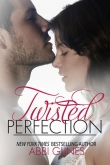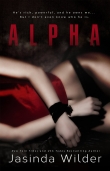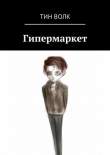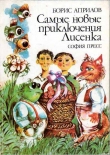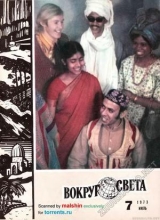
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №07 за 1973 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Аксумские стелы

Наши предки умели плавить камень, – без тени сомнения заявил курчавый паренек, напросившийся сопровождать меня по пыльным улочкам древнего Аксума. – Они разливали его в длинные деревянные формы, а когда камень остывал, обтесывали, полировали и превращали в гигантские стелы...
– Эти стелы делали люди-циклопы, которые населяли эфиопские нагорья задолго до того, как здесь появились наши прародители, – выслушал я через несколько дней объяснения другого чичероне. – Великаны вырубали их из скал неподалеку от города и на собственных плечах переносили сюда, на площадь.
Что можем мы, люди, своего века, возразить этим полуграмотным мальчишкам, пытающимся найти объяснение появлению загадочных аксумских стел в легендах и преданиях? Только то, что циклопы никогда не жили на земле, а древние люди обычного роста не могли уметь плавить камень.
Очень многое в прошлом Аксума, несмотря на пышный расцвет целой отрасли востоковедения – аксумологии, еще остается загадкой. И центральный вопрос этой науки – происхождение и назначение огромных величественных колонн-стел из цельных глыб голубого базальта, что возвышаются на центральной площади Аксума, в «парке стел», или лежат вдоль дороги, поверженные временем и человеческим варварством. Высота самой большой, сохранившейся до наших дней стелы – тридцать три с половиной метра. Есть стелы поменьше – от двадцати одного до пяти метров. Всего больше двухсот базальтовых монолитов, непохожих друг на друга; то изысканно-стройных, идеально отполированных и богато украшенных, то нарочито примитивных и грубых. Но в любом случае это итог колоссального, поистине титанического труда целого народа. Труда, растянувшегося на многие десятилетия, если учесть уровень развития техники в то время, когда они создавались.
– А когда?
Цегай Гебейбеху, самый уважаемый в Аксуме дабтара – носитель традиционной эфиопской образованности – улыбнулся на мой вопрос и зажег свечу. В неестественной тишине каменного подземелья, созданного древними строителями у подножия одной из стел, его гулкий бас звучал величественно:
– Аксумская устная история относит появление города к библейским временам. В ту пору главным в стране городом, носившим название Шеба, правил не то гигантский дракон, не то змей – деспот и тиран. Предания гласят, что он требовал от своих подданных бесконечных подношений – скотом и девственницами. Среди несчастных девушек, которые должны были сделаться жертвами тирана, как-то оказалась красавица, которую любил Агабоз, отважный юноша, силач и весельчак. Чтобы спасти возлюбленную, он убил восседавшее на троне чудовище, и избавленный народ провозгласил его царем. Ему наследовала его дочь, красавица Македа, царица Шебы. Умная, просвещенная и любознательная правительница, она известна во всем мире как царица Савская.
Мы вышли из подземелья. Если бы не стелы, купола церквей и удивляющее новичка количество монахов, снующих по улицам (сейчас из пяти тысяч аксумитов – тысяча примерно служителей культа), то человек даже с самым пылким воображением вряд ли бы предположил, что Аксум некогда был центром одного из самых могущественных государств древнего мира.
Пыльные, выжженные солнцем улочки, припорошенные красной пылью. Неказистые глинобитные домишки и конусообразные деревенские хижины-тукули в самом центре города. Огромный шумный базар, где изнывающие от жары торговки и торговцы под разноцветными зонтиками, стараясь перекричать друг друга, предлагают огромный ассортимент товаров: начиная от горсти проса и кончая караваном верблюдов в сто голов. Вереница женщин и детей с ведрами и бидонами на голове, вышагивающих к единственному на весь Аксум большому колодцу, точнее – крану с питьевой водой. Около него всегда очередь, крик, гомон, визжание ишаков и мычание верблюдов. И рядом – сверкающие под солнцем, отполированные веками стелы, уходящие в голубое небо...

Одно из первых упоминаний об Аксуме, как, впрочем, и о большинстве других городов Восточной Африки, мы находим в знаменитом «Перипле Эритрейского моря» – наиболее старой из дошедших до нас лоций древнего мира, написанной примерно в 60 году нашей эры. Название лоции говорит само за себя. Эритрейское_море – древнее наименование Индийского океана, а Эритрея – составная часть Аксумского государства тех дней. Государства, которое оставило после себя величественные архитектурные памятники, воспользовавшись при этом техникой, остающейся загадкой для нас; государства, покорившего , огромные территории, контролировавшего оба красноморских берега и создавшего огромный флот; государства, с которым, как с равным, разговаривали Византия и Индия. Арабский историк Мани, живший в III веке нашей эры, пишет, что знает четыре великие империи: Вавилон, Рим, Египет и Аксум. «Самым могущественным из христианских государств был Аксум», – добавляет он.
В те далекие годы, когда Аксум, выражаясь современным языком, был одной из мировых держав, африканский север и побережье Красного моря от Египта до Марокко слыли оплотом христианства.
Владыки Аксума в христианстве видели си»у, способную объединить разноплеменную, разноязыкую страну.
С помощью креста и меча богател Аксум, укреплялся его авторитет в глазах всего мира. Государство и религия поровну делили и славу и богатство. Аксум застраивался дворцами и храмами, приводившими в восторг и изумление даже повидавших мир греческих и арабских землепроходцев. Тогда же появились в великой африканской столице и гигантские стелы. Это были, по всей видимости, своеобразные памятники военному могуществу.
Конечно, можно возразить, что ни одна христианская держава не сооружала подобных каменных стел. Но где еще под сводами храмов, увенчанных крестом, совершают языческие обряды, бьют в тамтамы и танцуют нечто напоминающее пляски у костра? Кто из христиан совершает массовые крещения по ночам при мерцающем свете факелов? Все это – традиции, воспринятые у древних восточных культов соседних народов. А народы Южной Аравии, с которыми аксумиты поддерживали теснейшие контакты и чье огромное влияние на культуру Аксума никто не отрицает, имели такую традицию: они сооружали плоские обелиски из плохо обработанного камня над могилами своих воинов. Не восприняли ли аксумиты этот элемент восточных культов?
...Среди дебрей южноафриканских лесов стоят огромные эллиптические сооружения – «храмы» из камня, крепости с мощными стенами безрастворной кладки. Это остатки столицы огромной горнорудной империи в междуречье Лимпопо и Замбези – Зимбабве.
На первый взгляд может показаться, что у крепостей Зимбабве и стел Аксума есть лишь две общие черты; загадочность и гигантизм. Но вот на крайнем юге Эфиопии, на диком плато Джилбаба, к востоку от озера Рудольф, я видел пятиметровые, плохо обтесанные, но очень похожие на аксумские растрескавшиеся стелы. А как раз на полпути между Аксумом и Зимбабве на танзанийской земле лежит еще один загадочный город – Энгарука. Он был совершенно случайно обнаружен колониальным чиновником лишь в 1935 году и несколько позднее детально исследован профессором Л. Лики. Ученый рассказывал мне, что в архитектуре Энгаруки и Зимбабве, особенно в безрастворной кладке стен, много общего. Совсем недавно департамент древностей Танзании провел в Энгаруке новые раскопки. Там найдено среди прочего несколько бусинок и ракушек-каури – иными словами, установлена его связь с морским побережьем. Совпадения ли это? Не являются ли стелы Джилбаба и руины Энгаруки связующими звеньями между Аксумом и Зимбабве?..
Подмечено также, что своими очертаниями основание крупнейшей из стел удивительно напоминает аксумские дворцы. Нет ли здесь символа, указывающего, что стелы – «дом мертвых», своего рода пирамиды?
Я упоминал уже, что основание крупнейшей из стел, да и многих других тоже, удивительно напоминает макеты аксумских дворцов. Здесь, правда, было одно «но» – где типичные для аксумской архитектуры ступенчатые основания? Почти все из известных науке аксумских дворцов и крепостей, храмов и жилых домов возводились на гигантских каменных плитах, которые, положенные одна на другую, создавали видимость массивного ступенчатого фундамента. Стелы же, если смотреть на них в том виде, какими их сохранило для нас время, попросту торчат из земли, удерживаясь в ней своими закопанными основаниями.
И вдруг потрясающее открытие! Совместная французско-эфиопская археологическая экспедиция, до этого два года проводившая раскопки в самом центре «парка стел», вдруг обнаружила, что, снимая слой за слоем землю и извлекая из нее древние монеты, гончарные изделия и домашнюю утварь, она постепенно раскапывает гигантское сооружение!
Все думали, что стелы попросту стоят на естественном возвышении, известном под названием холм Бета-Гиоргис. Холм как холм, заросший травой и исчерченный тропинками. Археологи же открыли, что холм некогда представлял собою огромную, длиной в 115 метров платформу, сложенную из обтесанных базальтовых плит. На склонах холма были построены три террасы, которые создавали иллюзию ступенчатого основания. Стало ясно, что стела – лишь верхняя, венчающая часть поистине фантастического по своим размерам сооружения, скрытого под землей и еще ждущего исследователей...
Уже в наше время было безвозвратно утрачено то, что выстояло долгие века. В 1938 году в разгар итальянской агрессии против Эфиопии фашистские самолеты разбомбили руины храма святой Марии – Таакха-Марьям. Ученые, незадолго до этого приступившие к раскопкам фундамента древнего храма, оставили нам лишь общие описания. Но и по ним можно судить, что Таакха-Марьям, стоявший неподалеку от «парка стел», был еще более величественным сооружением, чем то, что возвышалось на холме Бета-Гиоргис.
Скорее всего это был не храм, а дворец, пышная и роскошная резиденция почитаемых владык, лишь со временем ставшая святилищем, Сто двадцати метров в длину и восемьдесят в ширину – таковы размеры платформы Таакха-Марьям. В огрдмном прямоугольном Дворце было более тысячи залов и опочивален. Полы в них были покрыты зелеными и белыми мраморными плитами, редкостными породами красного и розового дерева; стены были облицованы полированным эбеном и теМным мрамором, на которых рельефно выделялись инкрустации из позолоченной бронзы. Барельефы украшали окна и двери, бронзовая скульптура и керамическая посуда, покрытая глазурью и расписанная замысловатым орнаментом, завершали интерьер дворца. Лишь гиганты африканской архитектуры – Хусуни Кубва в Килве да загадочный Зимбабве могут соперничать размерами с Таакха-Марьям. Но по богатству убранства дворец не имеет себе равных в тропической Африке. Причем самое любопытное: судя по остаткам фундаментов, обнаруженных недавно в Аксуме, Таакха-Марьям был отнюдь не самым грандиозным дворцом Аксума. И наверное, не самым богатым.
Сколько этажей было в этих грандиозных сооружениях? Казалось, ответить на этот вопрос сейчас, когда от дворцов сохранились лишь одни полуразрушенные фундаменты, вряд ли удастся. Но сделанные в 1955 году открытия археологов, давшие серьезный повод предполагать, что стелы повторяют формы аксумских зданий, подтолкнули аксумологов и на другое предположение: не повторяет ли, хотя бы приближенно, высота стел высоту царских дворцов? Советский африканист Юрий Кобишанов, очень много сделавший для знакомства широкого читателя с великим прошлым Аксума, убедительно доказывает, что там существовали дворцы в 4, 6, 12 и 14 этажей! «Ведь стела передает (в уменьшенном масштабе, при высоте этажа в два метра) все подробности царского жилища, – пишет исследователь. – Вот входная дверь со скобой, вход с дверной рамой; нижний этаж – без окон, он нежилой; во втором этаже – окна маленькие; далее окна нормальной величины, а на трех верхних этажах они снабжены оконными решетками. Можно разглядеть на 33,5-метровом макете все детали древней аксумской архитектуры. Высота реального этажа была, вероятно, 2,8 метра, как на ранних стелах. Следовательно, высота четырнадцатиэтажного Дворца составляла около 40 метров».
Небоскребы в Африке, воздвигнутые в начале нашей эры! Как и кто их строил? На каком уровне развития должно было находиться древнее африканское государство, чтобы организовать огромные Массы людей на подобное строительство?
Еще в конце прошлого века англичанин Бент открыл всего лишь в шести километрах к северо-западу от Аксума, в местечке Годебра, остатки огромной каменоломни. Древние каменотесы разрабатывали монолитный гранитный массив, пользуясь неизвестной нам техникой. На полпути от каменоломни к Аксуму Бент нашел также гигантскую гранитную глыбу, местами обтесанную, но по непонятным причинам так и не попавшую в фундамент храма. Какой техникой пользовались аксумиты при транспортировке многотонных глыб? Совсем не обязательно утверждать, что это были элементарные деревянные катки. Наннос, посол византийского императора Юстиниана, оставил в своих записках упоминание о том, что правитель Аксума ездил в золоченой колеснице, а его подданные в посеребренных. В колесницы впрягали слонов. А коль скоро аксумиты умели заставить работать африканских слонов, то почему бы не допустить, что они использовали этих силачей при транспортировке гранитных и базальтовых глыб? И для подобной транспортировки были в Аксуме дороги.
Австриец фон Калло, в 1931 году одним из первых европейцев проникший в Аксум, записал: «Я проехал мимо монастыря и попал на высеченную в скале древнюю дорогу шириной в 15 метров».
Вслед за крестьянами, и сегодня пользующимися старинной дорогой, я проехал на «лендровере» к каменоломням Годебра. Следы титанического труда, потраченного на то, чтобы прорубить в скале широченную колею, видны повсюду.
Стучат тамтамы под сводами нового храма святой Марии. Солнечные лучи, заставив засверкать огромный купол церкви, дотронулись вдруг до голубого базальта стел, и они заиграли, заискрились. Легкие облака плыли по небу, то закрывая, то открывая солнце. И стелы, перехватывая его лучи, то сверкали, то растворялись на синем фоне неба. Было что-то загадочное и торжественное в игре со светилом переживших века монументов. Случайна ли эта игра?..
Точно так же почти две тысячи лет тому назад играли с солнцем стелы, только стояли они не на невзрачных пьедесталах, а на величественной платформе, облицованной полированным известняком. Громада Таакха-Марьям, увенчанная бронзовыми изваяниями единорогов, возвышалась напротив. За ней еще два царских дворца – Энда-Микаэль и Энда-Симеон, храмы языческим богам или церкви, особняки знати вдоль улиц, вымощенных плитами, по которым неслись колесницы, украшенные золотом и серебром. Огромный, величественный архитектурный ансамбль, богатейший город, созданный просвещенным народом...
Наши предки умели плавить камень, – без тени сомнения заявил курчавый паренек, напросившийся сопровождать меня по пыльным улочкам древнего Аксума. – Они разливали его в длинные деревянные формы, а когда камень остывал, обтесывали, полировали и превращали в гигантские стелы...
Два вечевых колокола – один, извещавший аксумитов о радости, другой – о беде, стояли на церковной площади. Долго звонил о беде колокол в тот день где-то в середине X века. Под напором орд кочевников-язычников, обрушившихся на Аксум, рухнули две внешние стены храма Открылись ворота в третьей, и орда хлынула в город.
Потом, когда варвары ушли, за сохранившейся по сей день внутренней стеной, у вечевых колоколов, аксумские христиане возвели новую церковь. Она превратилась в своего рода национальную сокровищницу; туда начали свозить все ценное, что осталось от аксумского и вообще эфиопского прошлого. Каменные обелиски с расшифрованными и еще ждущими прочтения надписями, причудливые – золотые кресты и огромные древние книги со страницами из телячьей кожи, короны эфиопских королей и изделия аксумских гончаров, оружие и дорогие одеяния – чего только не показали мне монахи. А сколько еще не изученных сокровищ, ожидающих своих исследователей хранится в подвалах! Только женщинам-ученым не надо тешить себя надеждой сделать здесь открытие. Поскольку в X веке ордами, разрушившими храм, предводительствовала женщина – языческая королева, представительниц прекрасного пола не пускают под его новые своды.
В Аксуме, Адулисе и других семи уже известных науке аксумских городах, и в их соборах и дворцах, на землях, некогда подвластных аксумитам, где сохранились еще никому не известные крепости, в любом из аксумских домов, где, глядишь, в стену дома, как обычный строительный материал, вделана стела, – повсюду в Эфиопии простора для научных исследований хватит для всех. Ведь речь идет не только об изучении архитектурных загадок Аксума. Речь идет о выяснении огромного вклада, который внесен Аксумом в культуру древнего мира.
Сергей Кулик
Подводные реки

В середине XIX века сторонникам Бенджамина Франклина пришлось схватиться в научном споре с директором Парижской обсерватории метром Домиником Франсуа Араго. Спор был о Гольфстриме.
Описывать «героя» полемики нет нужды – Гольфстрим самое знаменитое из всех течений (см. «Вокруг света» № 8 за 1972 г.). Впервые гипотезу о природе этой «реки в океане» (гораздо более мощной, чем все реки суши вместе взятые!) высказал некий монах Афанасий Кирхер. По мнению достопочтенного служителя церкви, где-то в океане из подземных жерл выливаются потоки воды. А в другом месте они вливаются через другие жерла, проносятся через центр Земли и замыкают круг. Теперь такую гипотезу и на пушечный выстрел не подпустили бы к науке, но то был конец XVII века, – отдадим должное, пытливый был человек. Кроме того, сама идея замкнутых круговых водотоков... Но не будем спешить.
В XVIII веке за дело взялся генеральный почтмейстер британских колоний в Америке Бенджамин Франклин, ибо несносный Гольфстрим нарушал расписание его пакетботов. Из-за него капитаны тратили на путь в Америку гораздо больше времени, чем на обратную дорогу.
Мистер Франклин, желая лучше изучить «врага» королевских почт, обратился за помощью к знаменитому китобою Фольджеру. Франклин предложил капитану, который ходил на промысел китов к берегам Гренландии и потому лучше других моряков знал Северную Атлантику, составить карту течения. Когда карта была составлена, генеральный почтмейстер написал ученый труд, в котором строго доказывал, что Гольфстрим рождают пассатные ветры. Эти ветры нагоняют огромные массы воды в Мексиканский залив. Оттого уровень здесь выше, чем в океане. И избыток воды, словно с горки, устремляется из залива в Атлантику.
Объяснение представлялось простым, логичным, и полстолетия ни у кого не вызывало возражений. Но Доминик Франсуа Араго, известный французский физик, подсчитал, что разница в уровнях Мексиканского залива и океана весьма невелика – четверть метра на расстоянии в двести километров. Немедленно Араго заявил: такой незначительный наклон не может вызвать гигантского течения! Значит, мнение Франклина неверно, Гольфстрим возникает из-за разницы в плотности воды. 8 тропиках сильное испарение приводит к тому, что вода поверхности океана там имеет большую плотность, чем в высоких широтах. Однако лишь ничтожная часть «тяжелой воды» может погрузиться в глубины. Этому мешают нижние – также плотные – слои океанской толщи. И потому воды тропиков стремятся «стечь к полюсам».
Спор мог затянуться надолго: в науке известны полемики, которые длились веками. Но на этот раз все кончилось довольно быстро. Выяснилось, что правы и те и эти: Гольфстрим образуется по обеим причинам.
Так была поставлена точка. И тему... сдали в архив. Да, да! Установилось мнение, что раз найдена истина, то и нечего заниматься природой течений. Зачем, если сказано последнее слово?
Забегая вперед, скажем, что сегодня из всех традиционных разделов физики моря наиболее интенсивно развивается, пожалуй, именно тот, который изучает течения. Когда задумаешься над этим парадоксом, невольно еще раз поразишься, сколь извилист маршрут познания, как трудно однозначно оценить то или иное научное событие.
Вот, например, отрицательный результат исследования. В последние годы можно нередко прочитать, что он не менее важен для науки, чем положительный. Но в таких суждениях читатель часто видит не истину, а лишь изящную словесную конструкцию или, того хуже, утешение для неудачников. Между тем история познания нашей планеты знает немало примеров, когда едва ли не главное достижение того человека, чье имя вписано в нее золотыми буквами, – отрицательный результат. Скажем, капитан
Джеймс Кук, которого специалисты дружно признают крупнейшим мореплавателем XVIII века. Что можно назвать самым существенным его достижением? Открытие нескольких цепочек островов или описание на большом протяжении побережья Австралии? Верно. Но не только. Своими тремя героическими плаваниями в южных полярных широтах Кук доказал несостоятельность представления о существовании в этом районе огромного материка, который в его время гипотетически изображался в южном полушарии. Он «закрыл» тысячи километров несуществующей суши и тем значительно сузил район дальнейшего поиска действительного материка Антарктиды. Но в то же время надолго отбил охоту искать что-нибудь стоящее ближе к Южному полюсу...
Примерно то же произошло с течениями. Открытие причин, рождающих течения, выявив важный закон природы, вместе с тем создало иллюзию, что науке удалось познать истину «в конечной инстанции». И, может быть, именно это убеждение привело к тому, что, когда в восьмидесятых годах прошлого века один морской офицер, можно сказать, напал на «золотую жилу», никто к ней не кинулся.
Офицера звали Степаном Осиповичем Макаровым.
В войне с турками 1877—1878 годов Макаров прославился своими изобретениями минных кате ров и особого вида торпед. Когда война была выиграна, Макаров, сделавший блестящую карьеру и получивший высокий чин капитана второго ранга, был назначен командиром брандвахтенного судна «Тамань». Новая служба оказалась совсем не обременительной. Корабль, предоставленный в распоряжение русского посланника в Константинополе, стоял на мертвом якоре в проливе Босфор. От командира требовалось лишь время от времени появляться на балах и своим видом напоминать бывшему противнику о грозной мощи русского флота. Казалось бы, для молодого офицера наступило наконец время пожить вольно и красиво, взять реванш за бедную юность.
Но вместо этого блистательный капитан занялся странными экспериментами. Загружая бочонок песком так, чтобы он плавал на глубине от 30—50 до 80—100 метров, Макаров опускал его за борт на длинном лине и внимательно наблюдал, куда отклоняется линь.
И опыты привели к любопытным результатам. Оказалось, что воды пролива Босфор подобны слоеному пирогу. Течения в нем идут в две противоположные стороны. Верхние слои движутся из Черного моря в Мраморное, а придонные в обратном направлении. Тема, которая, казалось, не сулит серьезных перспектив, заиграла новыми гранями.
В известной работе «Об обмене вод Черного и Средиземного морей», опубликованной в 1885 году, Макаров заложил основы учения о гидрологии проливов Мирового океана.
Шерлок Холмс утверждал: логически мыслящий человек по капле воды догадается о существовании Ниагары. Однако, к сожалению, история познания показывает, что такие победы логика одерживает далеко не всегда. Во всяком случае, ни Макаров, ни его современники, многим из которых трудно отказать в умении мыслить логически, не смогли догадаться, что открытый в Босфоре «слоеный пирог» – предвестник нового этапа океанологических исследований. Этот этап начался более чем на полстолетия позже знаменитых опытов Макарова!
Особенность нового этапа состояла в том, что наука «нырнула» в самые глубины океана. Здесь океанологов ожидало множество совершенно непредвиденных открытий. Один за другим на карты наносились огромные хребты, пики, вулканы, глубочайшие расселины... Но, казалось, к течениям все это не имеет никакого отношения. «Слоеный пирог» по-прежнему считался специфической особенностью проливов. Что же касается всего остального океана, то здесь, по мнению ученых, движение могло происходить лишь в тонком слое поверхностных вод. Нижние слои, на которые атмосфера непосредственно не воздействует, представлялись неподвижными или малоподвижными. А глубины принято было считать вовсе царством вечного покоя.
Первое опровержение этого взгляда принес только 1951 год. Его сенсацией стало открытие в экваториальной зоне Тихого океана мощных струй воды на глубине 50—100 метров в одних районах и 200—300 – в других. Правда, точных границ этой реки, заключенной уже не в «жидкие берега», а в «водяную трубу», открывшие ее американские океанологи сразу установить не смогли. Но уже само по себе существование в толще воды довольно быстрых течений было полной неожиданностью. Особенно удивляло то, что обнаруженные струи текли с запада на восток – в сторону, противоположную поверхностному пассатному течению.
Исследования показали, что поток пересекает в районе экватора весь Тихий океан. Он получил название течения Кромвелла – по имени начальника экспедиции 1951 года. Так в открытом океане был обнаружен «слоеный пирог», подобный тому, что нашел в проливе Босфор капитан Макаров.
А несколькими годами позже советские океанологи засекли в ряде точек экваториальной зоны Атлантики быстрые струи воды на глубине 50—250 метров. Однако первые измерения – они были проведены в весьма отдаленных друг от друга районах – не позволяли сделать вывод о том, что удалось обнаружить единый поток. К тому же над многими физиками моря еще тяготел груз представления о неподвижности глубин. И даже течение Кромвелла многими воспринималось как некое странное исключение из твердо установленных законов. Мысль о необходимости искать такого же рода потоки в других океанах находила мало сторонников.
И все же советский океанолог лауреат Государственной премии Георгий Петрович Пономаренко поверил в то, что несколько промеров в Атлантике говорят именно о глубинном течении. Когда летом 1959 года Пономаренко назначили руководителем очередного рейса на научно-исследовательском судне «Михаил Ломоносов», в проект плана работ одним из центральных пунктов он включил измерение скоростей на глубине до 300 метров в экваториальных районах. Но программа была и без того перегружена, предпочтение отдали более «перспективным» темам.
Несколько лет назад, когда мы разговаривали с Георгием Петровичем в Севастополе в красивом здании Морского гидрофизического института Академии наук УССР, он признался мне, что решил любыми путями все же провести измерения. Перед самым выходом в море стало известно, что в экспедиции примет участие академик Шулейкин. Тема его исследований заранее в план не была внесена. Но начальник рейса получил твердое указание обеспечить условия для работы Шулейкина. Более желанное указание для Пономаренко трудно было придумать! И начальник рейса стал расспрашивать академика, не хочет ли он сверх программы исследовать еще несколько районов в экваториальной зоне. Шулейкин, конечно, согласился – какой же ученый откажется от возможности собрать дополнительные данные? А Пономаренко указывал районы не без задней мысли. Это были как раз те участки океана, где, по его предположению, должно было проходить глубинное течение.
Через несколько недель после начала рейса руководители Отдела морских экспедиционных работ Академии наук СССР с удивлением обнаружили, что «Михаил Ломоносов» то и дело отклоняется от запланированного маршрута. От начальника радиограммой потребовали объяснений. Пономаренко ответил коротко: «Согласно вашим указаниям обеспечиваю условия для работы академика Шулейкина». Формально все было верно. Но когда «Михаил Ломоносов» останавливался и Шулейкин вел свои наблюдения, Пономаренко успевал поставить гидрологическую станцию.
Интуиция его не подвела. Измерения убедительно показали, что на глубине в экваториальной области проходит единый поток.
В следующих рейсах исследование течения стало уже плановой темой. Океанологи сделали несколько миллионов «засечек» потока. Ширина его оказалась весьма внушительной – до 400 километров. Подтвердилось, что поток проходит на глубине 50—250 метров от поверхности и пересекает по экватору всю Атлантику. По названию научно-исследовательского судна глубинный поток получил имя – течение Ломоносова.
Сейчас в США идет подготовка к изданию Международного океанографического атласа тропической зоны Атлантического океана. Он будет более чем на 90 процентов состоять из новых, оригинальных карт советских ученых – сотрудников Морского гидрофизического института Академии наук УССР. Это наглядное свидетельство того, сколь весом вклад наших соотечественников в познание природы второго по величине океана планеты.
Примерно в те же годы советские ученые обнаружили глубинный поток, подобный течениям Кромвелла и Ломоносова, в экваториальной зоне Индийского океана. Одновременно в нескольких районах удалось «поймать» движение воды на больших глубинах. В одном километре от поверхности приборы зарегистрировали скорость водной струи, равную 60 сантиметрам в секунду! И даже у самого дна в Атлантике был обнаружен поток, ползущий со скоростью 6 сантиметров в секунду.
В последние десятилетия открыты и изучены глубинные потоки, двигающиеся под другими крупнейшими течениями океана: Бразильским, Западно-Австралийским, Перуанским, Куросиво. А под Антильским и Гвианским находится Антило-Гвианское противотечение. Все это позволило группе сотрудников Института океанологии имени П. П. Ширшова – В. Г. Корту, В. А. Буркову, А. С. Монину – высказать мнение о том, что противотечения существуют под всеми крупными течениями Мирового океана. Глубинные потоки замыкают собой гигантские круговороты, в результате которых происходит в океане вертикальный обмен вод. (Наивная идея монаха в принципе оказалась не столь уж глупой... Случается, что и беспочвенная фантазия отражает «краешек» реальности!)
Многочисленные измерения в районах, где проходят крупнейшие океанские течения, значительно изменили представления и об этих давно известных поверхностных потоках. Раньше «реки в жидких берегах» считали монолитными. Ученые думали, что вся вода в них течет в строго определенном направлении, практически не меняя своего хода из года в год. Но вот в 1970 году советские физики моря провели уникальный эксперимент. Они расставили почти в центре Атлантики 17 заякоренных буев с приборами, охватив измерениями большую площадь. Буи расположили в форме огромного креста. Район для эксперимента специально был избран такой, где, по данным прежних исследований, течения отличались стабильностью и где ровное дно не создает препятствий для движения воды. Однако и в этих, как будто идеальных, условиях картина жизни течения оказалась весьма далекой от той простоты, которая прежде ей приписывалась.