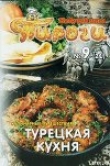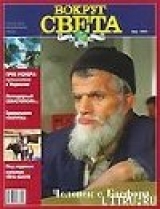
Текст книги "Журнал "Вокруг Света" №6 за 1997 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Гипсовый горнист с крыши бывшего дворца пионеров, а ныне не то казино, не то ресторана, пытается вторить трубачу на Графской. Но даже корабельные горны с недалекой Минной стенки и те замолкают, пристыженные чистым переливчатым звуком, от которого сжимается сердце и просыпается память... Рубли и гривны летят в раскрытый футляр...
Но, Боже ты мой, как мало что изменилось за полтораста лет с тех времен, когда один из многих севастопольских офицеров, никому не известный подпоручик Толстой, стоял вот здесь, на Приморском бульваре, и смотрел туда, куда и поныне смотрят все гуляющие тут – на море в разрыве бухты, и слушал то, что и сейчас всем слышно:
«Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью, и белые строения города, и народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им».
Звуки выстрелов, но не с бастионов, а с феолентских полигонов, неслись и сейчас, сотрясая стекла в домах на Крепостном шоссе. Били танковые пушки. Морская пехота готовилась к боям. К каким? Против кого?! За кого?
Ночь. Минная стенка. Толчея разнородных кораблей, ошвартованных носом к морю, кормой к городу. Среди скопища сигнальных огней, горящих иллюминаторов, палубных люстр и беспокойных прожекторов затерялась полная луна.
Каждый корабль – это маленький Севастополь.
А город пригас, словно в боевом затемнении – экономя электроэнергию. Южные созвездия рисуют над ним и над морем свои таинственные мерцающие знаки. Но никто не читает звездный семафор.
Возмутитель спокойствия

Год он ходил с запиской в кармане: «Меня убил имярек...» Это на тот случай, если киллер не промахнется. Вообще-то он и сам неплохо стреляет. Только оружия не держит. Как сдал в 1990 году пистолет и кортик, дела и обязанности главного инженера Балаклавского судоремонтного завода, снял погоны капитана 2 ранга, так нашел себе иное оружие. Перо публициста-камикадзе. В жизни ничего не писал, кроме коротких писем матери в белорусский городок Ошмяны да ремонтных ведомостей. А тут начертал статью об аварийности на флоте, которую с ходу опубликовали в литературном журнале. А дальше заполыхало от искры Божьей: и пошло гулять имя Владимира Стефановского по столичным да крымским журналам, газетам, альманахам.
– С тобой полгорода (надо понимать, пол-Севастополя) не здоровается! – сетует жена.
Насчет половины – это она, конечно, перехватила. Одно верно – не любят в Севастополе Стефановского все власти – и явные, и тайные, легитимные и мафиозные. Потому и ходил год с запиской, не из-за страха, а чтобы сразу навести на след убийцы... Да и чем можно напугать моряка-подводника на суше? Не зря же у англичан бытует поговорка: «В море бывает хуже...» А в морях у инженера-механика океанской подводной лодки капитан-лейтенанта Стефановского бывало и впрямь похуже.
За что не любят Стефановского? За то же, за что не любят и налоговых инспекторов. Он взыскивает долги. Не денежные, разумеется. Долги памяти. Взыскивает с начальства – городского и ведомственного, с российских властей, севастопольских, флотских... А начальство этого ох, как не любит. И клянет, и честит неуемного теперь уже кавторанга, организовавшего и возглавившего в Севастополе правозащитную ассоциацию «Моряки и корабли», как может и где придется.
Возмутитель спокойствия – это его социальная роль. По какому праву?
– А по праву бывшего «торпедного мяса». Я бы и сам давно мог гнить где-нибудь в отсеке погибшей лодки – как ребята с К-129-й, или сгореть заживо, как горели на «Отважном». И молчали бы про меня так же, как про них, – десятилетиями! Мне повезло – я жив. Так вот за это везение я и буду требовать – шапки долой перед теми, кто погиб за вас. Кто унесен морем. Кто ушел со своими кораблями в пучину, не бросив вахты.
Одна из комиссий Севастопольского Морского собрания завалена поношенной одеждой, игрушками, коробками с не очень просроченным детским питанием. Это гуманитарная помощь из Германии – для престарелых севастопольских моряков и их внуков.
Стефановский растерянно взирает на всю эту благодать. На лице горестное недоумение. Два украинских таможенника деловито перетряхивают старые пиджаки и брюки. Зачем? Определяют общую стоимость добра. Зачем? Чтобы назвать сумму налога на гуманитарную помощь. Зачем? Чтобы пополнить государственную казну. За чей счет? За счет Морского собрания, в адрес которого прибыла гуманитарная помощь из Германии, или немцев, приславших ее?
– Это что же получается? – вопрошает Стефановский. – Если я подаю нищему милостыню на улице, я должен платить налог? Или нищий? Это что за закон такой?!
Таможенники смущенно отмалчиваются. Они люди служивые. Приказали «растаможить груз», вот и растаможивают. Хотя и им это дело вовсе не нравится.
Стефановский идет в приемную к мэру. Стефановский пишет открытые письма президенту Украины – отмените безнравственный закон. Севастопольские газеты печатают послания одного президента (Морского собрания) другому президенту (Украины). Зная Стефановского, я ничуть не удивлюсь, если президент Кучма возьмет и пересмотрит Закон о налоге на гуманитарную помощь.
Эх, Севастополь... С немцами тут вот какая история. Ни за один город во всю мировую войну вермахт не заплатил потерей сразу двух армий, которые полегли под Севастополем – одна в 1941-1942 годах, другая – в 44-м. И осознав этот факт, а также многое еще поняв в не столь давней военной истории, уцелевшие ветераны вермахта приехали в Севастополь со своим покаянием перед Величественным Городом и его жителями. Среди тех, кто принимал делегацию, были и члены Морского собрания.
Побежденные приехали к победителям, прозябавшим в чудовищной нищете. И пали на колени: простите нас.
У Стефановского отец погиб на фронте, возможно, от пули одного из тех стариков, что сейчас стояли перед ним, перед городом на коленях. И он простил. Хотя акцию покаяния поняли и приняли в Севастополе далеко не все. Тот, кто не умеет молиться, не умеет и прощать.
Потом была встреча ветеранов боев за Севастополь с той и с этой стороны. Выступал бывший командир взвода 87-й пехотной дивизии лейтенант Эльснер. Рассказывал, с каким трудом штурмовали они поселок Комары под Балаклавой и взяли его на третьи сутки беспрерывных атак.
– Если бы меня не ранило, хрен бы вы его взяли! – выкрикнул из зала один из защитников Балаклавы.
Эльснеру перевели его реплику. Он помолчал, потом заметил:
– На той неделе, как мне рассказывали, на Мекензиевых горах извлекли из земли останки двух солдат – русского и немецкого. Их скелеты вцепились друг в друга в рукопашной схватке. Но мне кажется, они обнялись после смерти.
Эту историю Стефановский рассказывает как притчу. Она ему по душе. С Эльснером он подружился и даже приезжал к нему в Кельн...

Корабль XXI века
О ракетоносце на воздушной подушке «Бора» я был наслышан еще в Москве. С разрешения командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Кравченко отправляюсь на другой берег Северной бухты – туда, где стоит морское чудо-юдо, похожее скорее на угловатый кусок пятнисто раскрашенной скалы, чем на привычный корабль. А корабль и в самом деле необычный – полуторатысячетонный ракетодром летит по волнам со скоростью в 55 узлов (почти сто километров в час). Гордость флота! Приоритет России...
– ...И жертва перестройки, – подытоживает командир крылатого уникума капитан 2 ранга Николай Гончаров – офицер, остроязыкий и стремительный – под стать своему кораблю. – Почему жертва перестройки? Судите сами: когда ВПК перевели на режим «голодного пайка», уникальный боевой корабль, с «отработанным» экипажем, выполнившим 13 ракетных стрельб, несколько лет простоял в бухте, пока не потек разъеденный коррозией корпус. Спасибо адмиралу Кравченко, велел поставить «Бору» в док и перевести ее в действующую бригаду ракетных кораблей. Взял нас под свой личный контроль. Даже задачу К-1 сам принимал. Такого никто не помнит, чтоб комфлота лично проверял организацию службы на каком-либо корабле!
Конечно, «Бора» корабль не «какой-либо»: по новизне и необычности технических разработок – прорыв в XXI век. Из десяти заложенных ракетных водолетов типа «Сивуч» лишь двум удалось сойти со стапелей и только одному – «Боре» – пройти весь цикл государственных испытаний.
– А пойдемте с нами в море, – предлагает Гончаров, – посмотрите, что у нас за зверь такой. Только «добро» у начальства возьмите.
«Добро» получено, и ранним мглистым утром «Бора» стала сниматься со швартовых. Но прежде чем корма отошла от стенки, экипаж изрядно поавралил, чтобы корабль стал готов к бою и походу. И дело даже не в том, что в команде не хватает старшин и матросов, а в том, что сложная полуавиационная техника требует специальной подготовки, которая проводится не техническим экипажем как надо бы, а силами самих офицеров и мичманов – как велит ее благородие госпожа Нужда.
Не дай Бог, какая-нибудь неполадка. Заводские специалисты давно распущены, разбежались по фирмам да частным мастерским. Правда, и командир, и старпом, и механик знают пока что, кого и откуда «высвистывать». Звонят, посылают ходоков. Дальше начинается торг: «А что дадите?»
Ремонтных денег ни у экипажа, ни у бригады, ни у кого на флоте нет. И спецы это знают.
«Дам риса, тушенки, шила (спирта)», – обещает командир. – «А шила сколько?» – «Вот столько». – «Приду».
Продукты для расплаты с ремонтниками офицеры выкраивают из своих пайков. Лишь бы не стоять у стенки, лишь бы выходить в море. Не зря «Бору» называют в Севастополе «кораблем единомышленников».
Шквальный ветер вздувает брезенты на соседних кораблях. Штормовая февральская мгла заволокла дамбу, белую подковку Константиновской батареи, выход из бухты. «Вира» может выходить практически в любую черноморскую непогоду. Ее корпус – катамаран – движется на совершенно новом принципе динамического поддержания на воде: мощные воздушные нагнетатели приподнимают корабль, резко уменьшая его осадку, но при этом он не летит над морем, как классическое судно на воздушной подушке, а несется в водоизмещающем режиме, Вой прогреваемых турбин пронизывает весь корпус. Вибрирует палуба, дрожат переборки. Три кота-крысолова с расширенными от ужаса глазами нервно бьют хвостами.
– Осторожнее! – предупреждает капитан 3 ранга Владимир Ермолаев. – Не берите на руки – вцепятся. Они на выходе дуреют.
Я обхожу котов-мореманов стороной. Зато корабельный пес Граф лежит как ни в чем не бывало на юте у флагштока и караулит в голубом соляровом дыму сходню.
Затея осмотреть «Бору» сверху донизу не увенчалась успехом. Несмотря на компактные размеры – 64 метра в длину, 17 – в ширину, – на корабле 197 различных помещений, выгородок, отсеков, кают, рубок, кубриков. Успели только заглянуть с заместителем командира Ермолаевым в машинное отделение да в ПЭЖ – пост энергетики и живучести, где за многопанельным пультом – в обиходе «пианино» – восседал инженер-механик старший лейтенант Голубков. Ему мало восхищения гостя, слегка ошалевшего от всего увиденного и услышанного на корабле XXI века, и он добивает его, то есть меня, замечанием профессионала:
– По энерговооруженности на тонну водоизмещения «Бора» самый мощный корабль в мире. У турок таких нет. Да и у американцев тоже.
Еще остается немного времени, чтобы спуститься в грохочущую преисподнюю эскадренного ракетоносца.
– Может, не стоит, а? – морщится мой гид.
– Стоит.
По вертикальному трапу спускаемся в стальную прорубь энергоотсека. Воздух, спрессованный чудовищным грохотом, больно бьет в уши. Чашки шумофонов не спасают, и матросы прибегают к старому испытанному методу – вставляют в уши мини-лампочки от фонариков. Это им, машинной вахте, приходится расплачиваться за рекордную скорость своим здоровьем.
Находиться здесь во время движения, среди бушующих в цилиндрах и трубопроводах энергий, давлений, напряжений, – жутковато. Техника до конца не объезжена, не зря «Бору» между собой моряки зовут «корабль – триста неожиданностей». В каждом выходе – риск боевого похода. Для этих парней – турбинистов, мотористов, электриков – что мир, что война. Смерть от выброса раскаленного масла или удара током для них более вероятна, чем гибель от ударившей ракеты. Я бы всем им выдавал удостоверения льготников, как «афганцам»...
Поднимаемся в ходовую рубку. Командир в ожидании последней команды оперативного ходит из угла в угол, как рысь по клетке. Тоскует и рулевой в кресле перед самолетного вида штурвалом. В буквальном смысле ждем у моря погоды: на открытом рейде шторм крепчает. Возьмут да и отменят выход, чего ради любимым детищем комфлота рисковать?
«Добро» на выход за боновые ворота получено!
Ну наконец-то!
Взвывают маршевые двигатели, и «Бора» ощутимо приподнимается из воды. В стеклянном полудужье лобовых иллюминаторов медленно плывет холмистая панорама Севастополя, увенчанная мономашьей шапкой Князь-Владимирского собора.
Сколько раз я выходил из Севастопольской бухты и на чем только не выходил – на водолеях и эсминцах, на яхтах и крейсерах-вертолетоносцах, но этот выход – особенный: в душе тихое, робкое ликование – жив Черноморский флот, жив, и пульс его прощупывается – вот он, бьется под палубой «Боры», под ее днищем.
Даже на малом ходу берега по оба борта проплывают непривычно быстро. Но вот сети боновых ворот остались позади, и взмятое «Борой» море понеслось за кормой пенной лентой.
Это не плавание – бешеный лет. Не килевая, не бортовая – вертикальная качка швыряет корабль вверх-вниз, выматывая душу, бьет по ногам мелкой тряской, напоминающей удары тока в старом мокром троллейбусе. Но – летим, а не идем! И в этом стремительном полуполете – военное счастье «Боры». На такой скорости она не успевает попасть в захват самонаводящихся ракет, ее не догонит торпеда, и даже взрыв потревоженной мины останется далеко за кормой. Зато восемь крылатых ракет, которые несет водолет, – оружие весьма внушительное. И от врага есть чем отбиться – на баке стоит 76-милли метровая скорострельная противоракетная пушка, а пара 30-миллиметровых зенитных автоматов вкупе с ракетой ПВО «Оса-м» позволяют вести поединок с воздушным противником.
– Одно плохо, – сетует командир, – не шибко грамотные после нынешней школы матросы не успевают за два года изучить нашу технику. Так что боеспособность корабля почти целиком лежит на плечах офицеров.
Да, в этом смысле «Бора» – корабль офицерский. Ведь бывали в лихие времена офицерские ударные батальоны.
«Боре», как кораблю 2 ранга, положен отдельный офицерский камбуз. Но весь экипаж питается из одного котла. Не ахти как густ этот котел: сам искал ложкой мясо в супчике, заправленном гречкой да картошкой, а на закуску – салатик из капусты, а на второе пюре с мясной крошкой да компот – штормовой – почти без сахара. Правда, на поход выдают шоколадку, просроченную, из немецкой гуманитарной помощи.
А корабль летит! Гребни волн уносятся, даже не успев поникнуть, будто кобры, застывшие, завороженные иерихонскими флейтами ревущих турбин.
– Еще три часа такого хода – и мы Черное море проскочим от берега до берега, – с плохо скрытой гордостью замечает командир.
Вот уж, воистину, какой же русский не любит быстрой езды! Эх, Гоголя бы в ходовую рубку!..
Возвращаемся под вечер, оставив тонущий алый шар солнца за кормой...

Севастопольское море
Где оно? На каких картах? А вон оно – поднимись на Владимирскую горку да окинь взором пушистую синь морского горизонта, бухты в ожерельях кораблей...
Севастопольские бухты – плавильные котлы времени... Сколько сражений в них разыгралось, сколько кораблей ушло в ил их сумрачных глубин – хватит на иное географически полноценное море.
Севастопольское море, раскаленное солнцем до голубого свечения; и эти скалы, выкрашенные временем в желтовато-ветхи и цвет древности, и эти корабли цвета морского далека...

Одинокая колонна, осененная бронзой орлиных крыльев, белой свечой стоит посреди рукотворного островка. Орел взлетает с нее на север – навстречу питерскому Медному всаднику, с руки которого взлетел и залетел сюда. Севастополь – детище Санкт-Петербурга. Град-отец передал ему в генах свои тайны, свой рок, свою судьбу, имена фортов и бастионов, моряков и корабелов. От колонны Затопленным кораблям до Александрийского столпа – устои российской истории. Их забытое ныне родство и в том, что плита с Присягой городу-полису на брегах Прекрасной Гавани («Клянусь Землею и Солнцем... Я буду врагом замысляющему и предающему или отторгающему Херсонес... или Прекрасную Гавань...»), плита с этой клятвой хранится в книжной сокровищнице на Невском проспекте.
Это и наша клятва, наша Присяга, возведенная умирающим адмиралом Нахимовым в императивный девиз: «Так отстаивайте же Севастополь!»
Южная бухта – первейшее и стариннейшее становище Черноморского флота. Ныне она вся в тесном ожерелье кораблей и судов, приткнувшихся к причальным стенкам. Пестрое разноцветье флагов: полощутся на ветру серпасто-молоткастые советские полотнища, рядом же синекрестные бело-синие андреевские, желто-голубые – украинские, темно-синие – вспомогательного флота, трехцветные – российские... «Все флаги будут в гости к нам». Да не в гости – как будто все у себя дома. У каждого корабля под килем по семь футов глубины, у каждого за кормой не одна тысяча миль. Но что там по курсу?
В самом дальнем – тупиковом углу гавани, куда сбегаются станционные рельсы, приткнулось между плавскладами и буксирами ободранное портовое суденышко с чуть видной надписью на борту – «Надежда»...
Николай Черкашин / фото Александр Кулешов
Севастополь
Исторический розыск: Племянник Льва Николаевича в небе Китая

Перелистывая подшивки журнала «Вокруг света» за 1911 и 1913 годы, я наткнулся на публикации о первых авиаторах, которые и помогли мне написать этот очерк.
Русские авиаторы уже в начале века заслужили мировую славу и признание. Достаточно назвать лишь имена Н.Ведрина, победителя соревнования на трассе Париж – Мадрид в 1911 году, или А.Райгородского, совершившего в том же одиннадцатом первое турне на аэроплане по странам Центральной и Южной Америки.
В отличие от профессиональных авиаторов, Александр Кузминский, внучатый племянник Льва Толстого, был любителем. Он, чиновник Кредитной канцелярии, настолько увлекся полетами, что, вопреки желанию семьи, бросил службу и в 1910 году поехал в Париж, учился управлять там монопланом «Блерио», а вернувшись на родину, в сентябре участвовал в Петербурге во Всероссийском празднике воздухоплавания. Знаменитый дядя Кузминского, узнав о неудачном полете племянника, незадолго до своей кончины бросил печально известную фразу: «Люди не галки, им и нечего летать». Однако сломанные кости племянника срослись, зубы были вставлены, а пришедшая сразу слава толкала на дальнейшие подвиги.
Александр Кузминский осенью 1912 года закончил показательные полеты во Владивостоке, в Хабаровске, Благовещенске, Харбине. Приближалась суровая сибирская зима, и Кузминский, по совету своего импресарио – бывшего оперного артиста Г.Г.Шишкина, решительно двинулся в Китай с намерением облететь все крупные города Азии.
Над Мукденом

Путь лежал в Мукден. Разобранный по частям самолет «Блерио» с мотором «Гном» в 40 лошадиных сил следовал в закрытом товарном вагоне под присмотром двух механиков: украинца Хмары и француза Лефевра. В вагоне первого класса Кузминский с Шишкиным вспоминали о разыгравшейся несколько месяцев назад в Кантоне (Кантон – так, по искаженному названию провинции Гуандун, европейцы называли и ее главный город Гуанчжоу – здесь и далее прим. ред.) драме с «бельгийцем» Ван дер Борном. Он приехал на юг Китая из Европы с целью продемонстрировать свои полеты. Но возбужденная толпа, услыхав треск мотора, приняла аппарат за «злого духа» и сожгла его. Предприимчивый же импресарио успокаивал Кузминского, соблазнял заманчивой идеей – первым в мире облететь древнейшие города.
Наместник Манчжурии толстый старик Джаерь-Сюнь только усмехнулся в ответ на опасения летчика: «Здесь люди не такие горячие, у нас ведь не светит кантонское солнце».
...В центре Мукдена на большом военном плацу собралось свыше 70 тысяч человек. Все они, для русского глаза, были на одно лицо – смуглые, с черными косами, гортанно кричат и напирают на готовый к полету аппарат. Китайские солдаты, картинно потрясая винтовками, оттесняют их к импровизированной трибуне, где заняли свои места европейцы. Ждут наместника. Но вот у самолета появился Шишкин и личный адъютант Джаерь-Сюня. Наместнику нездоровилось, и он просил начинать без него; просил также – если русский летчик может, то пусть пролетит над его дворцом.
Загремел бравурный марш. Кузминский взвился над толпой. Зрители разом, словно по сигналу, упали на колени. Картина открылась необычная. Вместо знакомой европейской мозаики цветных дамских шляпок и зонтиков внизу развернулось сплошное волнующееся море черных кос. Сделав три круга, Кузминский полетел к дворцу наместника. На балконе в окружении своих жен находился Джаерь-Сюнь. Разглядев летчика, помахавшего ему рукой, он встал и церемонно поклонился, как бы приглашая на торжественный прием, устроенный на следующий день в честь русского авиатора, впервые поднявшегося в небо Китая.
В Тянь-Тзине
Тянь-Тзинь (современное название Тяньцзинь), центр экспорта риса, встретил Кузминского с недоверием. Некоторое время назад французский консул, желая продемонстрировать успехи Франции, вытребовал из метрополии аппарат и летчика. Но, несмотря ни на какие усилия, французу не удалось оторвать самолет от земли, и идея воздухоплавания была здесь сильно подорвана. Китайцы не хотели уже тратить деньги на покупку входных билетов. Лишь дав гарантию, что в случае неудачи деньги будут возвращены. Шишкину удалось привлечь зрителей на арендованный им английский ипподром.
Полет был удачен. Рукоплескали и европейцы в белых костюмах, и китайцы со своими женами в национальных шелковых халатах. К опустившемуся самолету приблизился французский консул в сопровождении богатого старого китайца-коммерсанта. Разглядывая самолет и слушая объяснения Кузминского, консул вдруг обратился к китайцу:
– Не удивляет ли вас то обстоятельство, что машина весом в 20 пудов, да еще с человеком в 5 пудов, может так легко и свободно летать?
– Я был бы, напротив того, снова удивлен, как недавно, если бы машина, сделанная для того, чтобы летать, не летала, – ответил серьезно старик.
Никто из них еще не знал, что в это время на далекой родине русского летчика Петербургский Русско-Балтийский машиностроительный завод строил небывалый по мощности самолет «Русский витязь» – с четырьмя моторами по 100 лошадиных сил каждый, с закрытой кабиной для трех членов экипажа и десяти пассажиров, прообраз «Ильи Муромца», с которого началась слава русской авиации уже как самой передовой и самой сильной в мире.
Над «запретным городом»
Наступили осенние китайские праздники. Кузминский, приехав в Пекин, обратился за содействием к русскому посланнику Крупенскому, чтобы тот посодействовал, получил разрешение у китайских властей на полет над праздничной столицей. И Крупенский не только добился согласия, но и обеспечил допуск китайцев в закрытый для них европейский квартал, на плац, где проводились учения русских и английских солдат.
В назначенный день огромная толпа китайцев собралась в европейском квартале между Великой китайской стеной и стеной, окружающей императорские дворцы. В полном сборе была и европейская колония.
Кузминский взмыл вверх, сделал несколько кругов над европейским кварталом и вдруг полетел к священной роще, обнесенной каменной стеной, к так называемому «Храму Неба»; полетел над кронами столетних деревьев, над громадными лужайками, покрытыми дивной зеленью, над старинными пагодами... Облетев Храм Неба, Кузминский повернул к императорским дворцам, так называемому «Запретному городу» (город Гугун), куда ни разу не ступала нога европейца. Та же сказочная картина: крошечные квадратные дворики, обнесенные стенами, один в одном, и в середине – старый пруд, покрытый белыми лилиями. На берегу пруда мраморная белая пагода...
Кузминский повернул обратно и, сделав еще несколько кругов над публикой, опустился возле трибун. Со всех сторон к нему ринулись иностранные корреспонденты:
– Что вы видели в Священном городе?
– Как он выглядит?
– Видели вы малолетнего императора?..
И на следующий день весь мир – по телеграфу – узнал о первом полете русского человека над Священным городом Пекина, а недовольный Юань Шикай, президент Китайской Республики, допытывался у английского посланника:
– Разрешено ли в Европе летчикам летать там, где это им заблагорассудится, несмотря на высказанный запрет?
– Ваше высокопревосходительство, – отвечал дипломат, – я четыре года назад покинул Европу, и существующие там в настоящее время законоположения насчет полетов мне не известны...
Над Янцзы

Кузминский надолго задержался в Пекине, где, в его честь был устроен ряд вечеров и званых обедов. Только настойчивые телеграммы Шишкина из Ханькоу (Ханькоу – часть современного города Ухань), наконец, заставили его покинуть гостеприимную столицу. Механики с собранным аппаратом уже были на месте. Афиши были давно расклеены, и жители с нетерпением ожидали приезда русского летчика.
Ханькоу, центр экспорта чая, расположен на берегу величайшей в Китае реки Ян-цзы-Кианг (современное написание – Янцзы (Чанцзян)), или «Голубой реки», как называют ее китайцы. Кузминский с Шишкиным и переводчиком шли по набережной, вдоль огромных, принадлежавших иностранным концессиям пакгаузов, из которых грузили на океанские пароходы запакованные в циновки тяжелые тюки с чаем. Ветер дул с реки, но даже при этом в воздухе господствовал тонкий аромат чая. По узким сходням китайцы – кули – с тюками на спине, друг за другом взбегали с акробатической ловкостью на пароходы. Откуда-то доносился болезненный стон, так напомнивший летчику вдруг пекинских колодников. Шишкин спросил о нем у провожатого.
– Это их песня, так легче работать, – объяснил переводчик.
– Китайская «Дубинушка», – подтвердил Кузминский, вспомнив родную Волгу.
На другой день на ипподроме состоялся полет. Была чудесная ноябрьская погода. Присутствовал весь Ханькоу. Странно было видеть лишь множество японских солдат. Они охраняли японскую концессию, и все поголовно явились на ипподром. Японские офицеры без стеснения рассматривали аппарат, делали измерения различных частей, срисовывали детали, гак как авиации у Японии тогда еще не было. Кузминскому даже пришлось попросить хозяев ипподрома, англичан, поставить сипаев (сипаи – индийские солдаты на английской службе) на охрану аппарата.
Вечером летчик получил приглашение от вице-президента Китайской Республики Ли Хуен-Хунга, живущего в городе Хайнане – на другом берегу Янцзы, полетать перед ним. Кузминский обещал адъютанту Ли Хуен-Хунга сделать круг над дворцом вице-президента.
– Перелететь Янцзы недоступно людям! Я доложу вице-президенту, – сказал адъютант.
На другой день Кузминский летел над Янцзы. С сотен джонок, барж, пароходов, китайских и иностранных миноносцев и канонерок приветствовали русского летчика. Долетев до Хайнаня, Кузминский отыскал дворец Ли Хуен-Хунга по дивной роще, окружавшей старинное строение, и, сделав несколько кругов на различной высоте, вернулся в Ханькоу.
В благодарность вице-президент прислал летчику только что созданный тогда орден Республики и старинную китайскую вазу, которые Кузминский вместе с другими полученными им подарками привез в 1913 году в Россию.
В Шанхае и Гонконге
Погрузив разобранный аппарат на пароход, Кузминский со спутниками двинулся по Янцзы в Шанхай. Это было незабываемое путешествие. Спокойная многоводная река с тысячами рыбачьих джонок и океанских пароходов, солнечная погода и чудесные берега, на которых работали десятки тысяч крестьян... Была пора посадки риса. Лениво шлепали по грязи косматые буйволы с огромными рогами. Сзади, налегая на соху, шли крестьяне. Рисовые, чайные и другие плантации чередовались одна за другой.
В Шанхае, центре торговли опиумом и воротами в Китай для иностранных колонизаторов, красовались европейские и американские дома и виллы; чудесная набережная была построена на деньги, вырученные от продажи опия. Правительство Китайской Республики ввело ограничение на ввоз этого вредного зелья и открыло казенную продажу его, снабдив застарелых курильщиков особыми карточками. Однако англичане, составляющие большинство чиновников таможни, не могли отказаться от своих барышей, несмотря на официальную конвенцию Англии с Китаем, ограничивающую ввоз в страну опия, который по-прежнему свободно проникал в Китай из Индии, Греции и других стран под видом «медикаментов». Китайцы курили, англичане богатели... Кузминского поразила нищета шанхайских рабочих. В цветочных чайных домиках (иносказание, обозначающее чайный домик с женской обслугой; «цветы» – молоденькие девушки внаем) посетителей обслуживали раскрашенные женщины. Маленькая девочка забралась на колени к летчику и что-то залепетала... Сидевший рядом англичанин криво улыбнулся и перевел. Она говорила, чтобы веселый господин забрал ее к себе и что сейчас она немного худа, но если хорошенько покормить ее, из нее выйдет прекрасная жена.
И все это – на фоне богатых улиц, усыпанных роскошными магазинами, которые ломились от безделушек из слоновой кости и черепахового гребня, от шелков феерических расцветок...
Полет Кузминского в Шанхае, на территории английской концессии, прошел удачно. Вся европейская колония приветствовала летчика, но китайцев пришло мало, да и те были угрюмы. По окончании полета они приблизились к самолету и забросали его камнями, видя в нем лишь новое свидетельство могущества своих угнетателей. Полиции едва удалось отстоять аппарат от разгрома...
А в Гонконге прямо со стен уже срывали афиши, военный губернатор запретил иностранцу летать над крепостью, а слуги в гостинице отказались служить русскому летчику. Но Кузминский все же взлетел и поднялся над горами острова Калун (современное написание – Коулун), находящемся напротив крепости, и весь иностранный Гонконг наблюдал полет. Но ни одного китайца летчик не заметил. Одним словом, продолжать полеты в Китае, ввиду возникших трений между российским и китайским правительствами по поводу Маньчжурии, было невозможно.
Владлен Хаблов