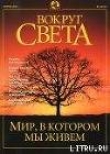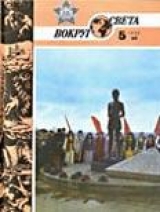
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №05 за 1985 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
На пик Победы

Пик Победы занимает особое место в истории советского альпинизма. Его зовут самым недоступным, самым грозным семитысячником – эта вершина предъявляет очень высокие требования к физической и моральной подготовке восходителей. Погода здесь переменчива и коварна: сейчас греет и ласкает жаркое солнце, а через несколько минут уже метет снежный заряд...
В исследовании и освоении Центрального Тянь-Шаня, где расположены пик Победы, Хан-Тенгри и другие менее известные вершины, важную роль сыграли экспедиции М. Т. Погребецкого в 1929– 1935 годах. С вершины Хан-Тенгри (6995 метров) Погребецкий увидел расположенную южнее неизвестную гору, грандиозность и высота которой поразили его. Легенды и слухи о существовании вершины, равной или превосходящей Хан-Тенгри, получили подтверждение. Было это в 1931 году, а пять лет спустя группа Е. Абалакова, совершавшая восхождение на Хан-Тенгри, получила дополнительное свидетельство о существовании неизвестного гиганта. Наконец, экспедиция А. А. Летавета в 1938 году была уже совершенно целенаправленной: она изучала подходы и возможность покорения обнаруженной вершины. Экспедиция была организована в год 20-летия образования Коммунистического союза молодежи. Молодые альпинисты на одиннадцатые сутки восхождения при почти полном отсутствии видимости поднялись на вершину. Восходители назвали ее пиком 20-летия Комсомола.
В 1943 году на Тянь-Шане работала топографическая экспедиция под руководством П. Н. Рапасова. Одним из наиболее важных результатов было точное определение высоты высочайшего пика Тянь-Шаня. Она оказалась равной 7439 метрам. Высшая точка Тянь-Шаня, названная топографами по окончании съемок пиком Военных топографов, в 1946 году была переименована в пик Победы – в честь победы нашего народа над фашистской Германией. Пиком Военных топографов стала высокая безымянная вершина (6873 метра) хребта Меридиональный.
На склонах Победы альпинисты столкнулись с тяжелейшими метеорологическими условиями, с высокой лавинной опасностью. Надо было преодолевать бесконечные снежные поля, ледопады, заснеженный и местами обледенелый скальный рельеф. Экспедиции 1949, 1952, 1953 и 1955 годов потерпели неудачи. Лишь в 1956 году хорошо организованная команда «Спартака» под руководством В. Абалакова поднялась на Центральную Победу. А двумя годами позже успехом закончилась экспедиция московского «Буревестника». На Центральной Победе побывала команда из семи человек под руководством И. А. Ерохина.
Вершина на пике Победы очень сглажена и растянута. Точное определение наивысшей точки в таких случаях затруднительно. Поэтому команды, поднявшиеся на Победу, устанавливали вершинный тур там, где считали правильным. Вот и получилось, что Абалаков не нашел тур, оставленный Л. Гутманом в 1938 году, а Ерохин не нашел тур Абалакова. Недоразумения с местом нахождения вершинного тура на Центральной Победе продолжаются до сегодняшнего дня. В 1981 году команде минчан не засчитали восхождение, так как они в условиях жестокой непогоды не нашли тур команды Спорткомитета СССР и установили свой, а в 1984 году их записка была найдена недалеко от вершинного тура...
После Эвереста мне, как и всем восходителям на высочайшую вершину мира, множество людей задавали один и тот же вопрос: «Ну, хорошо. Покорен высочайший пик, высотный полюс планеты. Куда же дальше и выше? Есть ли вершины, достойные внимания, или все проблемы решены?» Сама постановка такого вопроса неправомерна. Разве можно одним восхождением раз и навсегда решить все проблемы альпинизма?
Для меня вопрос – куда ехать после Эвереста? – решался однозначно: только на Победу. Свои первые восхождения на семитысячники (пик Ленина и пик Е. Корженевской) я совершил в 1973 году. В 1974 году поднялся на Хан-Тенгри, а потом многократно различными путями поднимался на пик Коммунизма. А в преддверии сорокалетия Великой Победы очень хотелось совершить восхождение на наш четвертый гигант, самый северный семитысячник – пик Победы.
Летом 1983 года я работал тренером-консультантом на филиале Международного альпинистского лагеря «Памир-83», расположенном в верховьях ледника Москвина. Наши зарубежные гости совершали восхождения на пики Е. Корженевской и Коммунизма, находящиеся в непосредственной близости от лагеря. Иностранных участников было много – иногда в столовой собиралось более ста человек. Тренеры-консультанты должны были обеспечивать гостей необходимыми материалами о маршрутах восхождений, а также оказывать своевременную помощь восходителям, испытывающим трудности или терпящим бедствие.
И вот в один из дней по лагерю разнеслась удивительная весть – руководство МАЛа решило поощрить тренеров со стажем не менее трех лет работы, предоставив им возможность взойти на Победу. Трудно было придумать лучшую награду для альпинистов-высотников. Все «старослужащие» загорелись желанием попасть на Победу. Лично я работал в МАЛе два сезона: в 1979 и 1980 годах. В 1981 году я участвовал в подготовке к Гималаям, а в 1982-м после Эвереста работал на Кавказе. Тем не менее все мои мысли были уже на Тянь-Шане. Мы обсуждали планы восхождения с руководителем филиала О. Борисенком так, будто решение о моем участии уже принято. С Олегом меня связывали два года работы на филиалах и совместные восхождения на пики Е. Корженевской и Коммунизма. Олег делился своими переживаниями. Получив очередное письмо из дома, размышлял вслух:
– Жена спрашивает, зачем мне второй раз на Победу? Как ей объяснить? Ведь Победу каждый раз переживаешь заново. Новый маршрут – это новое восхождение.
Смена подходила к концу. Как-то раз мы вышли наверх на Памирское плато.

На высоте 5100 встречаем Гену Курочкина, бегущего с плато к вертолету со спецзаданием: ему поручено отправляться в Ош и решать вопросы отъезда группы тренеров под Победу. Значит, Победа состоится!
С Памирским плато у меня связано много воспоминаний о сезонах, проведенных в этом районе. Каждый раз, поднимаясь сюда на высоту 6000 метров, восхищаюсь этим уникальным уголком природы. Ровное, вытянутое на 14 километров фирновое плато окружено памирскими гигантами. Слева пирамидой с вершиной в виде тибетской пагоды возвышается пик Хохлова (6700 метров), а еще выше над ледопадом стоит, поражая своим величием, пик Коммунизма (7495 метров), под ним снежный горб пика Душанбе (6900 метров).
По радиосвязи я узнал, что меня зачислили в состав сбора, отъезжающего на Победу,– в группу О. Борисенка. Начальником сбора назначен Николай Черный (участник гималайской экспедиции 1982 года) – заместитель директора МАЛа по спортивной работе.
Через день, свернув филиал, мы перелетаем на вертолете на поляну Ачик-Таш. Потом автобус везет нас в Ош, далее – перелет в Пржевальск над голубым зеркалом Иссык-Куля. В Пржевальске – зелень, свежесть. Все здесь знакомо мне по 1974 году, когда мы в составе команды московского «Буревестника» совершали восхождение на Хан-Тенгри...
11 августа больше половины участников сбора собрались в альплагере Ала-Тоо. На следующий день прилетает вертолет со всем необходимым снаряжением и последними участниками сбора.
Располагаемся на краю летного поля цыганским табором. Нас 17 альпинистов, завхоз и доктор Люба Шведова. Самое удивительное, что сегодня же будет сделан один или даже два рейса под Победу. За штурвалом хорошо нам знакомый по работе в МАЛе летчик Н. П. Сергиенко – в любых ситуациях он сохраняет спокойствие и доброжелательность.
Вылетаю с первым рейсом. Внизу проплывают безжизненные склоны предгорьев Центрального Тянь-Шаня. Остался позади Иссык-Куль. Пролетаем над Чон-Ташем, справа проплывает пик Нансена, внизу начинается бескрайняя ледяная река в разрывах и трещинах – ледник Иныльчек. Вертолет закладывает крутой вираж, и вот уже на правой морене ледника Дикий, впадающего в ледник Южный Иныльчек, красными пятнышками виднеются палатки экспедиции московского «Буревестника». С первого захода опускаемся недалеко от палаток прямо на неровный волнистый лед. Вертолет, зависнув в воздухе, разворачивается на девяносто градусов и аккуратно приседает на ледяной гребень. Винт продолжает вращаться, поддерживая машину на весу. Все восхищены мастерством нашего вертолетчика. Знакомые лица. Здесь и Эдуард Мысловский, работающий тренером экспедиции.

Сбрасываем грузы на лед. Вертолет ныряет вниз и уходит на Пржевальск. Облака плотно закрыли все подступы к леднику, поднялся ветер, посыпала крупа – обычная тянь-шаньская погодка. Ясно, что вертолет сегодня уже не прилетит во второй раз, но это не нарушает наши планы. Сегодня 12 августа – день установки базового лагеря. Ставим две палатки с металлическим каркасом для жилья, большую зеленую палатку под кухню и склад. Из ящиков сложили обеденный стол. Обедать приглашают гостеприимные хозяева. Эдик Мысловский, Володя Шполянский, Володя Засецкий во главе стола. Разговор идет о погоде, состоянии снега... Володя Шполянский – участник экспедиции на пик Победы 1958 года – спрашивает:
– Каким временем располагаете?
– Недели полторы, не более. Выходить будем завтра или послезавтра.
– Да-а...– протянул Володя многозначительно и недоверчиво усмехнулся.
Шполянскому очень хорошо знакомы коварство и непредсказуемость погоды на Победе. В 1958 году после одиннадцатидневного траверса восточного гребня в очень тяжелых погодных условиях, не дойдя менее ста метров до вершины, он пошел вниз, сопровождая заболевшего товарища.
14 августа с раннего утра в лагере царит оживление и суета: альпинисты смазывают ботинки разогретой на огне смазкой, придирчиво сортируют продукты, подгоняют кошки. Все семнадцать восходителей разделены на четыре группы. В группе О. Борисенка, кроме меня, еще Ильмар Прийметс из Тарту и В. Бахтигозин из Харькова.
День выхода на восхождение назначен на пятнадцатое августа, но, посовещавшись, мы решили выйти вечером четырнадцатого, переночевать в верховьях ледника Дикий и рано утром подниматься на перевал, известный своей крутизной и лавиноопасностью. Все было бы хорошо, если бы кто-нибудь из нас уже ходил этим путем, но трое были здесь впервые, а Олег поднимался в 1970 году с ледника Звездочка.
Благополучно переночевав в верховьях ледника, мы, не задумавшись ни на секунду, по чьим-то следам направились на ближайший крутой снежно-ледовый склон, предполагая, будто это и есть путь на перевал Дикий. После выхода на гребень мы с горечью убедились, что поднялись не на перевал, а на отрог хребта: придется снова спускаться вниз, чтобы пересечь небольшой фирновый бассейн, и опять подниматься теперь уже на настоящий перевал Дикий. Вот уж воистину: кратчайший путь – это путь, который известен.
Подъем на перевал занял часа полтора. После выхода наверх по острому снежному гребню подошли к снежной пещере на высоте 5100 метров. Пещера вырублена альпинистами. Мы не собираемся здесь ночевать – передохнем, перекусим и пойдем выше. На гребне печет солнце, а в пещере зимний холод. Контраст слишком велик. Трудно понять, где же все-таки лучше: наверху или в пещере? В конце концов выбираю жару. Вытаптываю в рыхлом пушистом снегу подобие берлоги, устраиваюсь поудобнее и начинаю греть воду на газовой горелке. Только успели слегка перекусить, как погода резко ухудшилась. Налетевшая облачность плотно затянула небосвод, пошел снег. Снимаемся с места отдыха и, вытаптывая следы, поочередно меняя ведущего, поднимаемся по снежному гребню на высоту 5800 метров. Здесь на разных уровнях расположены небольшие террасы, пригодные для установки нескольких палаток. Устраиваемся на ночлег.
16 августа с утра зарядила метель. Посидели в палатке, готовые к выходу, посетовали на непогоду и, осознав, что лучше все равно не будет, но будет хуже, если дождемся сильного ветра, вылезли наружу.
При выходе на скальный гребень снегопад затруднял продвижение, но все трудности оказались вполне преодолимы. Самое главное, что на крутом скальном рельефе снег не накапливался и не создавал лавинной опасности.
Поднимается ветер. С каждой минутой сила его возрастает. Решаем переждать непогоду. Вырубаем площадку и ставим палатку. Весь следующий день непогода не унимается, всю ночь палатку рвет неистовый ветер.
18 августа ветер несколько стих, и мы снова выходим наверх. Проглядывает солнце, но сильный ветер продолжает дуть, сметая снег со склонов. Высоту набираем довольно быстро. К середине дня подходим под вершину 6918 метров, названную именем грузинского поэта Важа Пшавелы. Склон крутой, фирн твердый, в застругах, но кошки держат хорошо. Ветер дует с запада прямо в лицо. Идем с Олегом, выбирая кратчайший путь к вершине. Вперед выходят ребята из другой группы – И. Степанов, потом Ю. Голодов. Так вчетвером выходим наверх и продолжаем двигаться по гребню. Здесь уже потише, да и направление движения изменилось, ветер теперь дует в спину.
К нам подтягиваются В. Путрин, Б. Студенин и В. Байбора. Посовещавшись, решаем идти по гребню до первого тихого места, пригодного для разбивки штурмового лагеря. Сзади подтягивается группа Коли Черного. Подходим к снежной мульде (Углубление в снежном склоне, образованное ветром. (Прим. ред.)). Здесь относительно тихо, снег не слишком твердый и не сыпучий – можно выровнять площадки и построить из снежных кирпичей ветрозащитные стенки. Высота 6900, но работаем активно. Высотного опыта всем не занимать – каждый знает цену хорошо оборудованного, защищенного от ветра бивуака. Через час вырастает небольшой палаточный городок, прячущийся в снежном склоне. Наиболее резвые альпинисты считают, что сегодня, пока погода позволяет, надо сделать попытку штурма вершины. Начальник – Коля Черный, его слово решающее. Коля в принципе не возражает, но и не одобряет.
Группа «скоростников» – Путрин, Голодов, Степанов, Студенин и Байбора – выходит наверх. Минут через десять решаем идти и мы, но с условием: в 19 часов возвращаться, где бы в этот момент ни находились.
Налегке, в хорошем темпе подходим под предвершинный взлет и начинаем подъем по гребню. Солнце клонится к закату. По ажурному острому гребешку, страхуясь за выступы, медленно продвигаемся наверх – на крышу Центральной Победы.
Внезапно из-под ног уходит снежная «доска». Успеваю схватиться руками за гребень. Все в порядке, но нужно быть предельно внимательными. Солнце посылает последние лучи, сразу становится холодно. Чувствую, как начинают замерзать ноги. Оцениваю расстояние до вершины – часа полтора, не меньше. Время – 19.30. Предлагаю вернуться и завтра утром повторить попытку. Олег и Ильмар сразу соглашаются. Бахтигозин мнется и умоляюще смотрит на Олега. Потом просит его отпустить на вершину с группой Студенина. Олег машет рукой. Чего там – все не раз и не два ходили вместе на восхождения. И вообще все эти деления на группы не более чем форма, нужная только для того, чтобы распределить людей по палаткам. Здесь один коллектив, объединенный одной целью.
Мне опыт подсказывает, что нужно бежать вниз – и как можно скорее. Пока светло, спускаемся на перемычку, и здесь я понимаю, что дальше предстоит тяжелая работа – все вверх и вверх. Когда мы шли от палаток, то некоторое время спускались, но рельеф был незаметен. Зато теперь каждый шаг дается с трудом.
Упала темнота. Звездное небо освещает след, однако неверный отблеск только затрудняет движение. Я все время ступаю мимо следа и проваливаюсь по колено. Потерял счет времени. Кажется, что прошел мимо палаток. Попробовал вернуться, но ничего не нашел и снова двинулся вперед. Наконец увидел темные силуэты палаток. Спать легли за полночь. Утром узнали, что восходители вернулись поздно ночью.
19 августа вышли раньше всех. Общее состояние нормальное, правда, чувствуется вчерашняя усталость. Дорога знакома, но кажется чуть-чуть длиннее, чем вчера. В одиннадцать утра подхожу к тому месту, откуда вчера повернули назад. Интересно, за сколько мы дойдем до вершины? Кажется, что до цели рукой подать, но это впечатление обманчивое. Крутизна уменьшается, и начинается пологий длинный склон. Думаешь – вот за этим перегибом начнется спуск, но дальше маячит новый перегиб, и так до бесконечности.

Прошел час, а вершинного тура все нет. Наконец натыкаюсь на тур, наспех сложенный из крупных камней. В нем записка группы Студенина. Однако это не вершинный тур. Иду дальше и через полтораста метров наконец вижу гребень, спускающийся вниз, к Восточной Победе. Справа на гранитной плите сложен тур с обломком самодельного ледоруба. Вынимаю жестяную банку. В ней записка группы В. Смирнова, совершившей в 1982 году восхождение на Центральную Победу по северо-западной стене. Штычок от ледоруба беру как сувенир. Собираю несколько камней, кладу в рюкзак. Совершенно неожиданно снизу подходит Ю. Бородкин. Вот не ожидал его так быстро увидеть, хотя именно от него этого можно было ожидать. Наш Юра, как всегда, бурно финиширует. Подходит Олег. Делаем снимки на память у вершинного тура. Пробую снять панораму, но мешает слишком густая облачность. Укладываем свою записку в тур и начинаем спускаться. На предвершинном гребне вижу фигурки альпинистов. Почему их так много? Наверх уже прошли Н. Черный, Г. Курочкин, В. Глухов, В. Петифоров. Значит, остались еще трое. Наконец соображаю, что к вершине поднимается команда «Буревестника». Они вышли из базового лагеря на день позже нас, но не теряли времени из-за непогоды, поэтому догнали нас у самой вершины. Мне очень приятно, что здесь Володя Засецкий – он достиг цели с третьей попытки. А вот Слава Глухов – с четвертой. Первую попытку он сделал еще в 1958 году в экспедиции Ерохина. Наверх идет Э. Мысловский, он поднимается на Победу второй раз.
Спуск до перевала и с перевала прошел нормально. И вот здесь, когда казалось, что все трудности позади, Победа напомнила о себе. Самый молодой участник нашей команды – Леня Орловский, спустившийся с перевала первым,– шел передо мной, отвязавшись от веревки. Снег был раскисший, то и дело проваливался под ногами. На мгновение я задумался, глядя под ноги, а когда поднял голову, Лени уже не было видно, впереди зияла черная дыра. Сбросив рюкзаки, мы с Олегом по-пластунски подползли к дыре. Выяснили, что Леня жив и что он по горло в воде. Сначала вытащили рюкзак, а потом, опустив два конца веревки, начали подъем потерпевшего. Вытащили Леню целым и невредимым, только очень напуганным и мокрым. Остальные проявили максимум осторожности, и, наконец все собрались на теплых скалах в безопасном месте. Вот теперь можно было подвести итоги.
...Команда «Буревестника» в составе десяти человек полностью взошла на вершину. Это большой успех. А у нас взошли все семнадцать человек. Такого еще в истории покорения Победы не было...
Тянь-Шань – Москва
Владимир Пучков, кандидат технических наук, заслуженный мастер спорта СССР, восходитель на Эверест
Морабеза острова Сан-Висенти

Остров появился сразу и неожиданно. Как я ни вглядывался в темно-синюю гладь Атлантики, изрезанную белой, едва различимой сеткой волн, как ни предвкушал возникновения внизу архипелага – Республики Острова Зеленого Мыса,– все равно появление суши застало меня врасплох. Волны океана сменились бетонной полосой, и самолет покатился среди красно-рыжих, совершенно лишенных растительности остроконечных скал острова Сан-Висенти. На этом острове мне предстояло проработать врачом несколько лет.
Аэропорт расположен в тринадцати километрах от города. Ровная прямая дорога бежит по пустынной местности, и вдруг с подъема открывается бухта Порту-Гранди. Пирс, стоящие в гавани суда, элеватор, аккуратные кварталы невысоких серо-белых домиков – это город-порт Минделу, который зеленомысцы называют «сердцем» страны.
В последние годы советские врачи оказывают весомую помощь молодой республике в развитии практического здравоохранения. Нам, вновь прибывшей группе, предстояло влиться в интернациональный коллектив регионального госпиталя Минделу. Помимо национальных медиков и советских специалистов, здесь работали представители Кубы, Португалии, Швеции, Голландии, Бразилии. Республика Острова Зеленого Мыса еще испытывает недостаток в специалистах-медиках. Подготовка их за рубежом занимает немало времени, и, что греха таить, дипломированный специалист не всегда возвращается на родину.

Минделу и Сан-Висенти... Для островитян эти слова – почти синонимы, хотя первое обозначает город, а второе остров. Вся жизнь Сао-Сента (так местные жители называют свой остров) сосредоточена в его столице, поэтому в народном сознании эти географические термины сливаются. Да и как иначе, если на острове, кроме Минделу, всего лишь две-три крохотные рыбацкие деревушки, и больше никаких очагов цивилизации.
Вплоть до конца XVIII века остров пустовал. Никто даже не пытался заселить этот бедный растительностью и водой клочок суши. А в середине XIX столетия Сан-Висенти ожил. В удобной естественной бухте Порту-Гранди начали строить огромные хранилища каменного угля, и Минделу стал одним из самых посещаемых портов западной Африки. Сотни судов ежегодно бросали якоря в удобной бухте. Возможность получить работу в оживленном порту манила жителей соседних островов. Население города быстро росло. Докатился сюда и научно-технический прогресс: на Сао-Сенте построили станцию подводного телеграфа, соединившего Европу с Бразилией.
Со временем Минделу превратился в культурный центр архипелага. Первый лицей на Островах Зеленого Мыса был торжественно открыт в 1917 году, а преподаватели и лицеисты составили основное ядро творческой интеллигенции.
Язык, на котором говорят зеленомысцы,– креольский, выросший на основе португальского языка. Архипелаг широко раскинулся в океане, у каждого острова были свои особенности в истории, поэтому диалект Санту-Антана отличается от диалекта Боавишты, а жители Сантьягу не всегда поймут фразеологизмы жителей острова Сал. Диалект обитателей Минделу благодаря многолетнему общению в прошлом с тысячами британских моряков и служащих британских угольных компаний впитал в себя определенный словарный запас английского языка. Конечно, живая разговорная речь изменила в отдельных случаях фонетику, исказила морфологию, но смысл легко улавливается. «Бай»,– говорит при прощании минделец, мальчик у него – «бойс», окурок – «лефт».
Зеленомысский карнавал, во многом напоминающий бразильский, отличается большей сдержанностью, глубиной сюжетов и отчетливой исторической конкретностью. Страницы истории архипелага буквально оживают перед зрителями карнавала.
Вот «чиновник» с миской и ложкой «угощает» публику кукурузной похлебкой, на спине у актера – надпись, конкретизирующая сюжет: «Голод 40-х годов». Тогда по причине засухи и отсутствия морских коммуникаций, нарушенных второй мировой войной, погибли десятки тысяч зеленомысцев.
Вот парни весело толкают ветхий «рено» двадцатых годов – один из первых автомобилей, появившихся на Сан-Висенти. Однако вместо номера спереди и сзади огромными буквами начертано неожиданное – «Обкатка».
Добродушная ирония, безобидная шутка, желание окрасить человеческие отношения в юмористические тона, незлобивое лукавство характеризуются на архипелаге одним креольским словом – «морабеза». Каждый зеленомысец уверен – и жители Сан-Висенти не исключение,– что истинная морабеза отличает только уроженцев его родного острова.
Однажды я обратился к рентгенотехнику Жозе с просьбой одолжить мне отвертку. Жозе степенно, долго роется в ящиках. Наконец интересуется, зачем же она мне понадобилась.
– Починить магнитофон.
В глазах у рентгенотехника появляется неподдельное уважение.
– Доктор – большой специалист по радиотехнике, магнитофонам?
Несколько смутившись, отвечаю: нет, конечно, просто хотел бы открыть крышку, взглянуть.
Веселые искорки вспыхивают в глазах Жозе.
– А магнитофон большой? Я показываю размеры.
– Ого! – Продолжая улыбаться, Жозе протягивает мне отвертку.– Могу ли я надеяться, что доктор подарит мне маленький магнитофон, который обязательно останется после этого удачного ремонта?
Мы дружно смеемся.
В окне одной лавки в Минделу я видел следующее объявление: «Товары в кредит ДАЮ! Но лицам старше 100 лет и лишь в сопровождении собственных родителей».
Владелец «Народного бара», решив придать вес своему заведению и тем самым подняться в собственных глазах, укрепил над стойкой безапелляционное утверждение, выжженное на дощечке красного дерева: «Кто не курит, не пьет и ни разу в жизни не солгал – не сын почтенных родителей!»
Жители Минделу, как и все зеленомысцы, очень музыкальны. Один-два раза в неделю в одном из баров можно послушать игру небольшого любительского оркестрика: две, максимум три гитары, скрипка, иногда пианола или саксофон. Скромно и тихо расположившись в темном уголке, музыканты начинают играть плавную морну. Это медленная, лирическая песня, исполняемая обычно под аккомпанемент гитары. Морны – типичное явление зеленомысской культуры, только здесь, на архипелаге, их и можно услышать.
Внимательно и с чувством слушают посетители морну. Потом начинают подпевать. Один, второй, третий...
В песнях чаще звучит то, что волнует всех и знакомо каждому: нелегкая жизнь моряка, тяготы чужбины, разлука с любимой, отчим домом, друзьями. В прошлые времена нужда часто заставляла зеленомысцев эмигрировать в Европу или Америку. А там – изнурительная работа, вечный страх потерять ее, презрение к чужаку, постоянно читаемое в глазах окружающих...
Пожалуй, лучше всех выразил эти чувства известный зеленомысский поэт Эвженио Товареш в любимой всеми морне «Час прощания»:
И если сладок встречи день,
То горше нет часов прощанья,
Но кто не уезжает никуда,
Тот не узнает
Радость возвращенья...

Эти музыкально-поэтические вечера зовутся «Зеленомысская ночь». На них любят заходить иностранцы, гости Минделу, но больше всего сами жители Сан-Висенти.
За годы работы я познакомился и подружился со многими зеленомысцами, но чаще всего встречался с двумя молодыми жителями Минделу – Альфредо и Еурико. Несмотря на разницу в социальном положении – Альфредо – сын состоятельных родителей, изучавший право во Франции, а Еурико – механик,– многое сближало этих людей. И прежде всего сходство раздумий о судьбе своей родины.
– Обратимся к статистике,– как всегда, горячо говорил Альфредо. – Число зеленомысцев, проживающих за пределами страны в первом, втором и третьем поколениях, весьма велико, особенно если сравнить его с населением, проживающим на архипелаге. В Южной и Северной Америках наших земляков более двухсот пятидесяти тысяч, в Португалии – сорок тысяч, многие десятки тысяч разбросаны в других странах Европы и Африки. Эмиграция – эхо колониального господства, оставившего в наследство драматическую дилемму: нищета или переселение. Проблема эмиграции может быть решена лишь с развитием национальных производительных сил...
Для Альфредо подобные речи – не фраза, не дежурные слова, почерпнутые из газет: три с лишним года на чужбине особенно обострили у него чувство родной земли. Да и Еурико более пяти лет работал во Франции и лишь недавно вернулся в Минделу.
Мы продолжаем разговор и приходим к выводу, что эмиграция – это не просто выезд за пределы страны какой-то части населения. Уезжают, как правило, молодые, здоровые, квалифицированные работники. Экономика страны теряет «золотой фонд» людских ресурсов.
– Порочный круг,– вставляет Еурико. И тут же убежденно продолжает: – Но мы не должны стоять в стороне. Нужно убеждать молодежь в ее необходимости родине. Не сулить золотых гор, но ежедневно доказывать, что мы сами можем построить счастье на нашей земле. Недаром на нашем гербе слова – «Единство, работа, прогресс»...
Госпиталь города Минделу, где я работал, официально называется «Региональный госпиталь Наветренных островов». Помимо Сан-Висенти, он обслуживает еще и близлежащие острова – так называемые Наветренные. Медицинское учреждение со столь солидным названием – оно носит имя португальского врача Баптишта де Соуза – размещается в трехэтажном здании. Госпиталь располагает и административным корпусом: до него примерно километр. Там канцелярия, кабинет директора, лаборатория, кухня, складские помещения, а рядом приютилась крохотная поликлиника. Поликлиническая служба – это три «узких» специалиста: окулист, стоматолог и отоларинголог. Все трое – советские врачи. Помимо нас, в штате имелись три медсестры и две санитарки.

Рабочий день в поликлинике начинается с записи срочных больных, то есть тех, которые направлены на консультацию дежурными врачами госпиталя. Затем строго по списку (я убедился, что внеочередной вызов всегда вносит беспорядок в очередь) приглашаю больных. Опрос, осмотр, выписка рецептов, объяснение по приему лекарств ничем не отличаются от обычного нашего приема в районной больнице.
Но есть особенность. Обязательно смотрю графу «социальное положение», где медсестра проставляет «аттестат», «член профсоюза» или «частное лицо». В зависимости от этого и ориентируешься в дальнейшем.
Аттестат – это документ, удостоверяющий, что владелец его практически не имеет средств к существованию и, естественно, у него не найдется лишних трех-четырех сотен эскудо для поправки пошатнувшегося здоровья. Таким я выписываю рецепт в государственную (госпитальную) аптеку, где бедняки обеспечиваются медикаментами бесплатно. Член профсоюза платит за лекарства лишь четверть стоимости. Наконец, частное лицо – это владельцы лавок, ресторанов, баров, судовладельцы, а то и эмигранты-зеленомысцы – платит за врачебный прием и за лекарства в полном объеме.
Прием идет, Жозе Карлош... Сидонио Пиреш... И вдруг – стоп! ЛЕНИН Родригес! В дверях в сопровождении мамы появляется пятилетнее создание. Осматриваю ребенка, выписываю рецепт, объясняю. Чуть дольше обычного беседую с матерью.
– Интересно, сеньора, почему вы выбрали для своего сына такое имя?
– Отец так назвал, он читал книги Ленина.
И это в бывшей португальской заморской провинции, где не так уж давно одного упоминания имени Ленина было достаточно, чтобы обвинить человека в неблагонадежности! Впоследствии я не раз встречал юных зеленомысцев, которые наряду со своими именами – Жозе, Карлош – гордо носили и бессмертное имя Ленин (имена у зеленомысцев часто двойные).
Сейчас за рубежом немало пишут о лавине коммерческих названий фармацевтических препаратов: зачастую под разными именами скрывается одно и то же лекарство. И действительно, зайдя в частную аптеку, сначала теряешься от обилия ярких коробочек, пузырьков, флаконов с многообещающими названиями, где выделяются приставки «Супер-», «Нео-», «Экстра-», «Ультра-». Но стоит взять описание и внимательно прочитать состав, все становится на свои места. В Португалии сегодня один фармпрепарат нередко имеет до тридцати коммерческих названий. Впрочем, есть и лекарства-«долгожители».