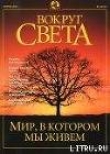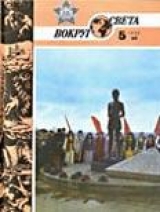
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №05 за 1985 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Между прочим, у нас, в США, несколько лет назад действовал лишь один лагерь. А в 1984 году их были уже десятки. Причем – поразительный факт – лагерь в штате Колорадо организовал Джон Дэнвер – один из самых популярных сейчас певцов. На будущий год мы планируем создать еще двадцать трудовых лагерей.
И очень многого мы, американские борцы за мир, ждем от Московского фестиваля...
В международном трудовом лагере собрались представители молодежи, ощущающей, по их собственным словам, персональную ответственность за судьбы мира. Они были уверены: в их силах добиться того, чтобы дети по всей Земле постепенно забыли страшное слово «война».
Конечно, для решения проблем современного мира мало нескольких дней совместной работы пятидесяти человек из одиннадцати стран планеты. Мало нескольких ночей дискуссий. Тут нужен фестиваль. И он состоится в Москве.
Симферополь
Виталий Мельников, наш спец. корр.
Орден Славы

Серия «Ордена Великой Отечественной» публикуется с № 11 1984 года.
Была середина июля сорок третьего года. На Курской дуге разворачивалось грандиозное сражение. Наступал переломный момент в Великой Отечественной войне против фашистской Германии.
В те дни сотрудник одного из отделов штаба тыла армии Н. С. Неелов показал сначала начальнику Техкома С. В. Агинскому, а потом заместителю наркома обороны начальнику Главного управления тыла Красной Армии Андрею Васильевичу Хрулеву эскиз необычного ордена под девизом «За верность Родине». Генерал армии Хрулев с интересом рассматривал предложенный вариант. К нему заходили генералы и полковники. Был здесь и главный художник Технического комитета Главного управления тыла Красной Армии Александр Иванович Кузнецов, автор ордена Отечественной войны, нескольких боевых медалей.

Эскиз в целом всем понравился, но высказывались и замечания. Поэтому художнику Кузнецову было поручено разработать проект нового ордена.
Прошло три дня. Руководство Наркомата обороны рассмотрело рисунки ордена и полностью их одобрило. Тогда же были выдвинуты новые предложения. Первое: высший военный орден назвать «Победа». И второе: наряду с орденом для высшего командования создать награду для рядового и сержантского состава Красной Армии.
Так 20 июля 1943 года родилась идея солдатского ордена, который поначалу решили назвать «Орден Багратиона» в честь героя Отечественной войны 1812 года Петра Ивановича Багратиона.
Подписав решение Наркомата обороны о создании новой награды, Хрулев утвердил творческую группу из девяти человек. В нее вошли главный художник Центрального Дома Красной Армии Москалев, архитекторы Военпроекта Телятников, Бархин и несколько других художников.
В течение месяца, не отрываясь от основной работы, все они трудились над эскизами солдатского ордена. В результате в Наркомат обороны было представлено двадцать шесть рисунков. После обсуждения Андрей Васильевич Хрулев отобрал четыре.
Шло время. Завершилась Курская битва. Советские войска продолжали теснить фашистских захватчиков с нашей земли. И вот второго октября, в субботу, Хрулева вызвал на доклад об орденах Верховный Главнокомандующий.
– Солдатский орден? – переспросил Иосиф Виссарионович Сталин, выслушав Хрулева.– Что же, идея хорошая. Солдатский орден нужен. Есть необходимость отметить главного труженика войны.
Сталин рассмотрел все четыре рисунка и остановился на эскизе Николая Ивановича Москалева. Художник представил орден в виде пятиконечной звезды с медальоном в центре. На медальоне – выпуклый профиль полководца Багратиона.
Генерал армии Хрулев давал некоторые пояснения:
– Предполагаются четыре степени ордена: первая и вторая будут изготавливаться из золота, а третья и четвертая – из серебра.
И. В. Сталину и находившимся в кабинете членам Ставки Верховного Главнокомандования, представителям Генерального штаба понравились будущий орден и орденская лента, украшенная тремя черными и двумя оранжевыми полосами, символизирующими пламя при выстреле и пороховой дым. Но были и замечания. Верховный Главнокомандующий задал Хрулеву несколько вопросов по статуту будущей солдатской награды. Затем, подводя итог обсуждению, произнес:
– Мы говорили и об ордене «Победа». Ну а победа не может быть без славы... Так и назовем новый орден.
Николай Иванович Москалев за три дня переделал эскиз, поместив в центре барельеф Сталина. В нижней части медальона расположил надпись «Слава».
Сталину, когда Хрулев пришел к нему в очередной раз, орден не понравился. Вернее, не сам орден, а то, что художник изобразил на медальоне его барельеф.
– У нас есть Спасская башня,– сказал Верховный Главнокомандующий, подумал и добавил: – Это символ и Москвы и всей страны. Вот Спасскую башню и надо поместить на ордене...
Снова и снова переделывал, дорабатывал Москалев рисунок солдатского ордена. По решению Ставки Верховного Главнокомандования он изготовил эскизы ордена трех, а не четырех степеней – первой, второй и третьей.
23 октября после обсуждения эскизы Москалева получили одобрение.
Орден Славы представляет собой пятиконечную звезду, слегка выпуклую с лицевой стороны. В середине орденского знака в круге помещено рельефное изображение Кремлевской стены со Спасской башней. В нижней части круга – красная эмалевая ленточка с надписью выпуклыми буквами: «Слава», а вдоль краев круга лавровый венок. Орден Славы I степени изготавливается из золота, II и III степеней – из серебра.
29 октября в кабинете у Хрулева Правительственная комиссия рассмотрела рисунки ордена «Победа» и остановилась на одном из вариантов художника Кузнецова.
Орден «Победа» представляет собой выпуклую пятиконечную рубиновую звезду, по краям которой закреплены бриллианты. В середине звезды – покрытый голубой эмалью круг, в центре которого изображение Кремлевской стены с Мавзолеем Ленина и Спасской башней. Эти изображения сделаны из золота, а над ними помещена надпись «СССР», выполненная белой эмалью. Круг с изображениями окаймлен лавровой и дубовой ветвями. В нижней части круга на красной эмалевой ленточке надпись «Победа», выполненная белыми эмалевыми буквами. Орден изготавливается из платины.
Наступило 5 ноября. Это был день, когда в Ставке Верховного Главнокомандования рассматривались статуты обоих орденов – полководческого и солдатского, образцы ордена «Победа» и эскизы ордена Славы трех степеней.
8 ноября 1943 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, утвердивший эти ордена и их статуты.
Орден «Победа» является высшим военным орденом. К тому же это и произведение ювелирного искусства. Им награждаются лица высшего командного состава за успешное проведение боевых операций в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Советской Армии. За время Великой Отечественной войны орденом «Победа» было произведено девятнадцать награждений. Орден «Победа» за № 1 был вручен Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. Маршал Жуков, Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин и Маршал Советского Союза А. М. Василевский были награждены этим орденом дважды.
Орден Славы – особый знак солдатской доблести. Им награждали рядовых бойцов и сержантов, а в авиации – и летчиков, имеющих звание младшего лейтенанта, за личную отвагу, за личный подвиг. Награждение орденом Славы производилось последовательно: III степенью, II степенью и I степенью.
Ночной рейд
В то утро Георгий так и не закончил письмо. Он писал отцу, что на фронте у них вторую неделю стоит затишье. Затем уточнил: «...относительное, конечно. Наш полк долго наступал. Потом бои стихли, прекратилось движение войск, нам приказали окопаться. В землянке нас много, поэтому тепло...» Георгий писал еще, что чувствует себя неплохо, так что «...ты, отец, не беспокойся, надеюсь дойти до Берлина...».
На этом месте и застал его голос вестового.
– Старшего сержанта Исраеляна,– влетели слова в распахнутую дверь землянки,– к командиру полка!
– Опять письмо не дописал,– буркнул в ворот шинели Георгий.
Когда за ним захлопнулась дверь, издав звук лопнувшей струны, Семен Скороходов, считавшийся в отделении Исраеляна лучшим сапером после самого командира, высказал догадку:
– Значит, наступать пойдем. Раз Георгия к командиру полка позвали, неминуемо бой начнется.
Идя в штаб полка, Исраелян тоже думал о том, что скоро, а может, и завтра, жди наступления...
В штабной землянке было уже накурено. Исраелян доложил о прибытии по всей форме и забился в угол. Он увидел своего комвзвода, комроты, его замполита и командира взвода разведки, давнего своего знакомого... Пока Георгий узнавал в полумраке собравшихся, вошли еще несколько офицеров, и полковник Кротов поднялся из-за самодельного стола.
– Собрались все, кто нужен для проведения намеченной операции,– начал он спокойно, чуть торжественно.– Полковая разведка донесла, что на той стороне стало больше солдат, увеличилось количество огневых точек...
Полковник развернул сложенную гармошкой карту и указал те огневые точки на участке 140-го стрелкового полка, которые были известны командованию. Две артиллерийские батареи у самого берега озера Ильмень; два пулеметных гнезда – по траншее, метрах в десяти от проволочного заграждения; миномет в центре участка. Оставив карту, комполка уточнил обстановку:
– Недавно мы допросили «языка», немецкого лейтенанта. Он утверждает, что немецкое командование устраивает для части своих солдат двухдневный отдых – сегодня и завтра.
Далее командир полка поставил задачу:
– Взвод полковой разведки и взвод автоматчиков под командованием лейтенанта Зубатова, а также саперное отделение под началом старшего сержанта Исраеляна внезапно атакуют траншеи и окопы противника, завязывают бой и в ходе его определяют огневые средства врага, суть и качество инженерных сооружений. Вопросы?
В землянке стояла тишина. С вопросами никто не спешил. Георгий представил, что надо будет сделать его отделению, и мысленно уже прикидывал объем работы...
– Начало операции в двадцать часов. Все свободны.
На прощание полковник пожал руку Исраеляну и напутствовал:
– Помощь, которая потребуется отделению, окажут комроты Петухов и ваш комвзвода. Они и уточнят вам задачу.
По дороге в отделение Исраелян обдумывал предстоящий рейд: надо как следует изучить днем местность, дать поспать солдатам, подготовить инструмент... Он еще не знал, что за разведкой боем последует большая операция по разгрому вражеского гарнизона в селе Звад. Там противник сосредоточил склады оружия, боеприпасов и продовольствия.
Возвратясь в свою землянку, Исраелян приказал:
– Отделению отдыхать до четырнадцати. Потом подготовка к рейду.
Отдав распоряжение, Георгий быстро зашагал на передовую. Его худая, невысокая фигура вскоре появилась у командирской стереотрубы.
– Располагайтесь, старший сержант,– сказал комроты Петухов дружески.– Если замерзнете, можно погреться в третьем от края блиндаже.
– Не беспокойтесь, товарищ старший лейтенант. Я одет тепло.– Он распахнул шинель, и Петухов увидел на нем шерстяную домашнюю душегрейку.
К Исраеляну в роте относились с почтением. За два года войны никто не подорвался на мине в полосе, где работал Георгий.
– Он сапер божьей милостью,– говорил в кругу офицеров Петухов...
В восьмом часу, когда стемнело, а по трофейному радиоприемнику транслировался из Москвы праздничный концерт, отделение Исраеляна покинуло блиндаж и ушло к передовой. В назначенное время саперы встретились с разведчиками и стрелками.
...Свои минные заграждения саперы преодолели легко. Тут они знали все назубок. Но поработать пришлось – мин двадцать разрядили они и отнесли в сторону. Стояла холодная сырая погода, и разборка заграждений разогрела саперов.
До вражеского минного поля оставалось метров триста, когда взлетела первая, а за ней вторая осветительные ракеты. Погасли ракеты. Саперы, а за ними, чуть поотстав, разведчики и стрелки поползли к цели. Еле слышно шуршала одежда, задевая за пожухлую траву и твердые комья земли. Холодно светила луна. Редкий туман рассеивал ее свет, но Георгий в такие минуты все равно не любил луну. Она мешала ему и всем, кто двигался к вражеским траншеям.
Рядом с Георгием тяжело дышал Скороходов. Слева ползли Пащенко и Балаханов, с другой стороны – Семенов и Роганов, остальные пять человек – сзади. Миновали два куста слева, которые Исраелян наметил днем как ориентир. Надо доползти до третьего, и начнется минное поле немцев.
Наконец Исраелян увидел впереди и чуть левее от себя темный куст и поднял руку над головой. Это означало, что впереди минное поле. Снова прямо над саперами взмыли, шипя, две ракеты, и еще одна – подальше, на правом фланге. Все замерли, прижав головы к земле.
Спустя минуту-две Исраелян начал работать. Через каждые десять-двадцать сантиметров он осторожно вгонял в землю щуп впереди себя, слева и справа. Ему одному было слышно шуршание комков земли и треск разрываемых щупом корней травы. Осторожны уколы щупа. Один, второй, третий... Вдруг послышался слабый скрежет: железный стержень коснулся металла. Исраелян дотронулся до плеча Скороходова: «Мина». Семен передал остальным: «Стой! Не двигаться!»
Исраелян осторожно снял слой земли, открыл крышку, вывернул взрыватель. Прокалывая землю, он медленно двигался вперед, за ним Скороходов. Мина, еще и еще... Исраелян обезвредил полтора десятка фугасов и только тогда махнул рукой в направлении вражеских траншей.
Все медленно, осторожно поползли. Остановились у проволочного заграждения. Исраелян перевернулся на спину, стал разглядывать проволоку. На натянутых, как струны, проводах висели консервные банки, какие-то жестянки, бутылки. К Исраеляну подползли лейтенант Зубатов и командир взвода разведчиков. Георгий почти в самое ухо шепнул лейтенанту:
– Резать проволоку нельзя.
– Будем брать штурмом,– глядя в лицо Георгию, сказал Зубатов.– Другого не дано. Передайте всем: приготовить гранаты.
В одно мгновение по взмаху руки лейтенанта саперы, разведчики, стрелки забросали проволочное заграждение гранатами. В следующее мгновение отважные бойцы ворвались в траншею.
Зубатов приказал группе солдат углубиться вправо, в сторону берега озера, и отсечь возможную атаку. Исраелян бросился влево и с ходу наткнулся на извилистый ход сообщения, в конце которого блестела вода. Он оставил здесь одного из саперов, а сам стал быстро продвигаться траншеей дальше. За спиной слышалось дыхание Скороходова. Он ни на шаг не отставал от своего командира.
Впереди и чуть правее от Георгия замелькали плохо различимые фигуры, всплеснулись огоньки. Исраелян услышал свист пуль. Он разрядил в ту сторону с полного роста полдиска – и фигурки исчезли. Бой разгорался молниеносно, но сапер видел и запоминал все: глубину и ширину траншей, толщину перекрытия блиндажей...
Впереди, по ходу, вдруг застрочил пулемет. Георгий пригнулся, спрятал голову за бруствер и, приглядевшись, увидел, что пулеметчик находится совсем рядом, метрах в двадцати, и строчит куда-то вдаль, пуская очередь над его головой. Георгий, прицелившись, нажал на спуск. Пулемет умолк. Сделав несколько прыжков, старший сержант оказался рядом с пулеметным гнездом. Он оттолкнул убитого, выдернул из его рук пулемет и передал Скороходову, а сам побежал по траншее.
Недалеко увидел брошенный врагом миномет. Строча из автомата, уперся в дверь блиндажа. Не раздумывая, рванул ее и бросил в блиндаж сначала одну, потом вторую гранату. Таща пулемет на себе, к Георгию подбежал Скороходов.
– Там, на берегу озера, еще одно пулеметное гнездо наши накрыли, а разведчики артбатарею обнаружили,– выпалил он.
Почти в одно мгновение с его сообщением из блиндажа, прошивая деревянную дверь, застрочил автомат. Семен Скороходов выхватил из-за пояса последнюю гранату... Потом он вытащил пулемет на верх блиндажа и начал стрелять вдоль берега озера – там скапливался враг.
В следующую минуту Исраелян увлек за собой Скороходова. В конце траншеи оказался еще один блиндаж. Гранаты кончились.
– А ну дай-ка пару раз, прямо в дверь! И – назад! Пора возвращаться,– скомандовал Георгий.– Давай две зеленые.
Скороходов разрядил ракетницу. Ее выстрел потонул в громе начавшейся канонады: строчили автоматы, пулеметы, ахали минометы, дважды ударила артиллерийская батарея, спрятанная за холмами у самого берега. Исраелян, Скороходов, а за ним остальные, кто добрался до последнего блиндажа, побежали назад, к месту своего прорыва. В небо взлетели еще две зеленые ракеты. Это был ответ Зубатова на сигнал саперов: «К отходу готовы». Собираясь покинуть вражеские позиции, автоматчики, саперы и разведчики обнаружили: троих нет. А неписаный закон у разведки таков: хоть мертвого, но верни своего товарища обратно, на свою сторону.
Двоих автоматчиков и сапера обнаружили недалеко от траншеи, они сдерживали напор со стороны правого фланга. Исраелян взял у Скороходова пулемет, велев принять раненого. Бойцы, подобрав трофеи и раненых, под свист пуль и разрывы снарядов уползли в сторону своей обороны. Оттуда уже летели один за другим снаряды. Артиллеристы полка по сигналу красной ракеты начали прикрывать уходящих разведчиков...
Наутро в полку подвели итоги. К двум разведанным раньше артиллерийским батареям прибавилась третья. Обнаружены были еще два пулеметных гнезда, дот и три минометных гнезда. Исраелян доложил об инженерных сооружениях врага. Командир полка объявил всем благодарность. Получив ценные сведения, полк готовился к наступлению.
Спустя десять дней, 17 ноября 1943 года, в полк поступил приказ командира 182-й стрелковой дивизии. Командир дивизии за смелые действия, оперативность и находчивость наградил командира отделения Исраеляна Георгия Аванесовича только что учрежденным орденом Славы III степени.
Многие участники того ночного рейда были отмечены боевыми наградами. Георгий стал первым награжденным орденом Славы не только в дивизии, но и во всей армии, в стране. Тогда же ему было присвоено очередное солдатское звание – старшина. Исраеляна повысили в должности. Он стал командиром саперного взвода.
Ордена Славы II степени Георгий Аванесович был удостоен в Прибалтике, а I – в Пруссии. К концу войны Исраелян стал полным кавалером ордена Славы.
Первыми полными кавалерами, а значит, и первыми награжденными орденом Славы I степени стали сапер ефрейтор Питенин М. Т. и разведчик старший сержант Шевченко К. К. Указ Президиума Верховного Совета СССР об этом награждении вышел 22 июля 1944 года.
За время Великой Отечественной войны полными кавалерами ордена Славы стали 2562 воина. Полный кавалер ордена Славы по своему положению и правам приравнен к Герою Советского Союза.
Григорий Резниченко
Белые олени на зеленом лугу

Может быть, не так часто, как хотелось бы, видимся мы со старыми друзьями. Но перед 9 Мая обязательно встречаемся на ленинградской квартире Савеловых за прочным столом, сработанным еще отцом Петра. На белой скатерти желтеют выцветшие фото. На одном – курносый мальчишка в пилотке с медалью на груди опирается на автомат. Это Петька Савелов, сын полка, разведчик, не раз бравший «языков», отлично владевший автоматом и так же отлично игравший на трубе в полковом оркестре.
Пять братьев Савеловых сражались с врагом на разных фронтах Отечественной – двое сложили головы, защищая родную землю, не вернулись домой. Нет за столом в канун 40-летия Победы и наших отцов – доконали их старые раны. Многих уже нет...
Внук Петра (давно уже Петра Павловича, главного инженера одного из предприятий Ленинграда, где начинал рабочим) сидит на коленях у Александра, брата Петра. Мальчик звенит наградами на груди Александра Павловича – ими как раз очень удобно поиграть, потому что Александр низко склонился над столом, рассматривая привезенные мной слайды и альбомы из Чехословакии. Задержался его взгляд на одном из тихих пейзажей Северной Чехии, где по долинке в кустах пробивалась неширокая река.

За такую же речку уцепились тогда гитлеровцы, окопались, не пропускали вперед наши танки, и сами стали огрызаться танковыми контратаками. Больше всего запомнился этот бой на чешской земле Александру, может быть, еще потому, что именно на долю его расчета выпала задача повернуть фашистские танки.
Как кадры хорошо запомнившегося фильма, видит он своих друзей-однополчан в болотной жиже, ободренными в кровь о металл руками. Проваливаясь в рытвины, мокрые, красные от натуги, протащили они на себе пушку через болото и установили ее за низкорослыми кустиками, чтобы ударить во фланг вражеским танкам.
До сих пор он слышит охрипший от холода и команд голос наводчика: «Хорошее место! Давайте устанавливать...» Слышит тяжелое дыхание бойцов, громкие шлепки тяжелых капель с мокрого орудийного щита, слышит – мороз по коже – лязганье гусениц танков.
До сих пор Александр помнит чей-то тонкий голос: «Надо залепить с первого раза...» Конечно, сразу надо попасть, иначе танк сомнет расчет. И Александр шагнул к пушке, когда увидел в просвет меж ветками, как, грузно покачиваясь, танк с крестом уверенно прет вперед... После первого же выстрела танк крутанулся на одной гусенице, перегородив дорогу остальным. Дальше уже было легче.
За этот бой Александр получил орден Славы третьей степени. Этой серебряной звездой и поигрывает внучок.
А мы с Петром Савеловым смотрим на снимок, где на постаменте стоит танк. Мы с Петром Павловичем вместе ездили в Чехословакию, и был еще в нашей группе ленинградский рабочий и поэт Володя Зубов. Помнится, когда у нас была встреча с чешскими рабочими, он прочитал им свои стихи:
Советский танк уральской стали,
Наверно, чем-то знаменит,
Коль на высоком пьедестале
На пражской площади стоит.
Володя замолк, и еще стояла тишина, мы даже подумали, что не все поняли, но тут поднялся старый рабочий Франтишек Рачек и сказал всего одну фразу: «Я воевал бок о бок с русскими – это очень храбрые солдаты и очень хорошие друзья».

Похожие слова я услышал совсем недавно у такого же танка на каменном пьедестале в городе Мост, в тех местах, где освобождал чешскую землю Александр Савелов. Только Станислав Штис, сказавший их, гораздо моложе Франтишека Рачека: в победном сорок пятом ему едва исполнилось пятнадцать лет.
Немцы попытались задержать наши войска у города Литвинова, защищая химический завод, где делали синтетическое жидкое топливо. Большинство немцев, оставив Литвинов, уходило через Мост. Отстреливались, стараясь побольше утащить награбленного добра. А самые фанатики-фашисты остались оборонять завод – у них была артиллерия, зенитная и противотанковая.
Станислав работал помощником столяра в мастерской, туда пригоняли работать советских военнопленных. Они не знали столярного ремесла, и чехи помогали им потихоньку от мастера-немца. Когда наступление советских войск от Берлина притормозилось у Литвинова, Станислав со своим другом Мирославом Моцем (сейчас он преподает в техникуме) по совету военнопленных составили карту перехода через Рудные – по-чешски Крушные – горы в обход немецкой обороны. Эту самодельную карту нужно было срочно передать нашим солдатам. И подростки пошли вроде бы по поручению мастера в деревню. Прятались по дороге в канавах и оврагах: любая случайная встреча с гитлеровцами могла закончится петлей, да и от обстрелов надо было беречься. Карту доставили. Наши части взяли Литвинов, и колонна танков с красными звездами на башнях вошла в город Мост. Станислав вышел на дорогу, когда против его дома остановился запыленный Т-34, на броне которого сидели усталые бойцы с автоматами. Из люка вылез чумазый солдат, спрыгнул на землю, сдвинул шлем на затылок и, улыбнувшись Станиславу, попросил напиться.
Этот экипаж остановился у них в доме; Станислав вечерами допоздна слушал рассказы бойцов, особенно того улыбчивого солдата. Он говорил с шутками-прибаутками, мог спеть и сплясать. Оказалось, солдат всю войну прошел на своем танке. Жаль, Станислав не запомнил, как их звали, кроме одного, постарше других – Ивана Михайловича Дудко, тот все хотел развеселить ребят, дарил им лакомства.
– Но под немцами мы разучились играть,– говорит Штис.– Мы были детьми войны...
Он еще раз оглядывает Т-34 на пьедестале, откинув назад волнистые с проседью волосы и хмуря темные брови.
– Да, мы не умели играть и громко смеяться,– повторяет он, качая головой.– Но мы понимали, кто спас нас от рабства и дал нам жизнь. Все, кто имеет сердце, помнят об этом на нашей земле...
Розы Крушных гор
Со склона холма, куда меня привез Станислав Штис, разворачивался до самого горизонта почти лунный пейзаж. Под ногами гигантской чашей врезается в землю карьер, по коричневым террасам которого с упрямой настойчивостью двигаются угольные комбайны, бульдозеры, грузовики.
Это сердце Северо-Чешского буро-угольного бассейна – главной топливной кладовой Чехословакии, а Станислав Штис руководит рекультивацией земель всего огромного района.

– Когда люди пришли на склоны Крушных гор, нашли и стали добывать серебро, они не знали, что ходят по «черному золоту»,– говорит Станислав.– Раньше горняки зарывались под землю, сейчас доживают свой век последние несколько шахт, а вся добыча угля ведется открытым способом. Но природа дорого расплачивается за это. Перед глазами бугрится в провалах обезображенная земля, с которой содрали ее зеленый покров. Подземные клады в десятки миллионов тонн угля оказались также под жильем человека, воздвигнутым ранее на этих несметных богатствах. Поэтому пришлось снести сорок деревень и один город... Старый Мост.
– Видите – бежит вода на окраине карьера. Это речка Билина, которая раньше протекала через город Мост. Ее русло отвели в сторону – теперь она течет по глинистым отвалам,– поясняет Станислав.– А на берегу речки сейчас стоит Деканский собор – уникальный памятник средневековья. Так вот, это архитектурное сооружение поздней готики преспокойно переехало из города Мост. На 841 метр. Двигалась громадина собора по рельсам в течение двух недель, а руководил ее перемещением – с точностью до одного миллиметра – компьютер. Такое точное «переселение» здания сделано впервые в мировой практике. Старинные фрески собора реставрируют, внутри оборудуют концертный зал, где на органе будут исполнять старинные музыкальные произведения.
Глаза Станислава блестят, они всегда блестят от удовольствия, когда он рисует картину восстановления жизни города и окружающей природы. Работы эти ведутся здесь без малого тридцать лет.
– Мы стараемся собрать весь плодородный слой почвы, увозим его на самосвалах, затем разравниваем отработанную землю в карьерах, закладываем дренажные трубы, отводим воду и вновь привозим спасенную почву, лесс и раскидываем по илу, добавляя удобрения, и потом уже засеваем травами. И земля оживает.
– Всех, на ком война оставила свой след,– Станислав на мгновение останавливается,– это поражает. Мы мирно работаем на земле, сеем клевер, высаживаем молодые яблоньки, а рядом... гремят бои, стреляют пушки, грохочут танки, бегут солдаты с винтовками. В оставленном старом Мосте и его окрестностях, откуда вывезено все старинное, художественно ценное, не раз снимали батальные сцены фильмов о прошедшей войне. Как символичны эти картины – разрушения, причиненные войной, бессмысленные и жестокие, и рядом – истинное торжество жизни. На голой, недавно бесплодной земле творится чудо – тянутся зеленые ростки...
Машина идет по асфальтированным дорогам вокруг нового Моста, и перед глазами разворачивается зеленая панорама. Да, на бывших отработанных землях, в карьерах вырастают прекрасные сорта ягод – от крыжовника до клубники. Здесь собирают высокие урожаи ячменя, яблок. По всей Чехии славится своей сахаристостью, вкусом виноград, который выращивают крестьяне в госхозе «Мост». А на опытных участках научно-исследовательского сельскохозяйственного института проходят испытания новые сорта – из них отбираются наиболее приспособленные к местным почвам, выносливые, урожайные.
Еще с утра Штис завез меня на окраину Моста, где в тридцати метрах от бывшего карьера в помпезном здании, похожем на старинный особняк, помещается учебный центр для молодых шахтеров. Здесь, листая толстенную, подаренную мне книгу о рекультивации земли – это первый опыт монографии на такую тему в мире,– я внимательно слушал одного из ее авторов, Станислава Штиса. Являясь членом Комиссии СЭВ по рекультивации ландшафтов, нарушенных в результате деятельности промышленных предприятий, Штис побывал недавно на симпозиуме в Румынии и рассказал о направлениях исследовательской работы по восстановлению плодородия почвы, сохранению ландшафта.
– Если мы раньше возвращали к жизни отдельные участки, то сейчас занимаемся комплексным восстановлением, реконструкцией всего нашего района,– с жаром пояснил Станислав.– Я обязательно все покажу...
Проехав по долине мимо автодрома, мы осматриваем строительство нового спортивного комплекса. На дне карьера будет искусственное озеро, террасы приспосабливают для трибун, а склоны укрепляют посевами лекарственных трав.
В этом деле у Станислава надежные помощники – молодежь.
В том, что все его планы претворяются в жизнь, сомнений нет. Я уже видел зоны отдыха вокруг нового Моста. На месте недавних карьеров в зеленой оправе молодых тополей, лип, дубов раскинулись озера и пруды, где можно видеть белых лебедей и выловить на удочку здоровенного карпа. Там же пляжи, детские городки, дачные участки...
Вот это все и называется сухим термином «комплексное восстановление района».
Станислав пошел проводить меня вместе со своей дочерью – школьницей. Бережно положив ей на плечо широкую ладонь, он упруго шагает по просторным улицам шахтерского города мимо старых особняков и многоэтажных домов-башен.
– Не все знают одну подробность нашей жизни: на каждого горожанина приходится по нескольку кустов роз,– смеется Станислав.– Передайте русским друзьям – мы их всегда встретим этими цветами.
Хвойные поля
Из Моста я отправился в Центральную Чехию, где в большом лесопитомнике недалеко от Праги выращивают, по словам Станислава Штиса, лучшие саженцы деревьев. В дирекции питомника было пусто. «Ничего удивительного – все на участках»,– снисходительно ответила девушка в брючках, неохотно оторвавшись от учебника по лесному делу. Студентка-практикантка из Брно скороговоркой пояснила: хозяйство лесопитомника большое, на тридцати четырех участках растет около восьмидесяти миллионов саженцев. Тут ее познания, вероятно, иссякли, и она посоветовала найти инспектора лесничества Фалтиса – «то энтузиаст своего дела».
Встретились мы со Зденеком Фалтисом на «Зеленой даче», одной из опытных станций питомника, и сразу пошли на участки.