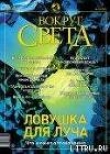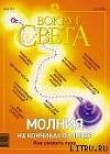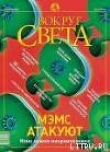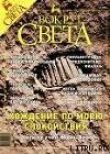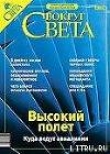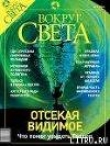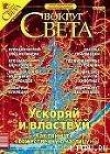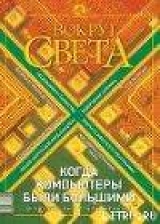
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №2 за 2003 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Сюда, где в доэлектрическую эпоху каждую зиму «играли» северные сияния, в эти места, относимые ботаниками к южной подзоне тайги, завозили тисовые деревья, липы, каштаны, даже виноград и хлопчатник. Конечно, многие растения погибали, но некоторые выжили. И теперь, 300 лет спустя, кажется, что царь действительно победил: липы и каштаны, персидская сирень и клены, согретые каменным теплом города, цветут и шелестят так беспечно, как будто росли здесь всегда… За Летним садом, за Фонтанкой, с колокольни видна Московская сторона. Здесь вырастали солдатские и ямские слободы. Выше по Неве раскинулось «царство Плутона» – Литейный двор, а еще дальше светился за лесом крест основанного в 1710 году Невского монастыря, который скоро станет Александро-Невским: сюда из Владимира в 1724-м привезут мощи Александра Невского, чтобы защитить город от нечистого, да заодно и утвердить славными историческими победами благоверного князя права государства Российского на эти земли.
Вид с колокольни на западную сторону был не менее великолепен – тут во всей свой красоте развернулась овальная зеленая громада Васильевского острова с Дворцом светлейшего, первыми застроенными линиями и длинными, пересекающимися просеками. С высоты просматривались площади, линии, каналы – совсем как на плане, с которого их, собственно, и перенесли на землю. Ближе к устью, на материковом берегу, виднелся среди лесов Екатерингоф – загородная усадьба царицы Екатерины, еще дальше угадывался любимый царем Петергоф с его чудесным парком и только что ударившими в небо фонтанами. И всюду, куда ни посмотри, на западе открывалось голубое море, плывущие от Кронштадта корабли под белыми парусами. Да – приморский, но русский город!
Пройдя мимо празднично украшенных военных кораблей, шлюп Меншикова причалил к Троицкой пристани. На ней, как и возле стоящей неподалеку Троицкой церкви, толпился народ – ждали государя. Люди шушукались, но при появлении светлейшего замолкали, улыбаясь и кланяясь. Он знал, о чем они судачат: «Государь царевича Алексея потребил своими руками, и не стыдно ему, праздник устроил» (это слова из допросов в Тайной канцелярии. – Прим. автора). Глупцы! Ведь сегодня праздник особый – юбилей Полтавской баталии 1709 года. Не будь сей виктории, не стоять бы вам здесь на солнышке, в новом граде…
На колокольне Троицкой церкви зазвонили колокола. Теперь-то мы знаем, какие дивные дела начнутся на этой колокольне через 4 года. В декабре 1722 года охрана и причт этой любимой царем церкви (в ней он всегда молился, крестил детей, здесь в 1721 году был провозглашен императором и «Отцом Отечества») несколько ночей подряд слышали, как кто-то дерзко шумит и бегает на колокольне. Утром наверху находили пакостный беспорядок… По общему мнению, там завелся черт! Для слухов о нечистом были основания – город строился на гнилом болоте, царя Петра многие считали Антихристом, часы Троицкой церкви привезли из Москвы с Сухаревой башни, где работал чернокнижник Яков Брюс. Да тут еще приходской поп Герасим Титов брякнул: «Черт возится там потому, что Санкт-Петербургу пусту быть!» На попа тотчас донесли, его арестовали, пытали и сослали на каторгу.
На колокольне все стихло, но пророчество часто вспоминалось в роковые дни петербургских наводнений, пожаров, революций, блокады. Оно прочно вошло в мрачный петербургский фольклор, в котором покойники пристают к прохожим с вопросами насчет шинели, скелет-извозчик возит пьяненького седока, усатый кот сватается к благопристойным барышням, а медный истукан срывается с пьедестала и скачет невесть куда. Троицкой церкви вообще не везло – не раз она перестраивалась, а потом ее снесли большевики.
Первогород
Городовая, Городская, ныне Петроградская сторона – старейшее место в Петербурге. Именно здесь, впервые вступив на землю будущей столицы, среди берез и сосен царь Петр испытал необыкновенный восторг, на него снизошла благодать. Царь тут же приказал валить деревья и строить себе дом. Как ни упрашивал Меншиков государя взять для стройки брус и бревна из Ниеншанца (сам-то он тотчас собрал из них двухэтажные хоромы), Петр стоял на своем. Чуткий к символике, он непременно хотел, чтобы его первый дом на этой, ставшей ему вдруг родной, земле был построен из деревьев, которые здесь и выросли. Он поступал, как Робинзон, – истинный герой века рационализма. Петр тоже не подчинился слепой судьбе, року, а силой своего ума, воли, знаний сумел изменить мир вокруг себя, создать сначала дом, а там – столицу, флот, государство, империю, доказав правоту другого кумира тех времен, философа Гоббса, писавшего, что «государство строят, как дом».
Солдаты быстро, за 3 дня (24—26 мая 1703 года), срубили по плану царя знаменитый «Домик Петра». Получилась не русская изба, а голландский дом с непривычно большими окнами в мелкую клеточку, со стенами, выкрашенными «под кирпич». И стало ясно, каким будет новый город, куда устремлены мысль и мечта царя. Городовая сторона застраивалась стремительно, на месте полковых лагерей и поселков первых строителей вырастали улицы, переулки, зашумел базар с выразительным названием «Обжорка», пленные шведы возводили Гостиный двор, первый мост связал Городовую сторону с Петропавловской крепостью. На Троицкой площади обосновалась и власть – начали строить мазанковые канцелярии. Тут же возник знаменитый кабак «Четыре фрегата», куда любил после «гулянья по работам» зайти государь, чтобы пропустить рюмку-другую анисовой водки. Из окна кабака виднелась виселица – где пьют, торгуют и воруют, там и казнят! Уже осенью 1703 года на Городовой стороне возник порт. Капитана первого случайно зашедшего сюда голландского судна шумно «трактовали» как первооткрывателя Колумба. А уж в 1718 году у причалов было тесно от купеческих кораблей. Так внезапно, за несколько лет, здесь, на краю русского света, закипела, забурлила жизнь, началась новая история России…
Прокричали, что государева верейка – легкая лодочка царя Петра – уже вышла из гаванца Летнего сада. Меншиков вернулся на пристань. Он ждал царя… Скоро начнется литургия, царь будет, как всегда, петь в хоре, потом займет свое место командира Преображенского полка, уже построившегося позади церкви. После церковной службы ожидаются парад войск, музыка, салют. Вечером избранные гости переправятся на Адмиралтейскую сторону, в Почтовый двор, чтобы с кубком в руке отметить великий праздник победы. За каждым тостом – орудийный залп с кораблей, словом,
Отчего пальба и крики
И эскадра на реке?
Особенно были красивы в потемневшем небе над Невой праздничная иллюминация и фейерверк. Петр и его современники были большими любителями «огненной потехи». Их устраивали часто, порой не зная меры: сохранились заявки государственных учреждений на сотни новых стекол, вместо выбитых «от викторий», то есть от салютов по поводу побед русского оружия. Частные домовладельцы стеклили окна за свой счет. Да разве это важно! В жизни людей тех времен было так мало развлечений, так скучны были зимние дни, однообразны летние вечера, а поэтому, когда власть устраивала иллюминацию и фейерверк, счастью толпы не было предела. В эти минуты забывались тяготы жизни на северной стройке, не так даже донимали мошки и комары. Какая же красота была вокруг! Петропавловская и Адмиралтейская крепости, близлежащие к Неве дома и стоявшие на рейде корабли были украшены тысячами фонариков и зажженных сальных плошек, которые бесчисленными огненными пунктирами выделяли контуры бастионов, дворцов, шпили церквей, мачты и реи кораблей. Петербуржцы толпились по берегам Невы и глазели на иллюминацию, вспышки зажженных фигур «фейерверка» и взлетающие в небо ракеты.
Наверное, в эти мгновения праздника и Меншикову, и самому Петру, и другим, кто в 1703 году впервые увидел невские пустынные берега, заросший кустами Заячий остров, казалось, что им снится некий дивный, волшебный сон: большой город, могучий флот, заполненный иностранными кораблями порт, оживленные улицы, деревянные набережные с толпами народа. А ведь прошло-то всего 15 лет! Откуда же все это возникло и не исчезнет ли все разом? Многие предсказывали конец этому «капризу» царя – «Петербургу пусту быть!» Но нет! Необыкновенная энергия, воля и целеустремленность, а главное – безмерная любовь Петра к этому месту, где он нашел свой дом, свою судьбу, как и привычка сотен тысяч «государевых рабов» безропотно повиноваться его воле, делали свое дело.
Город вопреки природе, климату, вопреки желаниям насильно согнанных сюда людей быстро рос и хорошел. Уже угадывалось его необычайное для России западное лицо – в планировке, архитектуре, образе жизни.
Словом, призванный к жизни волею Петра Петербург жил и развивался. Как хилый сажанец, согретый любовью и заботливым уходом великого Садовника, поднимался он на плоской лесистой и болотистой равнине. И когда весной 1725 года Садовник не пришел к своему питомцу, выяснилось, что тот уже живет самостоятельно, прочно вцепившись корнями в эту скудную почву.
Оказалось, что за эти неполные четверть века произошли необратимые изменения – здесь, в городе, поначалу состоявшем из солдат, работных людей, каторжников и пригнанных из России крестьян и посадских, уже родились и выросли дети, впервые увидевшие свет под этими бледными небесами. Они родились петербуржцами, и это решало все! В этом был залог его вечной жизни и исполнение великой мечты Петра.
…А той белой ночью после празднования Дня Полтавской виктории, после фейерверка и салюта к пристани Меншиковского дворца тихо причалил золоченый шлюп и выбежавшие из дворца слуги бережно вынули из него почти бездыханное тело светлейшего и понесли его в спальню. Еще один день генерал-губернатора закончился…
Евгений Анисимов, доктор исторических наук, профессор
Арсенал: Начало конца

60-летию победы в Сталинградской битве посвящается
«Боже, почему ты покинул нас? Мы сражались 15 дней за один дом, используя минометы, гранаты, пулеметы и штыки. Уже на третий день в подвалах, на лестничных клетках и лестницах валялись трупы 54 моих убитых товарищей. „Линия фронта“ проходит по коридору, разделяющему сгоревшие комнаты, по потолку между двумя этажами. Подкрепления подтягиваются из соседних домов по пожарным лестницам и дымоходам. С утра до ночи идет непрерывная борьба. С этажа на этаж с почерневшими от копоти лицами мы забрасываем друг друга гранатами в грохоте взрывов, клубах пыли и дыма, среди куч цемента, луж крови, обломков мебели и частей человеческих тел. Спросите любого солдата, что означает полчаса рукопашной схватки в таком бою. И представьте себе Сталинград. 80 дней и 80 ночей рукопашных боев. Длина улицы измеряется теперь не метрами, а трупами…»
Из письма немецкого лейтенанта 24-й танковой дивизии
В конце 1941 года советской армии в результате успешных контрнаступлений под Москвой, Ростовом и Тихвином удалось отбросить вермахт на 150—300 км на запад. Эти успехи настроили Верховного Главнокомандующего Сталина на такой оптимистический лад, что 10 января 1942 года он в своей директиве указывал: «…Наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам этой передышки, гнать их на запад без остановки, заставить израсходовать свои резервы еще до весны, когда у нас будут новые большие резервы, а у немцев не будет больше резервов, и обеспечить таким образом полный разгром гитлеровских войск в 1942 году».
В таком же отрыве от реальной действительности находились и подчиненные Верховного – не сомневаясь почему-то в скорой окончательной победе, высший генералитет спорил только о том, в каком месте нанести решительный удар по врагу. Генерал Жуков хотел разгромить на Ржево-Вяземском плацдарме группу армий «Центр», маршал Тимошенко предлагал наступать на Харьков, а генерал Мерецков собирался разбить 18-ю немецкую армию и снять блокаду с Ленинграда. Сталин все эти споры прекратил, удовлетворив практически всех: в середине января все 9 фронтов Красной Армии перешли в наступление на пространстве от Балтийского до Черного морей. Они должны были, разгромив немецкие группы армий «Север», «Центр» и «Юг», деблокировать Ленинград, освободить Донбасс и Крым, а также создать предпосылки для скорейшего освобождения Украины, Белоруссии и Прибалтики.
К концу февраля наступление закончилось – Красной Армии не удалось достичь ни одной из поставленных целей, к тому же началась весенняя распутица. К концу марта, когда линия фронта стабилизировалась, потери в ходе зимнего наступления составили около 1 млн. 800 тыс. человек. Но уже в апреле численность войск была восстановлена, а к маю, получив еще 1,5 млн. человек, армия насчитывала 5 млн. 600 тыс. бойцов и командиров. К этому времени удалось в целом перевести промышленность на военные рельсы и наладить бесперебойные и все возрастающие поставки военной техники и снаряжения на фронт. За первое полугодие 1942-го только танков было выпущено 11 178 штук, из них – более 6 000 средних (Т-34) и тяжелых (КВ-1). Рос выпуск автоматического оружия, артиллерийских орудий и минометов. Управление войсками также реорганизовывалось – в армии появились стрелковые и танковые корпуса. Стрелковые дивизии насыщались большим количеством огневых средств, в первую очередь противотанковых. В мае усилия промышленности дали возможность приступить к созданию целых танковых армий смешанного типа в составе: 3 танковых корпуса (по 168 машин), резервная танковая бригада (53 машины), 2 стрелковые дивизии и артчасти.
Все это крайне внушительно выглядело на бумаге, в действительности же войска были практически не обучены, взаимодействие пехоты, артиллерии, танков и авиации – почти не отработано. Времени на решение этих проблем не выделялось – войну надо было закончить в 1942 году. Впрочем, огромные потери, понесенные армией в ходе зимнего наступления, заставили задуматься даже Ставку Верховного Главнокомандования (ВГК). Стало ясно, что наступать везде не получается и для главного удара нужно выбрать одно направление.
Попытка наступления
В марте—апреле за этот выбор Ставки боролись: генерал армии Жуков, планировавший разгромить немецкую группу армий «Центр», и маршал Тимошенко вместе с Хрущевым, предлагавшие освободить всю Украину. Сталин остановился на втором предложении. Согласно плану наступления войска Крымского фронта должны были разгромить 11-ю немецкую армию, освободить весь Крым и наступать навстречу войскам Тимошенко, действующим в районе среднего Днепра, с целью окружения и ликвидации всей немецкой группы армий «Юг».
Впрочем, Гитлер также решил победоносно завершить войну на Восточном фронте в том же 1942 году. Генерал Г. Блюментрит, заместитель начальника генштаба Верховного командования вооруженных сил Германии, вспоминал: «Промышленно-экономические круги в Германии оказывали сильное давление на военных, доказывая важность продолжения наступательных операций. Они говорили Гитлеру, что не смогут продолжать войну без кавказской нефти и украинской пшеницы». Фюрер вполне разделял точку зрения своих экономистов, и весной 1942 года генштаб разработал план летнего наступления, основной целью которого было овладение северокавказскими нефтяными месторождениями Майкопа и Грозного и взятие Баку. Предполагалось также захватить все Черноморское побережье Кавказа и принудить Турцию к вступлению в войну на стороне Германии. Германская промышленность напрягала все силы, чтобы насытить вермахт новейшими видами боевой техники и снаряжения, в первую очередь последними модификациями танков Pz. III и Pz. IV с длинноствольными пушками. К началу лета боеспособность немецких танковых и моторизованных дивизий на юге была доведена до максимума. С пехотой дела обстояли хуже – необученного пополнения (около 1 млн. человек), полученного весной 1942-го, хоть и хватило для необходимой штатной численности почти всех пехотных дивизий группы армий «Юг» и некоторых – групп армий «Центр» и «Север», о качественном усилении говорить не приходилось. Генерал Мюллер-Гиллебранд писал по этому поводу: «Потери в личном составе оставались столь высокими, что они уже не могли более восполняться. Недостаток бойцов стал тяжелейшей организационной проблемой, которая так и не была решена до конца войны».
И все же весной 1942 года в вермахте оставалось достаточно много опытных унтер-офицеров-ветеранов, которые «натаскивали» новобранцев с утра и до вечера, готовя их к «последнему решительному наступлению» на Восточном фронте. Его план, утвержденный фюрером 5 апреля 1942-го, предусматривал наступление на Воронеж, откуда танковые и моторизованные дивизии поворачивали на юг и вместе с войсками, наступавшими от Харькова, уничтожали силы противника в междуречье Дона и Донца. Затем, после взятия Сталинграда, группа армий «Юг» поворачивала на Кавказ, после быстрого захвата которого, по мысли немецких стратегов, СССР должен был быстро капитулировать, лишенный топлива.
Наступление планировалось начать в первых числах июня, но все карты немцам спутало мощное наступление Красной Армии, начатое 12 мая в направлении на Харьков.
Ударные группировки Юго-Западного фронта маршала Тимошенко нанесли удар по городу одновременно с двух направлений – с севера и с юга. В наступлении приняли участие 23 стрелковые, 6 кавалерийских дивизий, 4 мотострелковые и 19 танковых бригад (925 танков). Советским войскам противостояла 6-я немецкая армия генерала Паулюса, имевшая в своем составе 13 дивизий, из которых одна была танковая (200 машин).
Уже к исходу 13 мая советское наступление достигло значительных успехов, прорвав немецкий фронт на глубину до 50 км и выйдя с севера на самые подступы к Харькову. Но уже 14 мая обстановка изменилась – над полем боя появилась JG-3 (3-я истребительная эскадра люфтваффе), захватившая превосходство в воздухе. Чуть позже немцы перебросили под Харьков из Крыма еще 2 бомбардировочные эскадры, которые сразу же стали наносить мощные бомбоштурмовые удары по теперь уже отступающим советским войскам.
Ответ вермахта
17 мая группа генерал-полковника Эвальда фон Клейста, имевшая более 450 танков, начала наступление на юге барвенковского выступа во фланг и тыл войскам Юго-Западного и Южного фронтов. Советское командование в своих планах совершенно не учитывало возможности такого немецкого контрудара, что вскоре обошлось очень дорого. К концу мая войска Юго-Западного и Южного фронтов почти потеряли боеспособность, лишившись 280 тыс. человек и более 600 танков. В плен попали 240 тыс. человек. Остатки советских войск отступали, а точнее говоря, бежали на восток. Неудачная Харьковская операция создала все предпосылки для успеха запланированного на лето немецкого наступления на юге.
Немецкая группа армий «Юг» имела в своем составе 900 000 человек, 1 260 танков и штурмовых орудий, более 17 000 орудий и минометов. Наземные войска прикрывали 1 200 самолетов 4-го воздушного флота. Немцам противостояли войска Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов (более 1 500 000 человек, 2 300 танков, 16 500 орудий и минометов и 800 самолетов). С самого начала немцам сопутствовал успех. К середине июля советский Юго-Западный фронт был разбит, а войска Южного – отброшены за Дон. Тем не менее нашим войскам удалось избежать большого окружения, так что пленных немцы захватили неожиданно мало, что крайне не понравилось Гитлеру, который приказал не допустить отхода советских войск за Дон и окружить их севернее Ростова. Обе немецкие танковые армии были вынуждены повернуть на юг к устью реки Северский Донец и дальше на запад вдоль Дона. Командующий группой армий «Б» (группа армий «Юг» была разделена для удобства управления на две группы армий – «А» и «Б») генерал-фельдмаршал фон Бок резко возражал против такого решения, потому что путь на Сталинград был уже открыт и город можно было взять с ходу. Фюрер критики не потерпел и снял фон Бока с должности. Через неделю выяснилось, что окружать севернее Ростова некого, так как советские войска уже успели отступить. 23 июля немцы практически без боя взяли Ростов, а днем раньше – Новочеркасск.
28 июля советское командование расформировало Южный фронт, так как стратегическая оборона на юге была прорвана немцами на 150—400 км. Теперь они могли быстро наступать в большой излучине Дона на Сталинград. За месяц оборонительных боев Красная Армия потеряла более 500 000 солдат и офицеров, 2 400 танков, более 13 000 орудий и минометов. Потери вермахта составили 90 000 человек. Положение для всей советской обороны на юге страны стало критическим.
Ни шагу назад!
Оставление без приказа Ростова крайне разозлило Сталина. Он вынужден был мириться с невысоким профессиональным уровнем многих своих генералов, но терпеть падение воинской дисциплины, дезертирство и «факты паникерства» он не собирался. 28 июля 1942 года был издан знаменитый приказ наркома обороны № 227, известный впоследствии как приказ «Ни шагу назад!» В первый раз за войну советские солдаты, офицеры и генералы, находившиеся в тяжелом состоянии духа под влиянием успехов вермахта, услышали правду о текущем положении дел. Отбросив обычные методы лживой, трескучей пропаганды, Сталин сумел найти простые точные слова, действительно дошедшие до сознания и сердца каждого.
«…Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много населения, и что хлеба у нас всегда будет в избытке …Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши средства не безграничны. Территория Советского государства – не пустыня, а люди – рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети …После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. У нас уже нет преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше – значит загубить себя и вместе с тем загубить нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону…
Из этого следует, что пора кончить отступление. Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв».
Эти слова, по воспоминаниям многих ветеранов, сработали как избавление от неуверенности, укрепили боевой дух всей армии. Помимо правдивых слов Сталин предложил еще «кое-что»: сформировать в каждой армии заградительные отряды, которые «в случае беспорядочного отхода должны расстреливать на месте паникеров и трусов», создать штрафные роты для рядовых красноармейцев и младших командиров, а также штрафные батальоны для командиров и политработников среднего и старшего звена. «Провинившиеся… в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости должны кровью искупить свои преступления перед Родиной отважной борьбой с врагом на более трудном участке боевых действий». Все «штрафники» были лишены наград на время «взыскания» и разжалованы в рядовые. Командиры таких подразделений имели право расстреливать на месте любого «штрафника» за малейшее неповиновение. Срок наказания был не более трех месяцев или до «первого ранения», после чего «штрафник» реабилитировался полностью, получая назад прежние звание и награды. До этого счастливого момента доживали очень и очень немногие, что неудивительно – в отсутствие саперов, например, на минные поля посылали «штрафников», которые разминировали их своими телами. Практиковалась также «разведка боем», придуманная в советской армии. Когда нужно было составить хотя бы приблизительное представление о состоянии немецкой обороны, «штрафники» бежали в самоубийственную атаку без какой-либо поддержки с одной целью – вызвать на себя огонь возможно большего количества немецких огневых точек, с тем, чтобы офицеры смогли нанести их расположения на свои карты. Не менее 90% «штрафников» из таких «разведок» не возвращались. Сталин не забыл и о генералах: командующие дивизиями, корпусами и армиями снимались с постов и отдавались под трибунал за самовольный отход войск без приказа командования фронтом. Генералам оказывалась «честь» – их просто расстреливали, не заставляя валяться на минном поле с оторванными ногами. Все эти дисциплинарные меры были восприняты в войсках не менее серьезно, чем доходчивые слова Верховного.
С августа 1942-го дезертиров и «паникеров» сильно поубавилось, а советская армия стала сражаться лучше и злее, что отмечали сами немцы.
29.12.42. «Тут в Сталинграде я зарезал трех собак. Можете думать, что хотите, главное то, что мясо вкусное. Я сварил себе сороку. Могу Вам сказать, что она имеет вкус курицы – суп был такой желтый».
Из письма солдата Отто Зехтига
Головокружение от успехов
Гитлер уже 9 июля счел победу вермахта на юге делом решенным и, не дожидаясь взятия Сталинграда и поворота на Кавказ, приказал перевести ряд танковых и моторизованных дивизий с южного направления на Западный фронт и в Грецию, где ему померещилась скорая высадка англичан. В середине июля фюрер снял из наступающих войск 11 дивизий; пять полевых и некоторые части резерва были отосланы в группу армий «Север» с приказом взять Ленинград. Туда же переправлялась из Крыма 11-я армия Манштейна.
23 июля 1942 года Гитлер подписал роковую для немецкой армии директиву № 45. Она предписывала группам армий «А» и «Б» разделиться – первая должна была наступать через Черноморское побережье Кавказа и через Кавказ на Грозный и Баку, а вторая – захватить Сталинград, а затем Астрахань. Почти все танковые и моторизованные части придавались группе армий «А». Сталинград должна была взять 6-я полевая армия генерала Паулюса.
Начальник Генштаба генерал-полковник Франц Гальдер резко возражал против такого изменения первоначального плана действий, говоря о том, что противник отнюдь не уничтожен, а немецкие группировки, разойдясь друг от друга на 600 км, подвергают себя смертельному риску. У немецкой армии не хватало наличных сил, чтобы захватить два столь отдаленных от линии фронта и друг от друга района. Мнение Гальдера разделяли почти все высшие генералы, за исключением фельдмаршала Кейтеля и генерала Йодля, всегда и во всем поддерживавших фюрера. Они были его любимыми военными советниками. Именно Йодль придумал, чтобы фронт между расходящимися немецкими армиями и группой армий «Центр» удерживали румынские, итальянские и венгерские корпуса и армии. Их реальная боеспособность была невелика, но на штабных картах количество дивизий увеличилось, и Гитлеру это нравилось. Он всегда любил цифры.
В этот день, 23 июля, Гальдер записал в своем дневнике: «Всегда наблюдавшаяся недооценка возможностей противника принимает постепенно гротескные формы и становится опасной. Болезненная реакция на различные случайные впечатления и полное нежелание правильно оценить работу руководящего аппарата – вот что характерно для теперешнего так называемого руководства».
Генерал Типпельскирх так оценивал изменения в стиле работы своего главнокомандующего: «Гитлер с 1933 года не знал неудач. Мысль о том, что такое положение может когда-нибудь кончиться, что чужая воля окажется сильнее, чем его, была непостижимой и невыносимой для этого человека, который постепенно сжился с мифом о своей непогрешимости, „сомнамбулически“ следовал своей интуиции и которого льстивая пропаганда подняла до „величайшего полководца всех времен“… Неизбежным следствием подобного ведения войны было такое использование живой силы и техники, которое намного превышало их возможности…»
Генерал Ханс Дерр указывал, что «одних лишь перебоев с подвозом горючего было бы достаточно для срыва планов главного командования». С выходом к Дону германские коммуникации стали недопустимо растянутыми – их протяженность достигла 2 500 км.
Возражения генералов не смущали фюрера – он советовал всем «иметь побольше оптимизма». Основания для него были только в самом начале наступления двух групп армий – 9 августа пал Краснодар, 10-го Майкоп – тогда Гитлер получил первую кавказскую нефть, еще не зная, что она же будет и последней – вскоре группа армий «А» застрянет посередине Кавказа.
Волжский рубеж
17 июля передовые части 6-й немецкой армии нанесли удар по 62-й армии генерал-майора В.Я. Колпакчи на рубеже реки Чир. Так началась Сталинградская битва. Поскольку Южный и Юго-Западный фронты к тому времени были совершенно разгромлены, ставка ВГК еще 12 июля создала Сталинградский фронт во главе с маршалом Тимошенко. Он уже доказал ранее свою несостоятельность, но Сталин ему, по-видимому, все еще доверял. Численность войск фронта достигала 540 000 человек, танков было свыше 1 000, а самолетов более 700. В резерв были переброшены 8 стрелковых дивизий с Дальнего Востока и вновь сформированная 57-я армия. В Ставке были уверены, что этих сил должно хватить для обороны подступов к Сталинграду. К тому времени более 200 тысяч жителей вокруг города были мобилизованы на строительство 4 оборонительных обводов.
19 июля 3 немецкие пехотные дивизии смяли передовую линию советской обороны и вступили в большую излучину Дона. В тот день на вопрос фюрера, когда будет взят Сталинград, генерал Паулюс ответил, что рассчитывает управиться к 25 июля.
Штаб фронта никаких достоверных сведений о намерениях противника не имел. Так, узнав о том, что какая-то «группа немецких войск» переправляется через Дон у станицы Цимлянской, Тимошенко приказал командующему 64-й армией генералу Гордову силами 66-й морской и 137-й танковой бригад нанести по ней удар. Соответствующий приказ был отдан, но когда танковая бригада стала переходить через мост у станицы Нижнечирской, выяснилось, что он не выдерживает веса средних и тяжелых танков. На поддержку атаки морских пехотинцев отправились 15 легких танков Т-60, именуемых в войсках «трактором с пушкой». Они шли всю ночь, а на рассвете увидели у Цимлянской «группу немецких войск». Это была 4-я танковая армия генерал-полковника Гота. Через полчаса для советских моряков и танкистов все было кончено.
23 июля терпение Сталина лопнуло, и он снял маршала Тимошенко с должности, назначив на его место командующего фронтом генерал-лейтенанта Гордова, по сути, заменив «шило на мыло». Излюбленным методом ведения войны у генерала Гордова были лобовые атаки и неподготовленные контрудары. Впрочем, то же самое можно сказать почти о всех советских военачальниках того времени. По этому поводу Сталин как-то высказался: «Гинденбургов у меня нет».
Н.С. Хрущев так вспоминал Гордова: «… недостаток его заключался в грубости. Он дрался с людьми. Сам очень щупленький человечек, но бьет своих офицеров». Вот такой «полководец» должен был отстоять Сталинград.