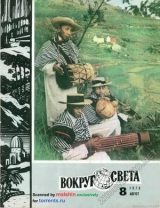
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №08 за 1979 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
– Ай, молодцы! – всплеснул руками Кекутия.
– Сколько тебе лет, восемьдесят четыре? Ты юноша... Моему младшему брату Туту – сто девяносто шесть...
– Вайме, загибаешь, парень, – улыбался Эквтиме.
– Мы не знаем, что такое твой ревматизм, но мы его в два счета вылечим.
– Вылечи, дорогой, мы в долгу не останемся...
– У нас есть все, понимаешь, все, но у нас нет ничего... Мы нищие...
Эквтиме молча налил в стаканы. Еще через некоторое время Тот, повиснув на плече хозяина, бормотал:
– Мы, конечно, можем преодолевать большие расстояния, читать чужие мысли, но у нас давным-давно нет того, чем вы владеете с избытком. Вы не разучились радоваться общению, ценить дружбу и проявлять гостеприимство. У нас все это называется атавизмом... Вам светят звезды, а не научные объекты, вы дышите ветром, пашете землю и вдыхаете ее запах. Не утрачивайте всего этого, – вдруг всхлипнул Тот. – Поверьте, цивилизация таит в себе большие, непредвиденные опасности. С ней нужно быть очень осторожным...
– Понимаете, – перебил старшего брата Тут, – это... Впрочем, в вашем языке такого понятия нет. Мы с братьями разочаровались. У нас все предопределено, и брак тоже, И когда возлюбленную Тета отдавали Тоту, мою возлюбленную – Тету, а мне вообще рекомендовали подождать, мы взбунтовались. Плюнули на все и – фьюить...
Сказав это, Тут прочертил в воздухе замысловатую, зигзагообразную линию.
– Дай бог вам счастья! – снова налил в стаканы Эквтиме.
Выпили молча. Неожиданно поднялся участковый. Китель на нем расстегнулся, из-под него показалась бело-голубая майка с крупной надписью: «Динамо» – Тбилиси».
– Дорогие друзья, – вкрадчиво сказал Шалибашвили. – Если я правильно понял, на своей планете вы встретили серьезные препятствия, помешавшие вступить в счастливый брак. Уверяю, – воодушевился он, – у нас таких препятствий вы не встретите. Девушки здесь ничуть не хуже, чем в любом другом месте...
Старики неодобрительно закачали головами, однако пришельцы как будто заинтересовались.
– Давайте ваших девушек, – протелепатировал Тот, и братья согласно кивнули.
Участковый побежал за дочерьми. Они вошли через некоторое время, застенчиво улыбаясь, встали в дверях.
– Вот мои девочки, – взволнованно закричал Шалибашвили, вытирая пестрым платком разгоряченное лицо. – Старшую зовут Этери, среднюю Натела, младшую Марина.
Девушки были хороши. У них были красивые лица, гладкие черные волосы и сильные руки, привычные к тяжелой крестьянской работе.
– С-согласны, – опустили головы Тот и Тет.
– Вах, конечно, согласны! – протелепатировал Тут.
– Сейчас и организуем помолвку, – засуетился счастливый милиционер. – А вы, дочки, идите. Здесь вам пока делать нечего.
– Джото, – обратился старый Галактион к мальчику. – А ну сбегай ко мне домой, сними со стены три серебряных кинжала и принеси сюда, И прихвати кувшин моего вина, пусть гости и его попробуют.
– Подождите, – остановил мальчика Тут. Сосредоточившись, он тронул какую-то кнопку на своем костюме, и на столе перед Галактионом, разбив стакан, появились и кувшин с вином, и три богато украшенных кинжала. Ничему не удивившийся старик собственноручно повязал инопланетянам древнее оружие.
– Это мой подарок женихам, – сказал он.
– Простите за шутку, – протелепатировал улыбающийся Тут. – Но это не ваше вино и не ваши кинжалы. Мы создали их сами, воплотили в материю ваши мысли.
– Это плохо, – сказал Галактион после некоторого раздумья.– Если вы можете из ничего делать вино, которое достается нам с великим трудом, значит, вам не придет в голову выращивать виноград, ухаживать за ним, вкладывать в него труд и тепло своего сердца. Нам это не подходит. Джото, принеси все же моего вина и мои кинжалы, – вздохнул Галактион.
...Помолвка придала пиршеству новые силы. Затянули свадебные песни, и громче всех подтягивал участковый. Эквтиме вторил ему дребезжащим тенорком, потом вдруг вскочил и бросился посреди комнаты выделывать отчаянные коленца зажигательного «лекури».
Джото снял со стены барабан и застучал по нему, убыстряя и без того сумасшедший ритм танца.
– Асса! – выкрикивал Эквтиме, и ему казалось, что в его дом вернулась молодость.
– Асса, – выкрикивал Галактион.
– Асса! – телепатировали Тот, Тет и Тут и, подчинись им ноги, сами бы пустились в дикий, безудержный пляс.
...Но всему приходит конец. Гостям из космоса пора было и отдохнуть. Эквтиме Кекутия деликатно выпроводил односельчан из своего дома. Те вышли во двор и, воодушевленные ночной прохладой, прекрасной погодой и выпитым вином, долго еще пели протяжные грузинские песни, которые уносились в темноту и, казалось, долетали до самых звезд. Звезды были близкими, крупными, мерцающими...
Пришельцам постелили в лучших комнатах, на лучших постелях. Сам же хозяин улегся во дворе под чинарой, укрывшись старой, но теплой буркой.
...Утром Эквтиме проснулся с радостным чувством. Еще бы! Именно в его доме остановились такие почетные гости. Довольный, он обошел двор, проверил скотину, посадил на цепь прибежавшую собаку. Увидев идущего по делам Галактиона, Кекутия окликнул его.
Галактион остановился, опершись на длинную суковатую палку, поздоровался.
– Хорошая погода, – сказал Эквтиме, стараясь скрыть гордость, – не огорчит моих гостей.
– Каких гостей? – удивился Галактион.
– Как каких? – вскинул брови Кекутия. – Из космоса...
Галактион недоверчиво покосился на приятеля, но ничего не сказал.
– По-моему, сосед, вчерашнее вино отбило у тебя память, – ехидно проговорил Эквтиме. – Вах, вах, а такие хорошие тосты произносил.
– Ни вчера, ни позавчера я не пил и тостов никаких не произносил, – невозмутимо ответил Галактион. – Ты что-то путаешь...
– Кто путает, я путаю? – не на шутку рассердился Кекутия. – Вчера за рекой приземлился космический корабль, но ты не видел его. ты чинил внуку ботинки. Потом, когда гости пришли ко мне, ты появился и принял участие в торжестве. У меня почти вся деревня собралась, и все знают, что именно в моем доме остановились инопланетяне. А ты не знаешь? Вайме, Галактион, что с тобой?
– Дай бог, чтобы они у тебя остановились, но я ничего не знаю.
– Вах!..
В этот момент Эквтиме увидел заспанного Джото, собравшегося спозаранку на рыбалку.
– Джото, – закричал старик, – подожди, внучек, скажи уважаемому Галактиону, кто ночует в нашем доме?
– В нашем доме? – зевнул Джото. – В нашем доме никто не ночует...
– Как не ночует, а инопланетяне?.. – взорвался старый Кекутия.
– Вайме, дедушка! – испуганно попятился Джото. – Мама сколько раз тебе говорила: не ходи к Шалибашвили телевизор смотреть, это вредно в твоем возрасте.
– Ух, я тебе...
И, уже не слушая никого, Эквтиме спешил через две ступеньки в комнаты, где, он это прекрасно помнил, вчера уложили спать Тота, Тета и Тута. Но в доме было пусто, лишь слабый ветер лениво раскачивал на окнах легкие, прозрачные занавески.
Затем Кекутия побежал к реке, но на том месте, где под блестящим корпусом космического корабля была ровным кругом выжжена земля, колыхалась жесткая осенняя трава. На шаги старика оглянулась коза с отвисшим выменем, посмотрела на него равнодушно и принялась вновь щипать скудную растительность.
Расстроенный, ничего не понимающий Эквтиме побежал в деревню. Сердце его сильно забилось, когда он увидел идущего навстречу Шалибашвили.

– Почему вчера не приходил телевизор смотреть? – закричал участковый, размахивая пухлыми руками. – «Динамо» с «Араратом» играли. Какая была игра, вах, какая была игра...
Об инопланетянах милиционер не сказал ни слова...
...– И это все? – спросил я старика, допивая четвертую или пятую кружку пива.
– А разве этого мало? – печально ответил он.
– А как же ревматизм?
Старик лихо наклонился и коснулся рукой затоптанного пола хинкальяой.
– Не болит! – сказал он потерянным голосом.
Мы поднялись по крутой лестнице. Я поблагодарил женщину, взял сумку.
– Бери петрушку, – протянул мне несколько пучков старик. – Вот какие дела...
Глядя в его погрустневшие глаза, я пожал ему руку. Она была твердой, такие руки бывают у крестьян, работающих мотыгой...
...Жена давно успела убрать квартиру, сидела на диване, вязала и одновременно читала какую-то статью о неопознанных летающих объектах. Чтобы не будоражить ее, я не стал передавать ей рассказ старика. Но на следующий день я еще раз решил зайти на базар. Эквтиме Кекутия среди зеленщиков не было. Заметив женщину, которая сторожила мою сумку, я приблизился к ней.
– А где старик, который торговал здесь вчера?
Женщина была явно не в духе.
– О каком старике спрашивает этот человек, я никого здесь не знаю...
– Ну как же, – удивился я, – мы с ним уходили, а вы присматривали за моей сумкой.
– Какой сумкой, кто присматривал? – проворчала женщина недовольно. – Послушайте, а вы случайно не пьяны?..
Всю дорогу домой меня мучило странное предчувствие. Едва войдя в комнату, я тут же спросил жену:
– А где зелень, которую я купил вчера?
Удивленная моим взволнованным видом, она молча указала на холодильник.
Я распахнул настежь дверцу и стал вываливать зелень на пол.
– Куда девалась петрушка? – нервно спрашивал я.
– Петрушка? – испуганно отвечала жена. – Но ведь ты не покупал никакой петрушки...
...Я долго еще рылся в зелени, не обращая внимания на встревоженное лицо жены. Я хорошо помнил пышные пучки, кудрявые и влажные. Лишь на некоторых веточках были слегка порыжевшие листочки...
Ткут половики в Паломе

Проселочная дорога бежит среди голубых полей цветущего льна, огражденных лесом, точно стенами. Из-за холмов и придорожной зелени деревни долго не видно, но внезапно она открывается вся целиком. Домики на гребне холма глядят белыми наличниками из-под старых, развесистых деревьев. Зелеными лентами лежат перед деревней огороды, замкнутые темными строчками изгородей. Правее уходит к горизонту зубчатая полоса леса. А над всем этим – громадное яркое небо с мощными клубами облаков.
Войдя в Палому, попадаешь в замкнутое пространство, где дома как бы объединяются в единое целое. Чувствуешь себя словно во дворе – кругом теплые деревянные стены, под ногами плотный ковер гусиной травы, скамейка под липой, колодец с журавлем. Улица так коротка, что взгляд, охватив ее, упирается в ворота околицы. Вероятно, особенно уютной деревня кажется еще и по контрасту с простором окружающих полей.

Палома едва ли не самая маленькая из окрестных деревень. Десяток домов всего, и некоторые из них уже разобрали, чтобы перевезти в село Угоры, туда, где сельсовет, школа, магазин и «большая» дорога, ведущая в райцентр.
За хлебом и прочими продуктами жители Паломы ездят поочередно на лошади, труднее ребятишкам – надо каждый день в любую погоду бегать за шесть километров в школу, а зимой здесь сильные морозы, весной и осенью – распутица, топкая дорога. Вот и переселяется постепенно Палома, лесная деревушка в Костромской области, убывает с каждым годом. Есть планы перевезти ее всю разом, соединить с другой, укрупнить. Но пока она еще стоит...
Палома и в прошлом не была особенно велика. Когда-то поселился возле самого леса лесник, от него и пошла деревня. Потомки того лесника-первопоселенца – Соколовы – живут здесь и по сей день. Соколовы да Скворцовы – вот две основные фамилии в деревне, почти все жители тут в родстве друг с другом. Большая часть населения Паломы – люди пожилые, всю жизнь проработавшие в колхозе. Народу немного. Но это зимой. А летом деревня становится многолюдной, приезжает в отпуск родня: дети, внуки, племянники, из Иркутска, Москвы, Севастополя, Казахстана. И тогда видишь, что Палома прочно связана с миром; словно ниточки тянутся отсюда родительская любовь и участие во все края страны, туда, где живут дети.
Рано утром воздух в Паломе пахнет чуть-чуть яблоками и хвоей. Лес-то рядом. Переходишь по скользким бревнам ручеек. – речку Чернушку – и входишь в него. Несмотря на летние заботы – огороды, сенокосы, жители Паломы стараются каждый день хоть ненадолго сбегать в лес. Не только ради грибов и ягод, хотя их тоже надо запасти, натаскать на всю зиму и детям послать. Ходят в лес ради его красоты, ради душевного настроя. «День не схожу в лес, и будто не хватает чего-то», – можно услышать в Паломе. В лесу страшновато. Опасаются наткнуться на медведя или, того хуже, на медведицу с медвежонком, боятся заблудиться, «закружиться» в бессолнечный день, что здесь проще простого. А все равно идут. Никогда не надоедают знакомые с детства дороги: «на Кондобу» – глухую лесную речку, «на Чистобор» – так называется великолепный бор-беломошник с колоннадами сосен. В середине лета на лесных дорогах весело играют пятна света и тени, блестит вокруг зеленая листва, вплотную подступают высокие травы и малинники. Ближе к осени пестреет лес желтыми и красными листьями, гроздьями рябины, из травы выступают ряды волнушек, которых «хоть косой коси», и красные головки подосиновиков. В лесу местами сплошной черничник, осыпанный темными ягодами. Заросли голубики на болотах. А на старых вырубках алые россыпи брусники. На всех тут хватает лесных даров, носят и носят ведрами всякую благодать – и все равно целые ягодники нетронутыми уходят под снег.
А зимой, когда много свободного времени, ткут женщины в Паломе половики. Ткать умеют все, еще девчонками выучились у матерей. Прежде из тонкой льняной пряжи ткали на сарафаны, рубашки, полотенца, скатерти и простыни, рядно для мешков. Ткали и дорожки. «Всю зиму работали, «пластались»,– вспоминают женщины. Да и летом много труда отдавали льну, надо было его посеять, вытеребить, вымочить, размять, расчесать и только тогда уже прясть. Все это, конечно, делалось вручную. Сейчас, разумеется, свой лен никто не сеет и полотно больше не ткут; отпала необходимость в этой тяжелой работе, но осталось умение ткать, привычка к этому занятию. Зимние дни без него кажутся пустыми. Вот и ткут половики. Так прежнее ремесло, входившее в женские обязанности, приобрело характер творческого занятия «для души», стало радостью свободного часа.

Ткут уже не из льняной пряжи, а из тряпок, окрашенных в разные цвета, нарезанных на тонкие полосы и скрученных. В качестве основы берут простые катушечные нитки. Изменился не только материал, из которого ткут половики, изменились их размеры и рисунок. Половики теперь ткут широкие, шириной до 80 сантиметров, специально ради этого старые кросна переделывают. Скорей всего так делают потому, что половики перестали быть только дорожками, которыми застилают пол, их назначение стало более разнообразным – ими покрывают диваны, вешают как ковры над кроватями. Но для этого не совсем годится традиционный узор в виде разноцветных поперечных полос. Некоторые мастерицы делают новый рисунок – шашечный, из квадратиков (не без влияния, конечно, фабричных пледов и покрывал).
За день опытная мастерица, работая не отрываясь, может наткать до трех метров. Скапливаются за зиму в чуланах огромные рулоны половиков по тридцать с лишним метров. Вынесет женщина напоказ такой рулон, с гордостью за свою работу раскатит его по комнате. «А вот еще и так делаю, так могу!» – метнет под ноги другой мастерице. И вот уже вся комната полыхает красками, нарядная, праздничная. Кто выводит шашечный рисунок, кто ткет традиционные полосы, но все половики глубоко самобытны, и каждая из мастериц выражает в них себя.
Взять хотя бы половики Антонины Алексеевны Скворцовой – какой удивительный вкус! Их пестрая клетка вызывает в памяти лесные делянки, освещенные солнцем. В цветовых переходах ощущаются движение леса, шелест листьев под ветром. Продольные полосы – как большие лесные дороги, которые принимают цвет окружающего леса, а поперечные – точно лесные дорожки, пролегающие по мхам, травам, брусничникам. И снова появляются ассоциации – так и видишь желто-красную листву осин, зеленые березки, темный ельник...
У мастерицы могло и не быть осознанного стремления передать впечатления от леса, просто зрительные образы западают в душу и находят потом свое выражение.
Совсем другие половики у Екатерины Александровны Соколовой. Я привезла в Москву те и другие. Половики Антонины Алексеевны можно было постелить и на диване в кухне, и на тахте в комнате, всюду они были к месту, вносили легкое, веселое настроение и облагораживали стандартную квартиру. А вот с половиками Екатерины Александровны было сложнее. Куда их ни положишь, они все кругом забивают, врываются торжествующей, прямо какой-то языческой радостью, и блекнет все, что есть в доме... Ее половики – это откровенная домоткань, ручная работа, так отвечающая современному стремлению видеть теплоту ручного творчества в предметах, которые нас окружают.
Они очень просты по рисунку и цвету: чередуются две широких поперечных полосы – красная и темная, где красный цвет наложен на синий. Да две желтые продольные полоски проходят по краям. Вот и все. Но простота этой традиционной по характеру вещи кажущаяся, в ней глубокое и непростое содержание. Таким же внешне простым, однообразным может показаться на первый взгляд эпос, а ведь он содержит духовный опыт целого народа, отражает его отношение к жизни. Но стоит вчитаться в него, как поражаешься его глубине, емкости образов, художественному совершенству.
В работе Соколовой простота того же плана – глубокая. Это выражение мощной жизнеутверждающей силы, которая все преодолевает. Красный цвет проходит по всей ткани, он покрывает синие полосы, умиротворяет, сглаживает их, не позволяет им отрываться от себя. Он словно добро, перекрывающее все злое и темное.
Размеренный ритм полос, ясный, спокойный, тяжеловатый, вызывает представление о долгом пути или о самой жизни как о пути, в котором чередуются светлое и темное, тяготы и радости. Явственно ощущается неослабевающая энергия этого движения, уходящего в бесконечность...
Переработка жизненных впечатлений здесь идет на глубоком, можно сказать, философском уровне.
В противовес этому в работе Скворцовой отразилась радость прямого впечатления, часа, дня, она одномоментна, замкнута, конечна.
Но, как ни различны работы мастериц, в них есть нечто общее, порожденное образом жизни, близостью к природе, спокойным чередованием труда и отдыха – всем тем, что дает ясный душевный настрой, которого так не хватает порой нам, горожанам, живущим вдали от полей и лесов.
И. Рольник
Костромская область
«Бедные белые» острова Реюньон

Тысячелетиями извергавшаяся лава создала рельеф острова Реюньон: высокие горы внутренней части, разрезанные долинами, тесными и глубокими, крутые обрывы, небольшие плато – и узкая ровная прибрежная полоса. Берег завален глыбами застывшей лавы, и те же гигантские глыбы усеяли дно прибрежного мелководья. Оттого и нет на острове удобной естественной гавани.
Потому-то многочисленные мореплаватели даже не пытались высадиться на этот необитаемый остров, затерянный в Индийском океане в шестистах километрах к востоку от Мадагаскара. Они ограничивались тем, что, нанеся его на карту, устремлялись дальше по бурным волнам в поисках более удобных и богатых земель. Впрочем, даже не видя в острове никакой пользы, капитаны не забывали дать ему имя.
Первым «крестным отцом» был капитан португальского судна «Санта-Аполлония», некто Лопиш да Оливейра. Свое имя он уже увековечит незадолго до того, как поросшие густым лесом горы нового острова выросли перед ним из океана. И теперь, не ломая долго головы, он решил вписать на географическую карту имя своего корабля.

Санта-Аполлония просуществовала восемнадцать лет, пока в 1545 году соотечественник Лопиша, капитан Маскареньяс, не дал острову свое имя. А поскольку через несколько лет он открыл и нынешний остров Маврикий, название распространилось и на него. Имя так и осталось на карте: Масчаренские острова. Однако каждый из островов впоследствии получил свое новое имя.
Какое-то время просуществовало название Форест оф Инглэнд – Английский лес. Очевидно, капитану Кэстлтону, которому Маскареньяс открылся в марте 1613 года, зеленые здешние леса напомнили далекую родину. Но и англичанин даже не попытался высадиться на берег, чтобы установить там британский флаг.
Двадцать пять лет спустя французский корабль «Сэн-Алексис» бросил якорь неподалеку от острова Форест оф Инглэнд. Французские моряки на шлюпке добрались до берега, водрузили флаг с королевскими лилиями и, объявив остров владением Людовика XIII, нарекли его Бурбоном (в Париже, впрочем, название утвердили только в 1649 году). Под этим именем суждено острову было пробыть довольно долго – примерно столько же, сколько процарствовали еще Бурбоны.
Франции принадлежал тогда и Маврикий. С 1642 года французы начали заселять оба острова.
Одни переселенцы отправлялись в долгое трехмесячное плавание добровольно, со всеми пожитками, с женами и детьми. Люди более состоятельные предпочитали Маврикий, где было больше удобной для крупных плантаций земли.
Другой поток переселенцев шел на Маскарены из Африки и с Мадагаскара: в зловонных трюмах невольничьих кораблей везли рабов – негров и мальгашей.
Плантаторы на Маврикии покупали их сотнями. Фермеры на Бурбоне – даже самые зажиточные – редко приобретали больше, чем два десятка: приученные к экономности и труду на старой родине, они не брезговали и сами физической работой на собственной земле.
Земли на Бурбоне не хватало, хозяйства прижались к берегу. Закон запрещал дробить участки, полученные по наследству, так что ферма оставалась старшему сыну, а младшим приходилось искать себе пропитание на стороне. Шаг за шагом, осваивая горы, продвигались французы в глубь острова. У каждого переселенца только и было что два-три раба, осел, иногда вол. В горах сводили лес, распахивали ровные участки на крошечных плато величиной с два носовых платка. Власти поощряли освоение острова и даже помогали для этого приобрести – тем, у кого не было, – двух рабов.
Дела у жителей гор шли по-разному, земля, удобренная сначала золой сведенного леса, через несколько лет переставала родить, а податься уже было некуда.
И многие белые семьи в горах существовали лишь на то, что сдавали внаем своих немногочисленных негров. Больших доходов при дешевизне рабского труда это не давало.
Зато идти самим в батраки белым горцам не позволяла гордость: одно дело работать на своем поле, другое – на чужого хозяина. В глазах общества это низводило белого до уровня негра. А рабы в те времена перечислялись в списке сельскохозяйственного инвентаря где-то между волом и плугом.
И довольно скоро на острове распространилась весьма странная категория людей: более голодные, чем невольник на хорошей плантации, не имеющие ни доходов, ни занятий, но категорически отвергающие саму мысль о физической работе. Так появилась на острове прослойка населения, называемая «бедными белыми».
История тем временем не стояла на месте, и в революционном 1793 году остров Бурбон стал островом Реюньон. По-французски это значит «соединение», и название это должно было увековечить одно из важных событий революции: соединение марсельских волонтеров с революционными парижанами. Но хотя во Франции провозглашены были «свобода, равенство и братство», на новоокрещенном Реюньоне рабство не отменили.
Название острова менялось еще только один раз: в 1815 году патриотически настроенные реюньонцы провозгласили, «что отныне и навеки остров будет именоваться Бонапарт». Через два дня на острове высадились заклятые антибонапартисты – англичане. Да и Париж, где вновь к власти пришли Бурбоны, конечно, тоже не поддержал островитян.
С тех пор остров остался Реюньоном, и именно под этим названием он нанесен на все карты мира. (Если не считать случая, когда лиссабонские картографы времен Салазара в приступе казенного патриотизма выпустили «Атлас мира», где всем топонимам возвращено было «исконно португальское» звучание. Тут вместо Реюньона был «Ислади Маскареньяс».)
Эпоха бурного колониализма создала на островах Атлантического и Индийского океанов пестрое население: потомки белых переселенцев, негров-рабов, индийских батраков, китайских кули. Цвет кожи человека до сих пор определяет его место в обществе на многих из них: чем светлее кожа, тем выше положение. Но светлокожих обычно на островах не так уж много. Кроме Реюньона. Здесь белые составляют половину населения.
На большинстве островов белый если и не прямо принадлежит к правящему классу, то, уж во всяком случае, состоятелен. На Реюньоне европейское происхождение объединяет и элиту, и беднейших из бедных.
В 1848 году декретом из Парижа рабство на Реюньоне было отменено. Владельцы, правда, получили компенсацию за свою собственность, но быстро ее проели. И сотни горских белых семей лишились последнего источника дохода.
На побережье возделывали сахарный тростник, крупные плантаторы поглощали мелких, и те, чтобы не работать бок о бок с бывшими своими рабами, предпочитали переселяться в горы. А освобожденные негры все ушли к морю.
Лес на острове давно свели, и голые вулканические кручи имеют вид печальный и дикий. Но любая более или менее ровная площадка возделана и засеяна кукурузой, луком, чесноком. И геранью-пелларгонией. Остров Реюньон – крупнейший в мире поставщик гераниевой эссенции, необходимой для французских парфюмеров. Нарубленные листья герани давят, насыпав в кадку, босыми ногами, потом сгущают сок на костре из сучьев тамаринда. Поскольку скупщикам трудно добираться до крестьян по горным тропам, эссенцию в бутылях относят в город Сен-Дени – столицу острова. Герань дает возможность перебиться «бедным белым». Но только перебиться.
Даже в самых удачно расположенных районах детям приходится добираться до школы часа по три. В более глухих местах школ просто нет, и неграмотность среди «бедных белых» выше, чем среди прибрежных темнокожих.
В воскресенье горцы спускаются по узким тропам на рынки Сен-Дени и других городков и продают там свой небогатый товар: бобы, горох, чечевицу, огурцы, курицу или гуся. Малорослые и тощие, с коричневой, продубленной зноем и ветрами кожей, они даже внешне непохожи на тех европейцев, которые живут в городах, и те четко различают «их» и себя. Вечером «бедные белые» напиваются дешевым ромом в харчевнях, куда не ходят ни негры, ни индийцы.
Не дай бог спросить у горца: не было ли среди его предков цветных? Такой вопрос – самое страшное для него оскорбление, ведь европейское происхождение – единственное, чем он обладает.
«Бедный белый, – говорили на Реюньоне в прошлом веке, – это тот, у которого за душой ничего, кроме двух негров да мятой шляпы».
Рабов-негров у горцев больше нет. Осталась только мятая шляпа...
Л. Ольгин








